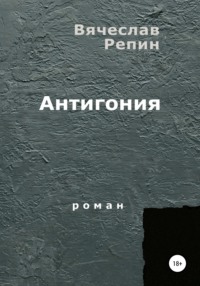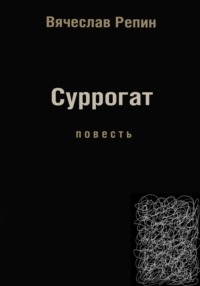Полная версия
Ловец удовольствий и мастер оплошностей
* * *
За день до приезда де Лёза главной моей целью было купить хорошее мясо, чтобы накормить его обедом, найти приличное вино и побольше хорошей питьевой воды, да еще и «не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома…». Этот риск был вполне реальным от одних поездок на машине мимо дачных заборов. Безутешные мысли так и лезут в голову, когда сидишь за рулем в распутицу и проезжаешь через подмосковные деревни, сиротливые, безлюдные, почерневшие от сырости и времени.
Когда я писал свой первый роман, главным мне казалось издать его в том издательстве, книги которого (полное собрание сочинений Л. Толстого в ста с лишним томах) я увидел в книжном магазине на Тверской, да еще и получить такой гонорар, чтобы его хватило на оплату задолженностей по коммунальным платежам в Париже, накопившимся за съемную квартиру, тогда еще с адресом в семнадцатом округе.
Когда я женился, мне казалось важным остаться прежним, вчерашним, свободным. Не стать животастым папашей, не превратить всё в рутину, в том числе и законные постельные утехи, говорил я себе, после которых иногда не хочется уже ничего. Мне тогда казалось важным не стать представителем «среднего» класса, сохранить неизменными отношения с прежними друзьями и подружками, количество которых таяло на глазах. Вместо них появлялись более обеспеченные, более именитые и более похожие на меня самого. И уже тогда появилась первая усталость от всего «среднего». Всё среднее быстро пресыщает, но остается чувство, что живешь впроголодь.
Позднее, когда впервые по-настоящему понимаешь, что невозможно испробовать всего, что жизнь требует избирательности, самоограничения, приходится на ходу менять местами приоритеты. И тогда ограниченность всего плотского, телесного уже не выглядит теорией, придуманной грешниками, которым посчастливилось вымолить себе прощение.
С сытостью теряешь стимулы, без которых всё останавливается. Два шага – и уже можно потеряться в самом себе. Человек, подобно некоторым элементарным частицам, существует только в движении. Главное в жизни не терпит завершенности…
Я уехал из Советского Союза летом восемьдесят пятого года. Французский консул, курировавший мой отъезд, вышел из кабинета вместе со мной, чтобы проводить меня до лестницы. На прощанье пожимая руку, он даже слегка обнял меня, прежде чем неловко добавить, что его сыну столько же лет, сколько и мне. А когда я спустился в нижний холл консульства на Якиманке, то услышал над головой робкие аплодисменты. Сотрудники, одни женщины, откуда-то узнавшие о моем визите, вышли из офисных каморок на внутренний круговой балкон, чтобы молчаливо выразить свою солидарность – не со мной лично, никто из них не был со мной знаком, а с самим фактом, что кому-то удалось добиться невозможного, вырваться из системы, из несвободы, – так я тогда считал. И в тот миг я подумал, что мне, видимо, действительно по-настоящему повезло. Тогда я еще не понимал, что это и есть гордыня.
Консул снабдил меня странной по тем временам визой. По прилете в Шарль-де-Голль visa d’établissement (на поселение) привела запаренного от духоты пограничника в такое недоумение, что он позвал на помощь коллег в штатском, в костюмах, которые без акцента говорили на языке этой книги.
Мой приезд во Францию пришелся на летние отпуска и попал в пик журналистского спроса. Любителям листать газету за утренним кофе в это время скармливать особо нечего. И пару дней, пока обо мне не забыли, я видел свой лик – удивленно глазеющего на знойный Париж русского изгоя – в стеклянных витринах газетных киосков. Даже «Пари-Матч» умудрился выкупить фотографии у какого-то фрилансера, который позвонил Мишель, моей тогдашней половине, прямо в дверь и попросил дать ему возможность заработать. Его снимки, полупрофессиональные, были вскоре напечатаны в полные развороты – нелепые, каникульные, со слезливым амурным душком, которого никогда не было в наших с Мишель отношениях.
Стояла умопомрачительная жара. Жара длилась весь месяц и спала лишь к тому дню, когда мы с Мишель, наконец, поженились. Мы расписались уже в Париже. Вроде бы уже и незачем. Она уже вытащила меня из проруби моего советского прошлого. Брак был формальностью. Но так было правильнее. Почти автоматическое и скорое получение гражданства, без которого по Европе особо не покатаешься, тоже становилось формальностью.
В те дни как-то вечером, находясь в гостях у американского друга Мишель, художника, мы втроем курили и распивали у окна красное бургундское вино. И нас вдруг заинтриговало неожиданное скопление людей внизу на проезжей части. На тихой узкой улочке, пересекавшей один из кварталов Марэ, появилась безмолвная, медленно движущаяся процессия. В самой гуще толпы внимание привлекала лысина с темноватым пятном.
Я вдруг узнал Горбачева. Сначала я, правда, не поверил своим глазам, хотя и знал по новостям, что он находится с визитом в Париже. На родине я видел генсека только по телевизору. Одно это давало почувствовать, что такое свобода – примитивная, буквальная, какая-то даже физическая, осязаемая. Париж выравнивал всё, даже такой немыслимый разрыв в социальном статусе людей, которые никогда и ни в каком другом месте не смогли бы физически оказаться на столь близком расстоянии друг от друга, не ближе, чем на длину километрового официального картежа с охраной…
Мой отец оставил нас с матерью одних, когда мне было три года. И я всю жизнь считал, что он правильно поступил. Потому что мать смогла выйти замуж за человека, которого по-настоящему полюбила и с которым прожила до конца своих дней. Мне же это позволило стать сыном офицера, пусть приемным, и научиться с детства многим вещам, которые недоступны детям в обычных семьях: вставлять обойму в «Макаров», водить «ГАЗ-69» в возрасте, когда руль еще мешает смотреть на дорогу, ездить на ночную рыбалку, на охоту. А еще ценить некоторые правила жизни, с которыми позднее я чаще бывал в раздоре, но вряд ли с ними расставался. И вообще говоря, без всего этого я бы никогда не научился любить и идеализировать свою родину.
Правила – этого было больше всего. Некоторые из них я обнаруживал в себе лишь со временем, годы спустя. Мне, например, с трудом удавалось переносить вранье, хотя я и не был наивен и сам искусно умел и врать, и лгать, умел не путать одно с другим. Я был патологически несгибаем, горд, вынослив и самоуверен, чем мог навредить себе в самой обыденной жизненной ситуации, даже во время ссор с женой, с обществом.
Я выучился на германиста, с педагогическим уклоном, хотя не собирался посвятить себя ни тому, ни другому поприщу. Немецкий язык я пошел учить, чтобы сразу же, лет в семнадцать, найти себе какое-нибудь неординарное занятие и чтобы переплюнуть отца-отчима, который служил когда-то в Германии, любил говорить по-немецки, но не очень в этом преуспевал.
Мир быстро изменился. Родители быстро состарились. Мать умерла от болезни, когда ей было чуть больше, чем мне на день написания этих строк. Отец, старик стариком, после моего шумного отъезда за границу отовсюду уволенный, корпел все эти годы на своей дряхлеющей даче, решив прокормить себя с земли, как и многие сослуживцы. А может быть, просто не находил в жизни другого смысла после того, как стал вдовцом, и после того, как развалился его мир, его страна. Но так всё видится задним числом, когда всё давно позади.
Тогда же, в советское время, в годы моей молодости, мир разрывали противоречия невидимые. Мы жили с ними, как слепцы, не знающие, как выглядит палка, с которой они ходят, но воспринимали это как нечто само собой разумеющееся, потому что просто не знали ничего другого. А годы спустя оказалось, что главные противоречия, заложенные в саму жизнь, для всех одни и те же повсюду. Как для слепых, так и для зрячих. Главное не в системе, а в нас самих. И в этом есть что-то непостижимое, предначертанное.
Предначертанность проявила себя и в том, что Мишель, моя первая французская жена, вытащившая меня из омута моего советского прошлого, чтобы выйти за меня замуж, и прославившая меня в переменчивой среде министров иностранных дел и дипломатов, так и не нашла во мне своего счастья, ради достижения которого потратила столько сил.
В мире всё почему-то абсолютно – либо всё, либо ничего. Каждый миг, каждое чувство, каждое событие и перемена – каким-то невероятно образом всё жестко связано в одно целое, словно тесловский эфир. Не будь этого, реальность, наверное, постоянно рассыпалась бы перед нами в однородное, измельченное крошево, превращалась бы в невесомую бездну, в парящую прорву. У реальности нет другой альтернативы, нет запасного измерения. По-другому всё это существовать не может. Всё едино и единично.
Я всегда это понимал. Но не мог и шагу дальше ступить в понимании этих непостижимых закономерностей моей жизни.
* * *
Мишель могла проводить в постели дни и ночи напролет. Стройная, невысокая, щуплая, в те годы еще не утратившая привилегий своего возраста и той особой обольстительности, свойственной некоторым породистым француженкам, – Мишель все свои нужды сводила к постели. Секс для таких, как она, – вполне серьезное жизненное занятие. И она ставила его выше своего «я», выше своего благополучия.
Наши долгие утехи никогда не были однообразными. Мы хорошо друг друга понимали. Хрупкая двусмысленная игра, в которую постепенно перерастали наши плотские отношения, а с ними и все прочие, чем-то напоминала детскую пошаговую игру «брось кубик – двинь фишку». И даже десять-двадцать лет спустя воспоминания о тех днях вызывали у меня дрожь в руках. Всё это оставило во мне какой-то утопический, несбыточный привкус чего-то реально существовавшего, но упущенного. Не любовь, не слюнявые сантименты, а нечто упругое, здоровое, физическое – вот что нас связывало.
Литература, на которой я был женат втайне ото всех, незаконно, обрекала меня на двойную жизнь. И уже на первых порах это не сулило ничего хорошего. Хотя Мишель вряд ли в чем-то меня подозревала. Но уже тогда я начинал догадываться, что Мишель ни в чем не могла реализовать себя по-настоящему.
Иногда я с заминкой в душе вспоминал про Громыко, про обращения к нему послов и министров, просивших отпустить меня жить своей жизнью. Что бы он, бедняга, подумал о жизни вообще, о собственной судьбе, если бы узнал, ради чего все эти люди так пеклись и на что сам он тратил время? В этом проглядывала какая-то мучительная правда жизни, и она очень помогала мне ставить под вопрос свои спонтанные душевные порывы. Главное в жизни – это всё же не то, что мы привыкли называть громкими словами.
Одним словом, это могло бы продолжаться вечно. Одна беда – к сорока годам плоть увядает, и красота, не вся, но всё же немалая ее часть, начинает иссякать, хотя и говорят, что француженки в этом возрасте не стареют, а только еще больше расцветают, в отличие, скажем, от румынок или украинских раскрасавиц – несомненно, чемпионок на подиумах, если устраивать конкурсы и делать сопоставления на основе одних внешних данных, которых им досталось, конечно же, больше, чем всем остальным вместе взятым. И если такая женщина, немолодая француженка, не успела нарожать детей, пусть даже уже после тридцати или тридцати пяти лет, то жизнь свою она, считай, угробила.
Как бы то ни было, я довольствовался только ею и в реальности физически ни разу не изменил ей за время нашей совместной жизни. При одной мысли о нашем парижском окружении тех лет с его несметным количеством соблазнов, которые поджидали нас на каждом шагу, сегодня мне это кажется невероятным. Ведь постоянно и откуда ни возьмись появлялись молодые особы – русские и нерусские. Подруги друзей, жены знакомых. Некоторые из них внешне были намного привлекательнее моей жены. Но они мне казались стерильными, асексуальными.
С тех пор я навсегда усвоил простую истину: такие понятия, как «красота» и «секс», – понятия разные, в чем-то, наверное, пересекающиеся, но не больше. С тех же пор я твердо и навсегда вывел для себя, что даже если и остаюсь, как большинство мужчин, чувствительным к нормированным шаблонам женской красоты, усредняющим всё эталонное и одинаковое, я уже никогда не смогу испытывать влечения физического, природно-гормонального к смазливой внешности, к пустышеству. А именно это и является общепринятой нормой…
Я не мог дать Мишель того, в чем она нуждалась. Это становилось ясно как божий день. Очевидным было и то, что этого не даст ей ни один мужчина, ни один француз, по крайней мере из тех, кто окружал нас с нею. Но не шло ли всё к краху с самого начала? Не пора ли ей выгнать меня взашей? К моей незаконной жене – литературе. А мне – не раздумывая отправить ее сожительствовать с живописью и красками. Ведь Мишель была художницей, причем одаренной, и даже уже начинала выставляться, но недостаточно выкладывалась, не доверяла своему таланту.
Сам я давно зарекся не быть больше разрушителем, ни в какой форме. Ни семьи, ни своей судьбы, ни чужих иллюзий. Я понимал, что достаточно настроить себя на что-то другое и как следует этого захотеть, и всё меняется, как по мановению волшебной палочки. Из разрушителя ты вдруг превращаешься в созидателя.
Нечто аналогичное я наблюдал каждый день, когда пытался дать жизнь этому распространенному противоречию на бумаге, в своих сочинениях, заставляя своих персонажей пожить с этим противоречием и наблюдая за тем, что из всего получится. А получалось следующее: независимо от того, пишешь ты об условно «положительном» персонаже или об «отрицательном», текст всё равно расползается и разбухает в равной степени. Сюжет всё равно выстраивается. Литература вообще безразлична к морали. И это довольно поучительно. По форме всё, видимо, равноценно. Словом, я не хотел ничего менять сам. По большому счету я просто не хотел никакого отрицания. Оно отняло у меня столько лет жизни.
Но жить нам лучше было врозь. Детей я не хотел. Мне казалось, что мы наплодим безродных гибридов. Не русский, не француз, а какая-то помесь, – примеров вокруг предостаточно. К ней, к Мишель, я тоже больше не испытывал влечения. От Франции, от этого рая для беглых гениев и провинциальных гедонистов, меня уже как следует воротило, как от чашки эспрессо в каком-нибудь захудалом парижском кафе, из которой пахнет не арабикой, а чьими-то слюнями.
Живя в Париже, французов я сторонился, считал их мелковатыми, закомплексованным, скучными. Общался больше с простолюдинами, в которых еще сохранялась, как мне казалось, чистота и благородство той, другой, немного гасконской Франции, придуманной Александром Дюма и ему подобными. Да и то только для нас, для русских, чтобы нам, вечным мечтателям, было о чем мечтать, а другим, глазея на нас, будто в зеркало, было бы чему удивляться.
Я переехал жить в пустующую квартиру знакомого. Находилась она, правда, не в Париже, а в Версале. Дороговато, но куда деваться. Решение я принял разумное. К тому же я почему-то всегда хотел жить именно в Версале. Наверное, просто в силу своего неведения. Чем-то это слово мило русскому слуху. Совершенно неготовый к тому, что разрыв с женой в зрелом возрасте может привести к настоящему краху (ведь столько их уже было раньше, в молодости, и ничего!), около года я прожил в полном одиночестве, борясь с депрессией. Но такие недуги лечатся только временем или еще каким-нибудь более сокрушительным бедствием, какое обычно затмевает наши представления об отмеренных нам невзгодах. Это был не крах личной жизни, а крах всего моего существования.
За этот год я стал нищим и, по сути, бездомным. Мне с трудом удавалось платить даже за временный съем скромного жилья. Благо друзья терпимо относились к задержкам. Но именно замкнутый образ жизни, отсутствие каких-либо перспектив, и позволил мне закончить свой первый настоящий текст.
Роман вскоре вышел. Правда, пришлось протереть не одни джинсы, переписывая его от начала до конца, и сносить не одну пару кроссовок в аллеях парка при Версальском замке, чтобы в голове, на ходу довести текст до нужной формы. Особое пространство необъятного парка, бесконечная перспектива и нечто крестообразное, наподобие формы самих водоемов, без которых парк никогда бы не выглядел таким бесконечным, – это чувствовалось даже в построении моего романа. В нем тоже просматривалась перспектива и тоже бесконечная, как в зеркале, в котором отражалось другое зеркало…
Мишель же уехала жить в Бразилию. Как я понимал – откликнулась на зов подруги, к которой привязалась еще в ранней молодости. С тех пор та успела стать знаменитой местной поэтессой. Жили обе в Рио, вдвоем веселее. Бразилия и вся эта «дольче вита», были еще в моде. Правда, до меня доходило, что Мишель часто болела. Чем именно – выяснить не удавалось. Общие знакомые все поразъезжались. А сама она мало давала о себе знать…
* * *
Ванесса – пока я не знал, как ее зовут, – ела мороженое в кафе Версальского парка, которое новичок сразу даже и не найдет в лабиринте из высоких зеленых насаждений.
Незнакомка была одна. Когда ей принесли счет, выяснилось, что платить ей нечем – кошелек украли. Я сидел за соседним столиком, допивая кофе, заказанный только ради стакана бесплатной воды, и внезапные женские слезы, диссонировавшие с атмосферой полной расслабленности, которая царила в пустовавшем примузейном кафе под открытым небом, меня поразили больше, чем сама мысль о том, что в этом месте, в Версальском замке, человеку могли обчистить карманы. Я всегда здесь чувствовал себя, как у Христа за пазухой, и ни о чем другом не думал, кроме как о своих сюжетах, текстовых набросках, которые только здесь мне и удавалось наговаривать на диктофон, на волнах вдохновения выжимая из себя сносные фрагменты для последующей работы. На что тогда вся охрана, да еще и мобильные наряды CRS[3], дежурившие в парке сутки напролет? Даже после закрытия всей территории в отдаленных уголках водоемов в форме креста можно было наткнуться на их сине-белый патрульный фургон, в чем я не раз смог удостовериться, опаздывая к калиткам до закрытия.
В больших черных очках, белокурая, в юбке с голыми белыми ногами и в чем-то легком шерстяном поверх плеч – девушка походила на туристку из Скандинавии. Таков был тип лица – правильного, с коротким и будто из мрамора выточенным носом. Типажу соответствовало и телосложение, немного суховатое и аскетическое, несмотря на нормальную, не девичью комплекцию, без нимфеточной костлявости и без просвета между ног, через который могла бы проскочить, как бывает, юркая собака. Но оказалось – француженка. Правда, с польскими корнями. А покопавшись еще – получалось, и с русскими: одна из ее прабабушек училась в институте благородных девиц в Воронеже…
Подробности ее родословной я узнал в нашу первую прогулку, на которую она как-то нелепо, с некоторой беспомощностью согласилась по выходе из бюро находок, куда я напросился проводить ее в первый день знакомства: а вдруг полиция поймала пик-покета с ее вещами.
Она мне нравилась. Но не как женщина, уж слишком была крепкого, почти спортивного сложения, тогда как я по старинке пришибал за стройной худобой. Но у нее была удивительная, какая-то неожиданно светлая улыбка, от которой она морщила свой строгий нордический лоб и оголяла розоватые десны, прежде чем расцвести щеками, всем лицом. Светло-серые глаза всматривались всегда с игривой иронией и некоторым недоумением. Улыбка, в общем-то, редко сходила у нее с лица в светлое время суток.
Мы шлялись по парку почти каждый день. Она жила в предместье Версаля, в аккуратном двухэтажном домике, окруженном настоящим зеленым сквером, квартиру в котором, студию с американской кухней и антресолью, сдавал ей молодой предприимчивый архитектор.
Недавно получив какой-то промежуточный диплом врача, до завершения медобразования Ванесса работала к клинике в Виль-д’Авре, почти по соседству. Ставка была не полной, внештатной. Поэтому она мечтала найти что-нибудь получше, с нормальным окладом. Она успела побывать замужем. Родители ее жили в Страсбурге. Единственным по-настоящему близким ей человеком была ее сестра, на пару лет ее старше. Но у той уже было трое детей, и общаться становилось трудно: семейный быт, неурядицы с мужем, – жизнь сестру, что называется, засосала. И наконец, самое интересное – по крайней мере, в моих представлениях – заключалось в том, что еще с юности Ванесса пыталась писать сама. Думаю, что это и заставило нас подружиться как следует. «Книжный» дух, стоит с ним однажды соприкоснуться и уж тем более проникнуться им, стоит отважиться на самостоятельные пробы пера, в человеке после этого неистребим, даже если сам он этого о себе обычно не знает. Отпечаток остается на всю жизнь.
Вечерами Ванесса приезжала к парку на своем синем «пежо», иногда прямиком с работы. Я, как правило, ее уже дожидался. Парковалась она не там, куда обычно пытаются заехать все, кому не хватает места на главной платной парковке, – не у зданий, в которых проходят съезды небезызвестного Бильдербергского клуба, а на бесплатной стоянке перед парком справа. Оттуда мы попадали в парк через боковой вход. И уже вскоре мы привыкли проделывать вместе километры. В обход «креста» из водоемов расстояние для пешей прогулки получалось совсем нешуточное.
Так же естественно, но это произошло совсем не сразу, мы оказались однажды у нее дома, где я раздел ее, осмотрел, немного как на приеме в медучреждении, где она работала, и, не дав ей сходить в душ, очень долго стяжал ее упругое тело с развитым тазом и крохотной девичьей грудью…
* * *
Ничего более святого, чем книги, литература, не было для Ванессы на всём белом свете. Оставалось удивляться, почему она пошла учиться на медика.
Она не понимала, уже немного разобравшись во мне, почему мне так трудно печататься – как на родине, так и здесь, на Западе. Ведь помимо того что я был врожденным, самоотверженным графоманом, что наделяло меня, вопреки расхожему мнению, всеми шансами выбиться в знаменитости, потому что это отсекает пути к отступлению, – так она считала, – помимо того что я был еще и на редкость продуктивен, ведь я писал вроде бы солидные, увесистые «вещи», к тому же совершенно ни на что не похожие, которые производили впечатление абсолютно на всех, причем на людей самых разных, а это казалось Ванессе важнейшим плюсом, – своей прозой, уверяла она, я попросту «реабилитирую» русскую литературу постсоветского времени. По крайней мере, в глазах тех последних долготерпимцев, кто еще пытался в современных русских книгах найти хоть что-то, кроме провинциального нытья, рекомендаций, как и зачем есть мухоморы, и какого-то стойкого, не книжного, а ножного запаха, каким разит иногда от пребывающих на носилках в отделение скорой помощи. В своих оценках Ванесса бывала беспощадна.
Всё остальное жалкое экспериментаторство современных русских писателей отдавало временами наезда русских танков на авангардистскую Чехословакию, со всей бредовой болтовней про расплывчатый постмодернизм, который в Европе, где он появился полвека тому назад, давным-давно канул в Лету вместе с модой на расклешенные брюки. И не по этой ли причине в подходе русских к литературе чувствовалась противоестественная мешанина, что-то не просто позаимствованное или навязанное со стороны, а чуть ли не кровосмесительное. Так вот чехи смешались со словаками. Сербы с хорватами. Поэтому и говорят на сербохорватском. А куда им деваться? Всё одно – славяне. С кого тут спрашивать?.. Так вот Ванесса и рассуждала. Иногда я внимал ей с открытым ртом и только разводил руками.
Она не ошибалась только в одном: в интуитивном нежелании копаться в русских «измах» последнего времени. Как типичный западный читатель, она не знала, что такое постмодернизм, и не интересовалась подобными вещами. Сам же я, пройдя через ту же школу жизни, что и все, – через все эти «школы для дураков», в которых учишься чему угодно, любым творческим пакостям, но только не письму, – с годами я научился понимать, что это явление, постмодернизм, есть не что иное, как заимствование, да еще и перенесенное на почву отрицания и нигилизма, старого и совсем недоброго, который имеет очень давние корни. А вот само это русское явление – нигилизм – сегодня почему-то никому ни о чем не говорит, даже самим русским, страдающим, как известно, короткой памятью.
Во время наших прогулок я объяснял Ванессе, хотя и сам не до конца это понимал, что нет ничего более странного, непредсказуемого, чем судьбы литературных произведений, да и вообще произведений искусства, если между этими понятиями можно проводить хоть какие-то параллели.
Один из примелькавшихся во Франции русских писак, из тех, кто устраивает и ваших и наших, когда-то учился практически вместе со мной, на параллельном факультете. Но меня с треском отчислили. А он доучился до победного конца. Писал он средние, простенькие вещи, предназначенные для простоватой западной публики, для тех, кто любит ходить в кино, переписывается через фейсбук[4], доверяет дешевым китайским ресторанам и перестановкам в правительстве. «Коллега» регулярно появлялся на парижских тусовках, а однажды я обнаружил, что в книжном магазине у меня под домом ему устраивают «встречи с читателем». Мир и здесь, в Париже, становился тесен. Сквозь витрину магазина, с тротуара, бросалось в глаза, что он постарел. Мог ли голубчик предположить, если вообще помнил о моем существовании, что я живу в соседнем доме, что в эту минуту я наблюдаю через стекло, как он, стараясь быть своим в доску, вылитый симпатяга, плетет через переводчика что-то невнятное о сюжетах своих скороспелых «книжек» на радость публике из разведенных дурёх, ублаженных самой возможностью убить вечер не у телевизора, не в одиночестве, – типичный контингент для «культурной жизни» Парижа. Вот так и устроен мир подлинный, правильный – мир без кавычек. Орбиты в нем сплетаются, но не смыкаются.