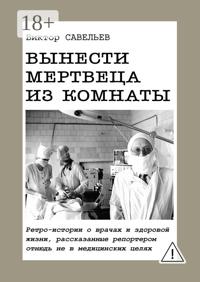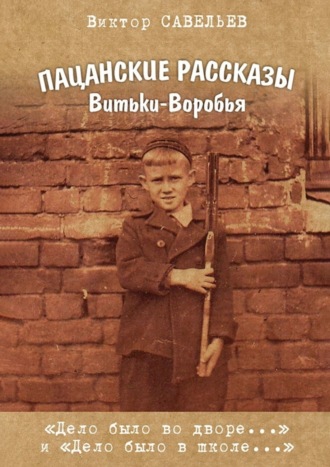
Полная версия
Пацанские рассказы Витьки-Воробья

Пацанские рассказы Витьки-Воробья
Виктор Савельев
© Виктор Савельев, 2023
ISBN 978-5-0060-0002-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Часть I
ДЕЛО БЫЛО
ВО ДВОРЕ…
БУТЕРБРОДЫ МОЕГО ДЕТСТВА, или с чего всё началось
А началось всё с бутербродов, которые мы ели во дворе. Самых вкусных на свете – их даже можно делать самому. Надо только потолще намазать булку маслом, а сверху посыпать крупным сахарным песком. Он сразу к маслу прилипает! Можно, конечно, и низ булки намазать – только такой бутерброд уже не сунешь в карман, и прыгает он из пальцев как живой. Как лягушка. Поэтому сиди и ешь его на кухне – а какой интерес есть дома одному? С бутербродом интересно – это все знают – идти на улицу!
Все мальчишки со двора сразу становятся твоими друзьями. Они бросают все игры и бегут к тебе:
– Сорок один – не ешь один! – кричат. Это присказка такая.
Или:
– Сорок два – дели на два!
Или то же, но в других словах:
– Сорок восемь – половинку просим!
И тут по дворовым законам отдавай половинку крикнувшему мальчишке – это уж такой святой закон, что даже первый обжора, толстый Петя Круглов, со вздохом ломает свою намазанную слоем в палец жирную краюху на две почти равные части. Конечно, некоторые ребята именно Петьке стараются крикнуть: «Сорок семь – дели всем!» Но это нечестно, потому что на Петю, отщипывающего со своей краюхи по кусочку для каждого пацана со двора, глядеть тоскливей, чем на больную корову. Или на собаку, у которой отобрали щенят…
Но это к слову, чтобы вы поняли, как мне обидно было жить: я с краюхами на улицу не ходил. У меня мама самая добрая на свете, но она считает это некультурным.
– Это что вы за моду взяли, – в ответ на мои просьбы говорила она, – с кусками бегать по улице! Словно вас не кормят… Ты мне хоть всех приятелей со двора приводи, всех угощу. Но только за столом, а не на улице!
А сами понимаете: какой мне интерес есть за столом? Даже с приятелями.
Но я – хитрый, я маму всё хотел обмануть. Один раз тихонько на кухне бутерброд намазал – и «покрышку» поверх масла из булки сделал. Чтоб завернуть. И р-раз его в форточку, чтобы мама из кармана не выудила, когда пойду гулять. Бутерброд ещё, наверное, до земли не долетел, когда я в незастегнутом пальто пулей вылетел за ним под наши окна. И чуть не заплакал от досады. Я, наверное, мало на него газеты навернул – не так, как делают наши дворовые женщины, когда выкидывают поесть из окна своим заигравшимся ребятам. Вот бутерброд по пути вниз и вывернулся из бумаги… Вечно голодная и путавшаяся под ногами у пацанов собака Жулька, обычно таскавшая кости с помоек, облизываясь, стояла у промасленной газеты и, морщась от сытости, роняла на обёртку слюну. Я хотел кинуть в неё камнем – но не кинул и не пнул, потому что у Жульки скоро должны родиться щенки, и мы про это все знали и никогда не обижали её.
На счастье тут Толик Егоров, мой сосед, вышел во двор играть в песок. У нас как раз перед сараями высыпали большущую гору песка – мы все катали в те дни полные «самосвалы» отличного мокрого стройматериала и растащили почти всю кучу на ботинках по всему двору.
Я тут же решил подлизаться к Толику: сделал такое лицо, что самому себя стало жалко, и стал просить:
– Послушай, Толяша, у тебя мама добрая. Ты попроси её булку с маслом в окно выбросить – а в следующий раз я тебе свою отдам…
– Это как же ты отдашь, когда тебе на улицу не разрешают? – удивился искренне Толик, который, когда его тётя Нина была во вторую смену, часто ел со мной на кухне наш борщ и хорошо знал мою строгую маму. – Или тебе стали разрешать?
– Ну конечно, стали! – соврал я как можно убедительней. – Завтра я тебе пять баранок принесу, идёт? Только ты покричи сейчас тёте Нине и попроси, чтобы она побольше кусок нам кинула. Ну чтобы на двоих…
– У нас сегодня к чаю большой батон куплен, – задумчиво сказал, потирая веснушчатый нос, Толик и посмотрел на свои окна, на пятый этаж.
Я понял, что клюнуло.
– Сорок три – дели на три! – тут же пискнул у нас за спиной чей-то тонкий голос. Мы оглянулись и увидели Николашу Крулева, единственного мальчика из нашего двора, которого мать водила учить на пианино и тоже ругала за некультурную еду во дворе. У Николаши глаза были ещё просительней и жалобней, чем у меня.
– Ну, ладно, прячьтесь, чтобы я был один! – совсем сдавшись, зашипел на нас Толик и, подняв своё лицо к окнам и сделав его несчастным, закричал вверх тем особенным жалующимся голосом, который каждая мать сразу различает в гомоне двора:
– Ма-ма! Мам, выгляни! Я бутерброд хочу!
– Ну чего кричишь? – высунулась в окно тётя Нина, которую мы с Николашей, спрятавшись за сарай, сразу узнали по басистым ноткам.
– Мам, бутерброд мне кинь!
– Да ты что, одурел? Только что вылез из-за стола…
– Мама, ну я не наелся! Ну, намажь…
– Вот чирий! – закудахтала и забормотала басом на весь двор тётя Нина. – Уж, погоди – вот только загоню тебя домой, всыплю!!!
Намазанный сердобольной рукой тёти Нины и завёрнутый в две газеты, бутерброд шлёпается у ног Толика, мы хватаем его и пулей летим делить за сарай.
– Погоди, чур, я его ломаю! – захлёбываясь от нетерпения и сопя, рвёт свёрток из рук совсем обнаглевший Николаша.
– Это почему ты? – возмущаюсь я и тащу газету к себе. – Пусти, не дёргай! Пусть лучше Толик делит – а не ты, балалайка!
– Какая «балалайка»? – обидевшись насмерть и борясь, кричит Николаша. – Я вовсе не на балалайке, а на рояле учусь…
– Осторожно! – подпрыгивает Толик и с отчаяньем хватается за голову. – Дер-жи-и…
Но уже поздно, бутерброд выпрыгивает из обёртки и смачно влипает масляным боком в песок. Мы, сразу забыв о ссоре, ногтями и щепками соскребаем ужасно липкую песочную смесь с белыми крупинками сахара и, перемазав ею свои пальто, отламываем себе куски. Есть их ужасно – мы плюём песчаными слюнями и давимся от смеси сладкого масла и вкуса земли, рты наши черны до невозможности – но, честное слово, нет в этот миг на земле людей счастливей Толика, Николаши и меня! Я ничего в жизни не помню вкуснее этих наскоро зажёванных, порой кусаемых по очереди где-нибудь за сараями краюх – бутербродов моего детства! Наверное, в них мамы с нашего двора и очень жалостливые бабушки, кроме масла и сахара, намазывали что-то такое, от чего аппетитный вкус горбушек, брошенных из окна в детстве, до сих пор ещё стоит во рту.
Плохо, если когда-нибудь его забудешь.
И вот однажды, много лет спустя, когда я уже вырасту во взрослого человека, я проснусь среди ночи с совершенно жутким аппетитом и большим желанием вспомнить вкус сахарного масла и булки – а может, и того песка, в который мы с Николашей уронили хлеб.
Желание было очень глупым, поскольку стояла ночь, и в доме все спали. Стараясь не скрипеть полами, я пошёл на кухню, намазал себе бутерброд потолще, посыпал сахарным песком – и с небывалой жадностью изголодавшегося по чему-то человека впился в него зубами…
Когда-нибудь и вам этого захочется, я клянусь!
Вот так я и сидел на кухне в тот раз, совершенно выросший взрослый человек, и чувствовал, что, несмотря на годы, где-то живёт во мне прежний мальчишка с нашего двора.
И тогда я решил рассказать о своём детстве. Чтобы вы тоже не забыли вкус тех бутербродов, что потом будут сниться вам и не давать покоя, – потому что детство всегда остаётся с нами. Я решил рассказать, как мы жили в нашем дворе – самом замечательном дворе на свете. Вот об этом моя книжка «Пацанские рассказы».
РЕБЯТАМ, МОИМ ЧИТАТЕЛЯМ

ХОЧУ ПОЖЕЛАТЬ ХОРОШЕГО ЧТЕНИЯ ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
О П Л Е У Х А
Мне было лет шесть-семь, не больше, когда мы жили в Ленинграде в старом-престаром дворе. Точнее, мы жили в шестиэтажном, дореволюционной ещё постройки доме, а двор находился за ним. Теперь таких дворов с чугунными оградами почти нет, и мне жаль современных мальчишек. А у нас был этот замечательный двор. Он начинался за домом и был обнесён грядой сараев. Ещё там стояла прачечная, «прачка», как мы её называли, и множество поленниц дров. Среди этих поленниц было удобно прятаться или строить в них секретные дровяные крепости с тайниками. Но это к слову.
Дело в том, что рядом с нашим домом, который числился по уличному ряду и звался всеми «дом двенадцать-бэ», стоял другой – «дом двенадцать-а», с ребятами из которого мы, мальчишки, были в сложных отношениях. Бывало, мы воевали чуть не полгода, и горе лазутчику из «двенадцать-а», если он попадётся на нашей территории. А случалось, мы объединялись с «двенадцать-а» в каких-нибудь совместных играх или вместе шли на «дом-десять». Словом, стрелка дворового компаса поворачивала то в одну, то в другую сторону, но в тот день, о котором я хочу рассказать, как раз была «война».
Не помню, из-за чего она началась, но за день мы имели стычки три с «двенадцать-а́шниками». Происходили они, в основном, через решётчатую чугунную ограду, разделявшую дворы, и велись артиллерийским огнём из камней и других метательных «снарядов». Был, должно быть, конец зимы, потому что мы где-то выковыривали камни и ледышки и некоторые из нас были ещё в шапках. Во всяком случае, я хорошо помню, что один меткий бросок окатанным и довольно солидным камнем-голышом достался одному из наших противников прямо по макушке, и все испугались такого меткого попадания. Но мальчишка тот, горбоносый и некрасивый, был как раз в ушанке, которая то ли мала ему была, то ли просто топорщилась пустой суконной шишкой надо лбом – и это, видимо, смягчило удар, потому что горбоносый только рассмеялся, как неубиваемый русский богатырь, и запустил в нас такой ледышкой, что мы все шарахнулись.
Словом, мы весь день так пуляли друг в друга с перерывами на другие игры – и весь день моим основным противником был краснощёкий толстый мальчуган из «дома двенадцать-а», который всё целил в меня, а я в него. Кажется, его звали Вовка-Помидор. Раза два Вовка слабыми комками умудрялся задеть меня, и раза два я ему отвечал тем же. Перейти к более решительным действиям и сделать набег или вылазку ни один двор не мог, так как среди нас, с той и с другой стороны, отсутствовали великовозрастные силачи-школьники, которые могли бы возглавить и привести к успеху это рискованное предприятие.
И вот в тот момент, когда у нас уже были на исходе «снаряды» и «дом двенадцать-а» теснил нас по всему фронту и даже подбирался к дыре между пограничной решёткой и каменным сараем, через которую и попадали в соседний двор, счастье вдруг переменилось и улыбнулось нам: на улицу вышел наш большой парень Васька Мухин, в то время, наверное, пятиклассник. Мы воспрянули: с таким подкреплением мы запросто могли одолеть всю противостоящую нам мелкоту.
– Васька! – заорали мы. – Нас «а́шники» бьют! Веди нас в атаку на их двор.
И Васька, схватив здоровенный кусок льда, повёл. Он сразу побежал к дыре в заборе, увёртываясь от летящих комков и пугая оборонявшихся своими замахами, и мы с дружными криками ринулись за ним в набег. «А́шники» позорно бежали, бросая «снаряды», которые могли бы быть истолкованы как продолжение враждебных действий их армии. Мы гордо вошли к ним во двор, а мальчишки из «дома двенадцать-а» частью попрятались в подъезде, а частью встали под своими окнами и начали кричать «Мама! Я маме скажу…» – но не очень громко, а так, чтобы мы, опасаясь более громких криков, не трогали их.
Сейчас же наши пацаны как победители стали подходить к сдавшимся противникам, толкать их плечами, понарошку замахиваться, словом, демонстрировать свою мощь и силу.
Я тоже подошёл к краснощёкому Вовке, с которым вёл дуэль и который не спускал глаз со своего окна на третьем этаже, готовый зареветь, если наши притеснения покажутся уж очень обидными.
– Ну, что? – сказал я ему и тоже толкнул его плечом. – Будешь драться-кусаться?
Помню, у меня дух распирало от моей храбрости, которая, как вы поняли, сильно выросла с Васькиным присутствием, и хотелось сказать или сделать что-то такое, чтобы этот краснощёкий Помидор знал, с каким героем имеет дело.
– Ну, будешь? – я толкнул ещё раз и краем глаза посмотрел на Ваську, который ходил тут же и являл собой нашу силу и захватнический террор.
Васька поймал мой взгляд и, вытерев кулаком сопли на губе, тоже взглянул на меня одобрительно и прикрикнул командным тоном:
– Давай-давай!
И от того, что сам великий Васька поддакнул мне, малышу, как первому другу, и от сознания своей огромной силы перед этим кривящим губы краснощёким Помидором Вовкой я вдруг важно размахнулся и закатил моему беззащитному врагу звонкую и тяжёлую оплеуху прямо по его красной щеке.
Шлепо́к неожиданно для меня оказался настолько увесистым и звонким, что эхо от него раскатилось по всему двору, а Вовкина щека прямо на глазах побагровела и вздулась. Отчаянный рёв потряс воздух. С минуту все оцепенело смотрели на дело рук моих, потом весь наш «двенадцать-бэ» во главе с Мухиным Васькой дрогнул и в панике бросился наутёк, как всегда бывало, когда кого-то зашибли в наших потасовках слишком всерьёз.
Вместе с другими я бежал загнанным зверем и жался к ребятам, словно старался найти в них опору и выход своему страху, но легче не становилось. Они-то все были ни при чём, как-никак этот подлый удар нанёс не кто-то, а я. Васька перелез через сарай и скрылся, многие разбежались по квартирам или спрятались. Я тоже затаился за берёзовой поленницей и оттуда слышал, как прибежала Вовкина мать со своим ревущим Помидором и как кричала на весь наш двор, и показывала женщинам вздувшуюся щеку, и грозила поймать меня. Сердце моё в ужасе прыгало и билось так, что я боялся, что она услышит его стук из-за поленницы.
Таким преступником, как тогда, я себя потом никогда не ощущал, хотя и в школьные годы не был ангелом.
Долго со двора доносились голоса жильцов и крики Вовкиной матери. По одному спрашивали обо мне ребят, каких удалось найти в те минуты. «Это не мы! Я вон там стоял, – оправдывался то тот, то другой. – Это шкет один ударил со второго подъезда, Витька-Воробей…». У нас во дворе у всех были клички – к примеру, Марфа, Дылда, Сашка-Валет, меня же ребята прозвали Воробьём…
Не в силах больше выслушивать дознание, я тихонько выскользнул из-за поленницы и на ослабевших ногах прокрался домой, на четвёртый этаж.
– Ты что такой? – удивилась мать, с подозрением вглядываясь в меня. – Чего так рано? Иди погуляй, обед ещё не готов.
– Не-е, мама, я на улицу не хочу, – сказал я самым тихим голосом. – Я лучше дома посмотрю картинки.
Мама покачала головой и ушла на кухню.
А я сидел в комнате – дверь в коридор была открыта, тупо смотрел на картинку и с бьющимся сердцем ждал, когда же постучатся в квартиру из подъезда и войдёт Вовкина мать с опухшим от слёз Помидором. Более ужасного состояния я не знаю. Я прислушивался к каждым шагам по лестничной площадке – никогда не обращал раньше внимания, какие они громкие, – к каждому голосу и хлопанью двери в подъезде. От волнения я даже есть не мог, когда мама налила тарелку супа. Даже вечером, засыпая, я всё вздрагивал и слушал лестничные шорохи, нимало не сомневаясь, что меня всё равно найдут.

Целых два дня после этого я не выходил на улицу, худел, бледнел, томился, а на третий день, не вынеся неизвестности, выскользнул из дома и, взобравшись на сараи, посмотрел на двор «двенадцать-а». Вовка-Помидор был там и играл с ребятами, щека его была перевязана. Я быстро слез с сарая и убежал домой.
Весь год потом я не ходил во двор «дома двенадцать-а», хотя ребята наши с «а́шниками» окончательно помирились и то и дело гоняли вместе в футбол. И долго-долго ещё, завидя издалека Вовку, я втягивал голову в плечи и старался не попадаться ему на глаза. И до сих пор об этом помню.
ПРО РУЖЬЁ
Самая памятная из моих детских игрушек для меня – ружьё. Не помню, кто из пришедших на Новый год гостей подарил его мне, мальчугану. Помню только, как кто-то плечистый, придя с мороза, мигнул мне добрым глазом и протянул маме свёрток в белой бумаге:
– Тут для сынишки вашего сюрпризец…
– Иди сюда, сынок! – позвала мама. – Сейчас же скажи спасибо.
Я нехотя оторвался от карандашей – не потому что был уж больно избалован подарками, а потому что как раз в эту минуту красил большие малиновые ботфорты у Кота в сапогах. Поэтому на белый свёрток в руках мамы я смотрел с недоумением.
– Ну что куксишься? – засмеялся гость и развернул бумагу. Там было ружьё.
Помню, в первую минуту я остолбенел. Какое счастье! Не может быть, чтоб мне! Ружьё было великолепное – как настоящее, с жёлтым лакированным прикладом и чёрными стволами. Двустволка! А снизу был приделан ремешок и блестящие маленькие курки в железной скобе. У меня захватило дух. Нет, я не мечтал о таком подарке, не думал о нём. Я даже не догадывался, что такое могут мне подарить. Боюсь, я не был слишком вежлив в ту минуту, потому что тут же схватил чудесный подарок и убежал с ним за шкаф, где хранились в углу мои игрушки.
Как передать тот трепет и любовь, с какими я ласкал там свое ружьё. Даже через столько лет я помню его великолепные стволы и насечку возле мушки. Это сейчас понимаешь, что стволами были всего лишь крашеные куски гнутой жести. Но тогда меня восхищали чёрные дула. В них были спрятаны пружины со звонкими поршнями. Когда ружьё переламывали пополам, поршеньки эти уходили назад и стояли на взводе где-то у приклада. Но стоило нажать курок – они с треском выскакивали и вышибали заложенную в ствол горошину – это показал мне кто-то из пришедших гостей.
Не помню других подробностей того вечера – я никого не видел и не слышал, поглощённый новой игрушкой. Даже за обеденный стол в кухню, куда позвала меня мама, я пришёл с ружьём за спиной и долго не хотел относить его в комнату. Все женщины, мамины подруги, умирали со смеху у плиты. Холодец я проглотил не жуя, салат ел, не чувствуя вкуса, и никак не мог дождаться, когда же закипит в чайнике вода.
– Ты чего на стуле прыгаешь? – ругалась мама. – Почему ты сыр не доел?
– Да не держи ты его, – засмеялась тонкобровая и смешливая тётя Аня. – Не видишь: ружьё у него в комнате осталось…
Обжигая язык, я кое-как проглотил чай и с замирающим сердцем прибежал в комнату. Мое ружьё лежало на кровати и, поблёскивая стволами, просилось в руки. Я с трудом переломил его с помощью колена и в наготовленные, со сжатыми пружинами дула вложил по толстому карандашу. Теперь та настоящая охота, к которой я рвался за чаем, могла состояться без помех.
В нашей комнате с большой ёлкой как раз никого не было: гости курили на лестнице и смеялись на кухне. Я обошёл все углы, выбирая, куда бы стрельнуть, и остановился возле усыпанной украшениями ёлки.

Лучшей мишени было не подобрать: два картонных кабана висели с самого краю на мохнатой еловой лапе. Это сейчас полно красивых игрушек, а в те годы мама с ног сбивалась, чтобы достать для ёлки хотя бы таких картонных уродцев, и весь год берегла их в посылочном ящике на шкафу, не давая с ними играть. Но я уже не думал про это. Пригибаясь, как заправский охотник, я прополз под стульями и, выбрав позицию, стал наводить ружьё. Правый кабан свирепо косил с ёлки глазом и был готов вот-вот поддеть меня большим картонным клыком. Но я не боялся клыков и страшных копыт. С охотничьей отвагой я подвёл чёрные стволы под брюхо кабана и нажал оба курка сразу.
Пружины клацнули, выбрасывая карандашные снаряды. От их тяжести, мне показалось, качнулась ёлка. Я вскочил, опрокинув стул, и закричал, как индеец… И вдруг понял, что кабан как ни в чём не бывало висит на своём месте. А где же карандаши? Их нигде не было. Я растерянно посмотрел туда, где ещё качались ёлочные ветви, – и побледнел. Большая белая ватная балерина – мамина гордость и украшение всей ёлки – разорванная, валялась на полу!
До сих пор помню леденящий ужас, охвативший меня при виде рваной красавицы. И самым страшным было то, что в комнату должны вот-вот войти. Ещё не сознавая всей кошмарности проступка и дрожа, я схватил подбитую балерину, пытаясь склеить, как было, – но хрустящая её оболочка была безнадёжно порвана, и мне никак не удавалось всунуть в неё безобразные клочья ваты. От отчаянья я тихо-тихо захныкал и заметался по комнате. За дверью послышались шаги. Я быстро спрятал балерину за вазу на столе – но и оттуда торчали её белые ноги. Не зная, что делать, я снова схватил её – и тут вошла мама.
– Мама! – закричал я непослушными дрожащими губами, от чего торт в руках мамы тоже запрыгал и задрожал. – Я больше не буду, мамочка…
Я так ревел, что меня не могли успокоить целый час. Меня простили и дали конфеты, тётя Аня и мама зашили нитками и повесили балерину, меня гладили и ласкали, пытаясь успокоить, – но я был прямо-таки безутешен. Сейчас могу сознаться: я боялся, что у меня отберут ружьё.
…Потом я лежал в кровати под одеялом и слушал, как за стеной гомонят гости и патефон играет фокстрот. От шума и пережитого болела голова и почему-то горло, я ещё судорожно вздыхал от недавних рыданий – но не было человека счастливей, потому что в изголовье кровати висело моё ружьё. Я протягивал руку, трогал его в темноте и счастливо улыбался, чувствуя под ладошкой скользкий лак приклада и его холодные гладкие стволы…
***
Такой желанной вещи у меня уже больше никогда не будет…
ЗВОНОЧЕК
На лестнице светло и пусто, и каждый звук отдаётся в подъезде дома, как в горах. Я – вихрастый карапуз в вязаной шапочке – стою, затаив дыхание, на лестничной площадке третьего этажа. Всякий раз, когда мама выпускает меня гулять на улицу, я останавливаюсь против этой коричневой двери и подолгу смотрю. Меня привлекает звонок в ней.
Звонков, вообще-то, в подъезде много – и электрических с кнопкой, и тех, с ручкой, от которой звякает колоколец. Но у всех звонков кнопки высоко, их не достать – а до этого звонка легко дотянуться, встав на цыпочки, поскольку он низко врезан в середину двери. Звоночек этот притягивает меня ещё и потому, что его медная звонильная ручка похожа на вставленный в игрушку заводной ключ. Или на «заводилку» в будильнике.
Я разглядываю эту ручку-заводилку, и сердце в груди начинает громко прыгать, как в большом гулком тазу. Ах как хочется потрогать звоночек! Повернуть «заводилку»!
Я пугливо озираюсь по сторонам и, наконец, делаю то, что уже миллион раз видел во сне: трогаю шишкастую рукоятку. Её медь холодна. Я весь дрожу. Ах какая замечательная игрушка! Чего бы я только не отдал за этот удивительный звонок…
Не в силах бороться с искушением, я поворачиваю «заводилку» звоночка!
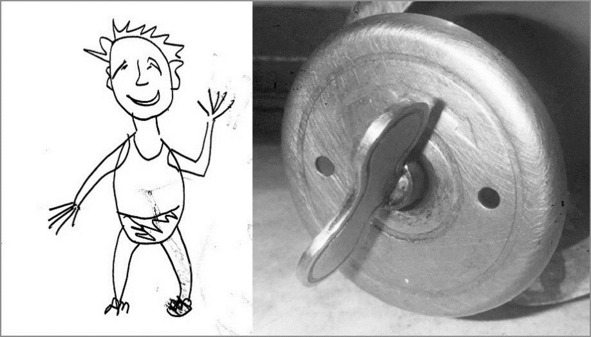
Про такой поворотный звонок рассказываю, ребята!
За дверью раздаётся переливчатый звук – как в заводной балалайке. В восторге и ужасе я кубарем лечу вниз по лестнице подъезда, еле успевая перебирать валеночками ступени. Квартира, куда я сейчас позвонил, – «коммуналка» с несколькими хозяевами. Я знаю, что они все ещё с минуту будут слушать: один или два звонка – чтобы знать, кому из них идти открывать дверь… Но вот наверху раздаётся щелчок двери, гудят голоса. С бьющимся сердцем я прячусь в тёмную нишу под лестницей, куда обычно не решаюсь сунуть нос…
…Вся следующая неделя для меня, малыша, полна опасных и острых ощущений: ведь всякий раз, спускаясь по лестнице на улицу, я с восторгом поворачиваю ручку звоночка. Это становится всё рискованней: в квартире уже не ждут второго звонка и спешат к двери, но я хоть мал, но не промах. Я научился лихо скатываться по перилам – это намного быстрей – и прячусь теперь за отворённой подъездной дверью, где не так пахнет кошками и нет зловещей подлестничной темноты. Но что-то словно подсказывает мне большую беду. Вчера соседская Серафима – толстая языкастая тётя – рассказывала моей маме на кухне, что в подъезде завелось хулиганьё… Я слышал это из комнаты и чувствовал, как у меня горят уши.
Кончилось это в субботу, в один из прекрасных деньков, когда я окончательно потерял осторожность. Я так торопился на улицу к ребятам, что даже не стал прислушиваться к звукам за коричневой дверью, а на ходу привычно – но с тем же тайным восторгом – повернул ручку звонка. Дверь открылась сразу – я не успел сделать и двух шагов. Высокая седая старуха с крупным лицом, запахнувшись в шаль, стояла в двери.