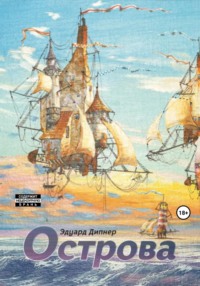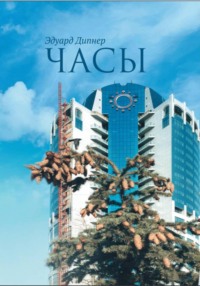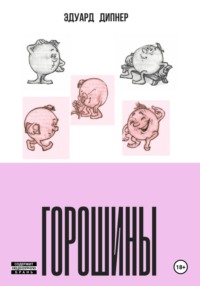Полная версия
Серафима
Незнакомый женский голос в телефонной трубке:
– Вы знаете, что Ваш муж изменяет Вам?
Сима вздрогнула, черная трубка задрожала и чуть не выскользнула из руки.
– Это кто? Кто говорит?
– Ах да, Вы думаете, он на очередном совещании… Так вот, сегодня в семь часов, улица Чернышевского, дом пятнадцать, со двора, второй этаж, квартира пять.
– Вы… Вы кто? Что Вы говорите? Это неправда, – но в трубке звучали гудки.
Это какое-то недоразумение. Ося сказал, что придет попозже, что у него совещание в главке. И она, конечно, не пойдет ни на какую улицу Чернышевского. Уже половина шестого, нужно приготовить ужин, Нина сейчас приведет Геру – они пошли гулять на Чистые пруды, – и вообще… Ноги вдруг стали ватными, и Сима осела на стул. Эта неправда была правдой, она это чувствовала и боялась признаться самой себе.
Ося работал главным бухгалтером на кондитерской фабрике «Марат», часто задерживался по делам, приходил поздно подвыпивший, оживленный, с кульками в обеих руках, с порога кричал: «А где мой Литату Крошечный?» Герочка бросался к отцу, это он был Литату Крошечный, и апельсины и ириски из кульков предназначались ему и только ему.
Нина поджимала губы. Она на столе в углу делала уроки. «Нет, ужинать не буду, мы с приятелями после совещания немножко посидели». И в этой оживленности было что-то нарочитое, фальшивое. В выходные дни Ося не находил себе дела и места в квартире, бестолково ходил из угла в угол, принимался невпопад воспитывать Нину, та огрызалась, Ося взрывался, начинал кричать на Симу:
– Ты распустила дочь, она дерзит отцу!
– Ничего она не дерзит, просто ты почему-то к ней придираешься. Тебе что, нечем заняться?
– Мне есть чем заняться. Я целыми днями на работе, а сегодня воскресенье, и мне нужно отдохнуть. А в квартире не повернуться! И родная дочь начинает мне перечить!
На крики приходил Иосиф Михайлович, он с женой Оттилией Карловной жил в соседней комнате коммуналки.
– Иосиф, ты ведешь себя недостойно. Мне нужно с тобой поговорить.
Ося возвращался притихший и злой, молча одевался и уходил.
Время сегодня тянулось страшно медленно. Стрелки стенных часов, отбивавших каждые полчаса, застыли и не двигались. Конечно, она никуда не пойдет, еще не хватало следить за мужем! Это кто-то с фабрики, Ося говорил, что в отделе планирования там работают такие стервы!
Сима взглянула на часы и похолодела: без десяти семь!
И вдруг сорвалась, набросила пальто, не попадая пуговицами в петли, на ходу надевая берет: «Нина, посмотри за Герой, я скоро». Она бежала по Барашевскому, свернула налево, на Чернышевского, вот он, дом пятнадцать, хлопнула дверью подъезда и приросла к полу перед черной дерматиновой дверью на втором этаже. Потом с неимоверным усилием заставила себя поднять руку и нажать на желтую кнопку звонка с номером «5».
Дверь долго не открывали, и Сима начала дрожать крупной дрожью. Потом там, внутри, завозились с замком, дверь приотворилась. На пороге в узкой щели стояла женщина, полуодетая, в халате, наброшенном на нижнее белье.
– Вам кого? – спросила она, сразу осеклась, все поняла, а там, в глубине – голос Оси:
– Не открывай! Зачем ты открываешь? Я же говорил тебе…
Две женщины молча смотрели друг на друга, потом Сима повернулась и, скользя на ступеньках, бросилась бежать прочь от этого ужаса, домой, к детям.
Ося пришел через пятнадцать минут, багровый и разъяренный.
– Ну что ты наделала? Кто тебя подослал?
Он ходил вокруг застывшей на стуле жены, не обращая внимания на детей. Нина их затащила в угол, запихала Герку за шкаф, Фреде сунула книжку: «Учи уроки. Не слушай».
А потом Ося упал перед ней на колени, ломал руки.
– Ну, прости, это случай, я увлекся, это не повторится, только не надо сообщать на фабрику, я тебе клянусь…
2
Обед в семье Борисовых бывает поздно. Уже старшие – Зина и Сима – два раза украдкой бегали на кухню, выносили от кухарки Глафиры ломотки хлеба, делились с младшими. Кухарка шипела на них: «Тихо, огольцы, мамаша узнает, меня заругает, скоро обедать», – но хлеб совала в подолы. Наконец распаренная, раскрасневшаяся Глафира выходит на хозяйскую половину: «Катерина Михална, готово, извольте обедать».
И сразу дом наполняется гвалтом детских голосов, двигаются табуреты, усаживаются домашние по обе стороны стола. Люба садится поодаль, она уже барышня, на выданье, скоро назначены смотрины, и Зина с Симой обмирают – как это будет, когда придут смотреть на Любу, и как это страшно, когда жених придет, а потом Любочку заберут, и она будет жить там, в другом доме, и будет замужняя жена.
Выходят к столу мамаша, она кормила младшего, Костеньку, и старая нянюшка. Зина с Леней выкатывают дедушку Степана. У дедушки совсем отнялись ноги, он в коляске, но по-прежнему строгий, и его все боятся, даже папенька. Папенька рано, затемно, уехал в Москву, вернется поздно. А дедушка хмурит брови: «Уселись, лба не перекрестив! На молитву!» И нестройный хор частит: «Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя…» Дедушка заключает: «Аминь», – Глафира выносит и ставит на середину стола большую дымящуюся миску.
Все сидят молча, без дедушкиной команды нельзя, ненароком получишь ложкой по лбу. А Глафира наливает четырехлетнему Колиньке и двухлетней Верочке в отдельные плошки, им не дотянутся, кланяется хозяевам и уходит на кухню. Дедушка разрешает: «Можно», – и задвигались деревянные ложки, неторопливо достают юшку, подставляется ломоток хлеба, не дай бог капнуть на стол! Юшка вычерпана, зоркий дедушка изрекает: «Таскай совсем!» – и в ход пошло самое вкусное, картошка и мясо. Борисовы – купцы, и мясо за столом не переводится. «Ленька, стервец, не егози, не спеши, младшим оставь!» – дедушка Степан строг и видит все, от его зоркого глаза не укроется никакая шалость.
Поздно вечером приезжает папенька, огромный, как медведь, чудесно пахнущий Москвой, увешанный связкой баранок с маком, до того вкусных, что сводит скулы от нетерпения. Детвора виснет на нем, как живая связка, а папенька ухватывает, тискает всю ораву так, что дух захватывает. Девчонки пищат, а папенька шепчет: «Тихо, дедушка заругает!» Но дедушка делает вид, что не слышит. Глафира ходит, зажигает свечи, теплый свет и счастье разливаются по дому: «Папенька приехали!» А завтра воскресенье, и папенька повезет детвору в Москву.
Ехать в Москву собирались уже давно, к Троице нужно справить обновы для всех, и Ганя договорился со знакомым купцом на матерьял для одежек. Катерина уже обмерила и рассчитала, сколько нужно на всех – двадцать четыре аршина, берем одним куском, так дешевле будет.
– Что ты, мать, – возражает Ганя, – девочки уже выросли, не след всех одевать в один цвет. Давай для мальчишек – один цвет, а для девочек – что-нибудь покрасивее, поярче. Мы ведь теперь не последние люди, я посоветовался тут, думаю написать прошение в третью гильдию. У меня капитал уже к ста тысячам подходит. Конечно, за Филипповыми да Елисеевыми нам не угнаться, но купеческая гильдия – дело серьезное, в другое общество будем входить, и одеваться нужно соответственно. Вон Зине уже четырнадцать, через два-три года – уже невеста, а ты – всех одинаково! Нет, мать, покупать будем самый красивый матерьял, что Иван Лукич подскажет, и ты меня не конфузь перед московскими купцами.
Из Москвы привозят вороха материи, и Катерина целую неделю кроит одежки для семьи. Сима не отходит от матери, смотрит, как тоненьким мелком намечается выкройка, большими портняжными ножницами режется, толстой иглой с белой ниткой прихватывается будущая рубашка.
– Ну-ка, Симочка, позови Лялю, будем примерку делать.
Лялька нетерпеливо топчется, пока мама на нем ушивает, подметывает, поворачивает Ляльку несколько раз.
– Мам, ну скоро? Я уже устал стоять.
– Погоди, еще спину ушить надо. Симочка, помоги мне, вот здесь булавочкой подколи. Да стой ты, не егози, всю работу испортишь!
Наконец рубашка ушита, снимается через голову, отчего Лялька дрыгается и верещит:
– Ой, щекотно! Ой, колется!
Мама поднимает лаковый пузатый колпак, и швейная машина Singer, недавно купленная, появляется, сверкая изящной черной шейкой с золотыми колосьями по бокам. Мама позволяет покрутить ручку, и Сима очарованно смотрит, как под уютное стрекотанье тоненький шовчик шаловливой ящеркой выползает из-под блестящей лапки машины.
– Ну, все, покрутила, теперь я ножным приводом буду, так оно быстрее.
– Мам, а можно мне попробовать?
* * *В теплушке ехали покровские москвичи с соседних переулков, что вьются, изгибаются, пересекаются в окружении двухэтажных домов, выплескиваясь на улицу Чернышевского, которую здесь упорно называют Покровкой. Покровский дом всеми своими этажами, окнами, полутемными пахучими лестницами, всей своей тесной жизнью выходит во двор с коваными воротами и калиткой, которую ревностно запирает на ночь татарин-дворник. Многочисленная дворничья семья каким-то чудом умещается в каморке под лестницей в угловом подъезде, и, когда Нина после школы взбегает на второй этаж («Ой, мама, быстрей открывай, а то не успею!»), она всегда натыкается на гремучие дворничьи ведра.
В просторном дворе, окруженном двумя домами и флигелем, с утра до поздней ночи кипит напряженная ребячья жизнь. Здесь играют в прятки (лучше всего прятаться за поленницей в углу у флигеля), в салки и в казаки-разбойники, лепят снеговиков и учатся целоваться за той же поленницей. И как обидно, когда в самый разгар игры противный мамкин голос из распахнутого окна зовет: «Костя, домой, обедать!» Коська кривится, делает вид, что не слышит, но голос все-таки настигает его: «Коська, стервец, я кому сказала! Сейчас же домой. А то выпорю!» И Костя, по дворовому прозвищу Коська-собаська, уныло плетется в ненавистную тесную коммунальную кухню с кипящими кастрюлями, чтобы быстро-быстро схлебать суп из тарелки и, схватив недоеденный кусок хлеба, выскочить во двор.
Здесь, во дворе, проходит вся жизнь. Сюда из роддома в Лялином переулке тебя приносят в голубом кульке, здесь ты надежно защищен воротами от страшной улицы с грохочущими по булыжникам машинами и опасными мальчишками из соседнего двора, сюда приезжает на чудесной тележке громкоголосый татарин-тряпишник: «Би-рём па-суду, тряпьё старое!» И детвора тащит из дома пустые бутылки, дырявые чайники, изношенные тапочки, все, что выпросят у матерей, чтобы получить вожделенный малиновый леденцовый петушок на палочке или жужжащий розовый шарик на резинке.
А рядом с крыльцом на скамеечке щурится от солнца седенький дедушка из пятой квартиры и толстая, малоподвижная дурная девка из одиннадцатой. Отсюда мать за руку в первый раз повела тебя в школу в Подсосенском переулке. Отсюда в июле ушли на фронт мальчишки, Коськи и Петьки, неожиданно повзрослевшие, с тонкими мальчишескими шеями и стрижеными затылками.
Война взорвала жизнь московских дворов. Разом прекратились шумные детские игры, на площади перед Курским вокзалом стоят зенитки с длинными тонкими стволами, запрещено зажигать свет по ночам, это называется светомаскировка, и все окна заклеены крест-накрест полосками бумаги. Считается, что это поможет не вылететь стеклам на случай бомбежки. А по ночам в небе над Москвой разворачивается феерическое зрелище. В мертвой тишине затаившегося города возникает, растет противный, низкий, скребущий сердце гул.
– Прорвались! Немецкие бомбардировщики прорвались! – во двор высыпает все население дома.
Вспыхивают лучи прожекторов, рядом, у Курского, и где-то сзади, от Красной площади и дальше, шарят по небу, скрещиваясь, и вот в перекрестии двух лучей вспыхивает черная муха, туда же устремляется третий луч.
– Поймали! Ведут! – ликует двор.
И сразу от Курского вокзала, захлебываясь, застучали, залаяли зенитки, окружая черную муху игрушечными, ватными облачками разрывов, а муха рвется из паутины, резко ныряет вниз, и прожектора растерянно шарят в поисках.
– Ах, упустили, ушел, гад! – издалека доносятся глухие взрывы бомб. – Ну, все-таки не допустили до Москвы! Отбомбился за Сходней. Ну, все, сегодня больше не сунутся, – и на крышу дома отправляются дежурить те, кто по очереди, сбрасывать зажигалки на случай, если будет новый налет. Старшим детям разрешают подежурить со взрослыми, и Нина с Фредей утром приходят возбужденные, с горящими глазами.
– Мам, на нас сегодня ни одной не упало, а вон там, за Москварикой, бомбили, и пожар был.
– Подожди, не хватай хлеб, лучше умойся с улицы, сейчас завтракать будем.
Однажды Фредя принес настоящий осколок, зазубренный и изломанный с одной стороны и смятый с другой. Он обжигал синеватым тусклым блеском, и было томительно страшно держать его на ладони. Осколок настоящей бомбы, сброшенной на Москву фашистским летчиком. А ведь он мог попасть в кого-нибудь из нас!
Семья Симы занимала комнату в общей для всей большой семьи Вернеров квартире.
Когда-то, незадолго до семнадцатого года, эта четырехкомнатная квартира в Барашевском переулке рядом с церковью Введения в Барашах была приобретена фирмой «Братья Герхардтъ» для своего доверенного лица Иосифа Михайловича Вернера. Большое мукомольное дело закрылось в начале двадцатых, и сам Герхардт, глава фирмы, своевременно и благоразумно бежал на родину предков. Он убеждал Вернера последовать с ним, обещал помощь и содействие, но Иосиф Михайлович был стоически непреклонен: «Мои предки приехали в эту страну сто семьдесят лет тому назад, эта страна – моя Родина, – жертвенно заявил он, – и я останусь с ней, что бы ни случилось». Ах, если бы Родина внимала прекраснодушным речам своих интеллигентных детей, хотя бы и немцев по пятому пункту, во что бы то ни стало решивших разделить ее непредсказуемую, но всегда горькую судьбу!
Время шло, сыновья женились, заводили семьи, и квартира Вернеров превратилась в типичную московскую коммуналку. В первой от входа комнате, дверь направо, жил старший сын Отто с женой Шурой и сыном Виктором. В следующей помещались сами родители – Иосиф Михайлович с Оттилией Карловной. Самая дальняя и большая отошла Иосифу и Симе с тремя детьми, а в маленькой проходной комнате ютились Артур, третий сын, с маленькой женой Милой и дочерью Виолеттой. Симе очень неловко было проходить каждый раз к себе через этот распахнутый, открытый для всех проходящих семейный быт. Но что делать, слава богу, есть жилье. Вон Оскар, младший из Вернеров, с женой Верой и двумя детьми не поместились, и скитаются, горемыки, снимают угол где-нибудь.
* * *Жизнь людей в теплушке, стесненная и впрессованная в скрипучие вагонные стены, обнажена в будничной простоте. В первые дни люди стеснительно прячут свои маленькие сокровенные тайны в полутемных углах. В дороге простые бытовые процессы вырастают в неразрешимые проблемы. Как покормить семью на глазах у всех, скорчившись на нарах. И самое неудобное и стыдное – как справить нужду. На станциях перед зловонным дощатым сортиром выстраивается длинная очередь. А там внутри – негде ступить! Омерзительно и скользко. На полустанках приходится садиться прямо у колес, на насыпи. Правда, мужчины деликатно отворачиваются, но вот бесстыжие глазастые молодые солдаты охраны!.. А когда прижмет на ходу – вонючее жестяное ведро у дверей, неудобно и унизительно.
Умываться приходится у вагона струей из чайника, нужно экономно, чтобы хватило всем. И волосы на голове свалялись в колтун, не расчесать, и мерзкое ощущение нечистоты во всем теле.
Уже прошла целая неделя пути, осталась позади Волга, ее проскочили рано утром на 8-й день по длиннющему гремучему мосту, и тянутся бескрайние, серо-желтые, унылые степи. Когда же наступит конец этому тупому мучению?
Заброшенные в дощатую тюрьму люди проявляются постепенно, как негатив на фотопленке. На нарах напротив едет семья Шмидт. Старший Шмидт преподавал в Бауманке, они везут главное и единственное свое богатство – книги: полное собрание Шекспира, Мопассан, Гюго, Лондон, трехтомник «Жизнь животных» Брэма и, конечно, Пушкин. Трехтомник Пушкина в сером тисненом переплете везет с собой и Нина. Слева от Шмидтов едет одинокая пожилая женщина с громоздкой фамилией Блюменкранц. Она чистокровная русская, муж умер, не оставив ей ничего, кроме томительных воспоминаний и неудобной фамилии. И вот теперь она едет неизвестно за что, неизвестно куда, и неизвестно, что с ней будет.
– Это ошибка, – сочувствует ей Иосиф Михайлович. – Там, в ОГПУ, не разобрались, и, когда приедете на место, Вам нужно написать, объяснить все, и я уверен, разберутся и восстановят справедливость.
В дальнем углу едут две старые девы, сестры Марта и Луиза. Младшая, Луиза, немножко не в себе. Она радостно улыбается всем и декламирует стишки:
Птичка какает на ветке,Баба срать пошла на двор…Это страшно забавляет детей, они лезут к Луизе, дразнятся, втягиваясь в вязкую, дурацкую игру, и их насильно приходится оттаскивать. Дети занимают все время у Симы. Их у нее теперь пятеро, кроме своих троих – двое Вериных. Любимая младшая сестра Вера умерла двенадцатого августа, за месяц до их исхода из Москвы. Сима называла ее теплой свечечкой, кроткой овечкой. Она и сгорела, как свечечка. Внезапно почувствовала себя плохо, горела огнем. Оскар бестолково суетился, звонил Симе. Суровая женщина-врач из скорой помощи немедленно увезла ее в больницу: «Где вы были раньше, почему не вызывали?»
Через три дня Веры не стало. Она умерла в четыре часа, и ее дух, рванувшийся из немеющего тела, явился Симе в проеме занимающегося утра: «Симочка, позаботься о моих детях». Оскар был совсем бестолковый и неприспособленный. Стремительный уход Веры вверг его в состояние прострации, и двое – четырехлетняя Инночка и двухлетняя Риммочка – стали Симиными детьми.
Недолгая стоянка на маленькой станции Таинча. Это уже точно Казахстан, паровоз свистит, дергает, и в полуоткрытой двери медленно проплывают убогие саманные здания, водокачка с самоварной трубой…
– Луиза! Где Луиза? – отчаянный вопль из угла теплушки. – Она отстала! Помогите!
Первым к двери бросается Ося. Луиза, окруженная казахскими черными детскими головами, что-то поет, улыбается. И, точно разбуженный, срывается Оскар. Они вдвоем спрыгивают из вагона, бегом подхватывают невесомую Луизу. А поезд набирает и набирает ход, нужно во что бы то ни стало догнать, протянутые руки из вагона подхватывают, затягивают деву, и уже кончился перрон, и нет сил бежать.
– Оскар, давай первый! Цепляйся за подножку! – вагонные руки подхватывают брата. Теперь обежать стрелку, последний, отчаянный бросок – повиснуть на подножке! И оба ничком лежат на грязном вагонном полу, хватая воздух, как выброшенные из воды рыбы.
– Ну все, успели, обошлось. А ты, Оскар, молодец! Без тебя я бы не смог.
– Ты, Ося, тоже не промах!
Рано утром, это была станция Акмолинск, – стук прикладов в двери: «Открывать! Мужчины от шестнадцати до шестидесяти – из вагонов с вещами!»
Они стояли нестройной кучкой у вагона, жалко оглядываясь в проем, откуда на них смотрели родные глаза, а бойцы охраны в малиновых петлицах, с винтовками уже оттесняли, толкали, вели их вперед к станционному зданию. Заплакала проснувшаяся Риммочка. Сима взяла ее на руки. Проснулись и потянулись к ней остальные дети. И не хватало рук, чтобы всех обнять, прижать, и не было слез в сухих глазах, а только пропасть пустоты в груди.
Иосиф Михайлович подошел сзади, положил руку на плечо. – Крепись, Симочка. Вот, кончится война…
3
Их выгрузили на станции Шокай. Плоская, выглаженная ветром до горизонта степь слабо трепещет больными седыми волнами высохшей травы. Безбрежный, стылый ковыльный океан, перечеркнутый тусклой, туго натянутой сдвоенной струной рельсов. Посередине океана рельсовый путь раздваивается, троится, и к нему жалко и сиротливо жмется разлапистое, трудно растущее из каменистой почвы саманное станционное здание. Десятку беспорядочно и разрозненно сложенных саманных домишек с плоскими земляными крышами бесконечно тоскливо здесь, и они пытаются разбежаться прочь в ковыльную степь, но пастух-ветер свистящим кнутом вновь и вновь собирает это стадо, привязывает занудливо свистящими нитями к стальной рельсовой струне. Ветер никогда не утихает, железом по стеклу свистит в проводах, злорадным степным демоном завывает в печных трубах, забирается за пазуху, рвет платок с головы, забивает глаза тонкой степной пылью.
Их выгрузили из вагона на истоптанную щебеночную насыпь, под холодное грифельное вечернее небо – три десятка стариков и женщин со жмущимися к ним, закутанными в платки детьми. От первого вагона подошел комендант поезда, перетянутый ремнями поперек и наискось.
– Где начальник станции?
– Здесь я, здесь, – начальник оказался бабой неопределенного возраста в телогрейке и платке, на которой нелепо сидела фуражка с зеленым околышем.
– Значит так. Примешь их до утра, разместишь, утром за ними приедут. Кипяток-то хоть у тебя есть? Ну ладно, смотри у меня! Так. Вот ты, с усами, – комендант поманил пальцем с грязным ногтем. – Как фамилия? Вернер? Вот ты, Вернер, назначаешься старшим. Отвечаешь за порядок головой. Чтобы все было в норме. Ясно? По вагонам! Давай отправление.
В крохотном зале станции была одна скамейка под тусклой, мигающей голой лампочкой. Ветер позванивал стеклами в подслеповатом окошке. В углу печка-голландка чуть теплилась угольным теплом, и можно было погреть немеющие руки.
Эта ночь была бесконечной. Сима забывалась в вязком полусне, кренясь к прикорнувшей рядом Нине, но ветер истерически взвизгивал в печной трубе, и она просыпалась, оглядывала маленькую комнатку, набитую вповалку спящими, шевелящимися привидениями, слабо освещенными неверным, красноватым колеблющимся светом.
Младших удалось пристроить на скамейке, закутав в одеяла. Иосиф Михайлович не спал, он согнулся у печки, подкладывая изредка угольки в ненасытную топку, и тогда освещалось рельефными бликами лицо, прорезанное угольными, глубокими сабельными тенями. Мерзли и затекали ноги, пробирала и колотила мелкая дрожь, и Сима осторожно, чтобы не задеть лежащих, пробиралась поближе к печке, трогала озябшими руками теплый печной бок.
– Ну что ты не спишь, Симочка? Еще до утра далеко, нужно поспать. Завтра у нас трудный день.
– Не спится, Иосиф Михайлович, все какие-то плохие мысли. Да и холодно, никак не согреюсь.
– Вот, возьми мое пальто, я у печки, и мне все равно не уснуть. Обязательно поспи.
– Я боюсь за ребят, как они все вынесут. Особенно за Риммочку, она вчера сильно кашляла. Я все думаю, за что Бог посылает им такие испытания? Ну, мы – взрослые, нам легче, а детям…
– Симочка, Бог здесь совсем ни при чем. Зло на земле творят люди и только люди, – он помолчал. – А наш христианский Бог… наш милосердный христианский Бог безучастно наблюдает за всем этим безобразием. А нам остается только терпеть. Вот кончится война… Ну все, иди спать.
И снова – бессильная, обрывающаяся нить голой лампочки, снова мохнатое, катящееся чудовище наступает на Симу, плюется зловонной комендантской слюной, ревет, и ей нужно руками и спиной защитить детей, не отдать их чудовищу. А ноги приросли к полу, ватные, вялые руки не могут подняться, и она просыпается с сильно бьющимся сердцем. Проснулась, кашляет и плачет Риммочка, и Сима берет ее на руки, успокаивает, дает попить из бутылочки. Грязно-серая предрассветная жижа сочится из окошка. Еще немного потерпеть…
Утром все чувствовали себя разбитыми, сипели разрушенными голосами, смоченными носовыми платками протирали детские личики, пили тепловатый кипяток, пахнувший ржавчиной и станционным сортиром. Вчерашний ветер сеял мелкий злой дождь, но к полудню солнце прорвало тяжелые, свинцовые пласты облаков, и оттуда, от солнца, проявилась медленно ползшая пара быков. Солнечные лучи осветили их ярко-рыжие, как Геркина голова, спины и зажгли янтарь рогов. Быки были запряжены в длиннющую повозку, мажару, с крутыми деревянными ребрами, перевязанными лохматой веревкой. На мажаре приехали придурковатый ездовый в залатанной телогрейке, рваной солдатской ушанке с торчащими врозь ушами, и круглый «боровичок» в малиновых петлицах, отрекомендовавшийся комендантом поселка номер двадцать четыре.
«Боровичок» из полевой сумки вытащил лист бумаги и долго мучился с трудными немецкими фамилиями. Все сошлось, кроме одного, старого Фельдмана, умершего по дороге от сердца. Представители Органов работали четко, вот только с Фельдманом случился прокол, но комендант напишет докладную, там проверят и снимут с него этого Фельдмана.
– С этого дня вы поступаете под мой надзор, – расхаживал перед нескладно сгрудившимися приезжими комендант. – Раз в неделю должны являться ко мне в комендатуру на отметку, отлучаться из поселка – только по спецразрешению. А сейчас – вещи, малых детей и кому трудно ходить – грузить на подводу, кто может ходить, пойдет пешком. До поселка отсюда – двадцать восемь километров, к вечеру доберемся.