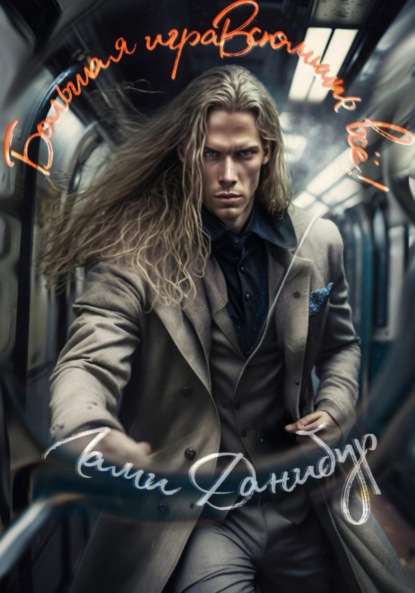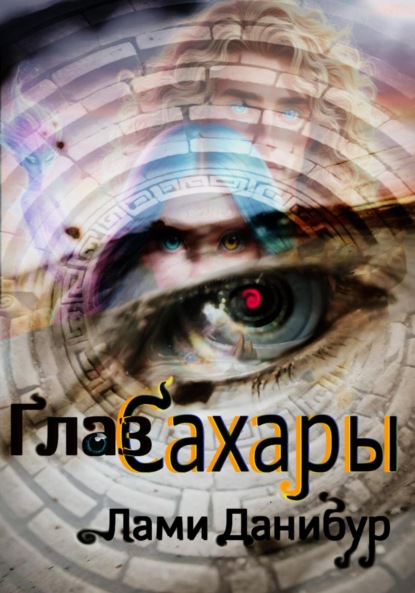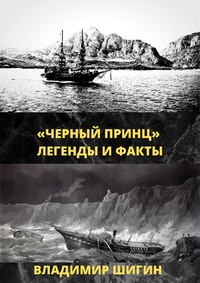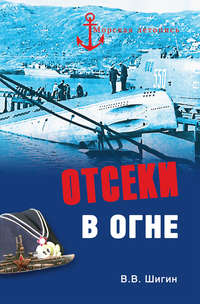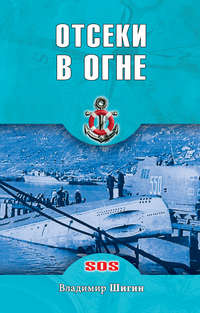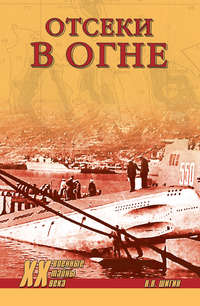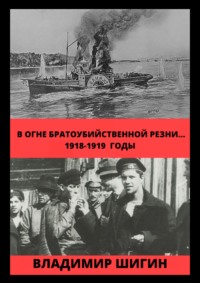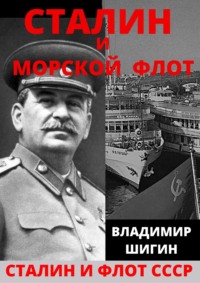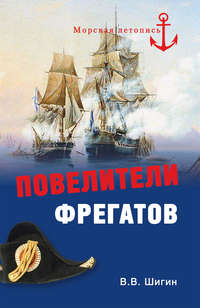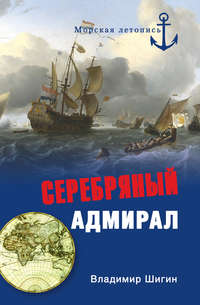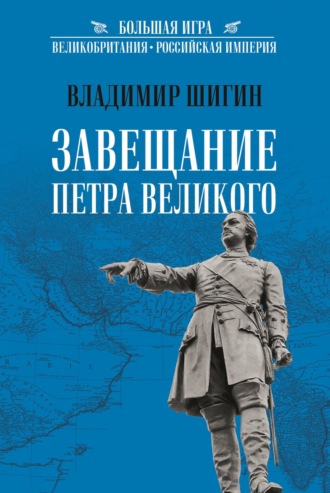
Полная версия
Завещание Петра Великого
Среди фузилерных рот в отряде имелась и одна гренадерская, укомплектованная самыми здоровыми солдатами, которые могли свои фитильные бомбочки забрасывать далеко во вражеские порядки.
И фузилеры, и гренадеры все, как один, были стрижены «под горшок», все в просторных зеленых кафтанах с широкими красными обшлагами. Под кафтанами красные камзолы и красные штаны, на ногах такие же красные чулки с башмаками, а на головах черные треуголки. Следует сказать, что среди солдат Руддерова полка было немало бывших стрельцов, замешанных в не столь давнем астраханском бунте, но прощенных воеводой Шереметевым.
Драгуны-саксонцы были на смотре в конном строю в своих синих форменных мундирах. Для пешего боя они вооружены укороченными фузеями, а для конного – палашами и пистолетами. Офицеры-саксонцы драгунского эскадрона демонстративно повесили на грудь свои старые, еще шведские, офицерские знаки – горжеты, правда со спиленными вензелями Карла XII. Но на этот своеобразный драгунский шик можно было и закрыть глаза.
Из Гурьева Бекович послал к Аюке дворянина Мартьянова с повторной просьбой прислать калмыцкую конницу на подмогу. На это хитрый хан ответил лаконично:
– Я не имею на то царского приказа!
И людей не послал.
Впрочем, он отправил в распоряжение князя своего человека Бакшу, а с ним десять калмыков и туркмен-проводников, которые должны были следовать в отряде Бековича в качестве особого посольства к хивинскому хану. Чуть позднее от Аюки пришло и второе письмо, в котором хан предупреждал: «Из Хивы приехали посланцы мои и сказывали, что бухарцы, хивинцы, каракалпаки, кайсаки, балки соединились и заставами стоят по местам. Колодцы в степи засыпаны ими. Все это от того, что от туркменцев им была ведомость о походе войск и хотят они идти к Красным Водам. Ваши посланцы в Хиве не в чести, об оном уведомил меня посланец мой». Прочитал Бекович письмо, в сундук с документами спрятал и никому ничего не сказал.
На Аюку Бекович был очень зол. Несмотря на все его усилия привлечь хана к походу, из этой затеи ничего не вышло. А ведь участие знающих закаспийские степи калмыков было бы огромным подспорьем в затеваемом мероприятии! Но приказать Аюке Бекович не мог. Что касается Аюки, то тот предпочел в неотвратимом столкновении Петербурга и Хивы остаться в стороне, сохранив отношения с обоими. Рассуждал Аюка просто: сегодня русские идут на Хиву, а завтра вернутся обратно. Ему же и сегодня и завтра жить бок о бок с Хивой, так зачем же превращать мирного соседа в непримиримого врага?
В Гурьеве начали роптать терские казаки, которым не улыбалось идти неведомо куда. Делать нечего, пришлось Бековичу объявить, что он возвращает по домам малолетних и многодетных. Таковых набралось до пяти сотен. Остальные примолкли и остались. Под Гурьевом войско простояло около месяца, и на Хиву выступили на седьмой неделе после Пасхи, в начале июля, в самый разгар жары, когда, казалось, никакое движение по степи невозможно.
Минуя большую караванную дорогу, отряд направился к реке Эмбе.
В поход выступили три тысячи семьсот солдат, драгунский дивизион в шесть сотен саксонцев, пятнадцать сотен яицких казаков атаманов Ивана Котельникова, Зиновия Михайлова и Никиты Бородина, пять сотен гребенских казаков атамана Басманова. Кроме того, в обозе шли 26 инженеров, три десятка моряков, лекари, несколько чиновников и бухарских торговцев, мелких астраханских торговцев-алтынников, а также с дюжину волонтеров-дворян, увязавшихся в поход по разным причинам. Семь пушек тащили верблюдами.
В качестве личной охраны Бековича – два его младших брата с двадцатью черкесскими узденями. Проводниками взяли туркмен и калмыков хана Аюки. Главный вожатый – Манглай-Кашка, посланный Аюки-ханом.
Из числа известных лиц при отряде находились: князь Заманов, астраханский дворянин Киритов, майоры Франкенберг и Пальчиков, братья князя Бековича: Сиюнч и Ак-Мирзу, посланный от калмыцкого хана Аюки калмык Бакша и туркменец Ходжа Нефес. Едва отряд перешел на бухарскую сторону Урала и немного отдалился в степь, как произошла первая стычка с каракалпаками, которые напали на казачьих табунщиков и захватили шестьдесят пленных, среди которых оказался и Ходжа Нефес. Вслед каракалпакам бросилась конная погоня, которую возглавил сам Бекович. После долгого преследования налетчиков настигли, отбили у них табуны и полон, при этом нескольких каракалпаков пленили. При всей незначительности события его успех приободрил и солдат, и казаков. Дневок до Эмбы Бекович не делал, лишь останавливался на ночлег у степных речек, а потому до Эмбы добрались за восемь дней, совершая усиленные марши по тридцать семь верст в сутки, таким образом проделав около трехсот верст. Это весной Эмба многоводна, а летом распадается на цепь озер со стоячей грязной водой. И все же это была вода! На Эмбе разбили лагерь и отдыхали пару дней.
На Эмбе Бековича настигла царская эстафета. Гонец передал повеление о немедленной посылке через Персию в Индию «надежного человека, знакомого с туземным языком, для разведок о способах торговли и добывания золота». После недолгих раздумий Бекович отправил мурзу – майора Тевкелева, состоявшего в его свите. Забегая вперед, скажем, что, как и предполагал Кожин, астрабадский хан встретил российского посланника не слишком вежливо и без долгих разговоров посадил его в зендан. Пройдут долгие годы, пока наконец благодаря посредничеству российского посла при персидском дворе Артемия Волынского несчастный Тевкелев будет освобожден. Так что, запретив год назад своему младшему товарищу поручику Давыдову ехать в Астрабад, Кожин фактически его спас…
Речку Эмбу форсировали частью на плотах, частью вброд, затратив на переправу отряда и грузов два дня. Но вот скрылась из глаз и Эмба. Дальше начиналось самое тяжелое – обширная пустынная Тургайская степь, раскинувшаяся более чем на 500 верст между восточным побережьем Каспийского моря и Хивой.
* * *Небывалый в истории российской армии поход начался!
Шли быстрым маршем и через два дня достигли урочища Богачат, к которому выходила Большая Хивинская караванная дорога. Отсюда пошли от колодца к колодцу: на Дучкан, потом Мансулмас и, наконец, на Чилдан.
На переходе через безлюдные степи отряд питался вяленым мясом и казенными сухарями. На дневках варили кашу. Изредка удавалось поохотиться на сайгаков, ловили и тушканчиков. Впрочем, даже десятком набитых антилоп разве насытишь тысячи голодных желудков! В походе, согласно петровскому уставу, ежедневно солдатом потреблялось 800 граммов ржаного хлеба, столько же говядины или баранины, две чарки (утром и вечером) вина или водки да гарнец пива, а также крупа и соль. Но это в уставе, а где все это взять посреди выжженной степи?
К моменту начала похода буйная растительность давно выгорела и степь окрасилась в унылые бурые тона. Выжженная степь была безжизненна. Только иногда вдалеке мелькнет лисица, да шумно махнет крыльями зазевавшаяся дрофа…
В степных колодцах воды на большое количество людей и животных не хватало, и, придя на новое место, солдаты в первую очередь рыли сотню и более колодцев в рост человека.
Под палящим солнцем, страдая от жажды и болезней, отряд упорно продвигался вперед. Вскоре люди стали падать, потом умирать от солнечных ударов. Особо тяжело переносили жару саксонцы, кляня на чем свет стоит и короля Карла с царем Петром, своего майора Франкенберга и, конечно же, диковатого кабардинского князя.
Саксонцы были воинами опытными. Большинство из них успело повоевать и за поляков, и за шведов. Безусловно, это была отборная кавалерия. Но в данном походе от них, как от кавалерии, толку было немного, куда лучше драгун справлялись в дозорах и при преследовании разных шаек казаки. Поэтому Бекович числил драгунский эскадрон как пехоту, которая, в отличие от обычной, не тащилась по пескам на своих двоих, а ехала верхом. Отдельно следовала походная аптека в несколько повозок, на которых восседали лекарские ученики вместе с двумя докторами. Пока у них работы было немного: рвали болезным зубы, ставили страждущим дымовые клизмы да приводили в чувство получивших солнечные удары.
У колодца Чилдан, на половине пути, сбежал присланный ханом Аюкой караван-баши Манглай-Кашка с десятью другими калмыками. Но поспешил он не обратно к своему хану, а в Хиву с важным известием о приближении русских. Несколько калмыков помчались обратно к Аюке-хану с рассказом о положении в войске Бековича. Впоследствии Аюка оправдывался, что Манглай-Кашка поехал в Хиву самовольно, а о трудностях, переносимых Бековичем в степи, рассказанных ему калмыками-дезертирами, он сразу же известил российские власти. На самом деле предательство Манглая-Кашки было изощренной местью Аюки-хана лично Бековичу, отказавшемуся поддержать его в позапрошлом году в противостоянии с кубанским ханом.
Впрочем, получив изветие о трудностях Бековича, Аюка-хан сразу же известил об этом казанского губернатора. Вообще Аюка старался угодить всем. Он предупреждал русских о реальной опасности со стороны Хивы, одновременно предупреждая Хиву об опасности со стороны русских. Таким образом, Аюка обезопасил себе в весьма непростой для него ситуации. Что и говорить, Восток – дело действительно тонкое! Сегодня действия Аюки дипломатично назвали бы многовекторной политикой…
После бегства Манглай-Кашки караван-баши стал Ходжа Нефес, который повел отряд дальше на юг через колодцы Сан, Косешгозе, Белявили, Дурали.
После каждого привала капралы кричали с азартом: «Ботинки переменить». По этой команде все переодевали ботинки с одной ноги. Этого требовал воинский устав, чтобы те равномерно снашивались
Постепенно выжженную степь сменила настоящая пустыня, по которой идти было намного труднее. Значительно меньше стало и колодцев. Даже убогий уродливый саксаул попадался все реже и реже. Только в стоне ветра, поднимавшего тучи песка, чудилась нескончаемая мольба: «Воды! Воды!» Порой вдалеке возникали таинственные миражи – горы, деревья и целые оазисы…
Изменился даже песок. Если вначале он был грязно-желтым, то теперь приобрел зловещий красный цвет. Это пугало и солдат, и казаков, которые считали, что песок покраснел от пролитой в него крови. Все чаше стали попадаться черепа, по большей части лошадиные и верблюжьи, но встречались и человеческие.
– Это край сыпучих песков и отрубленных голов! – подтвердили проводники, рассказывая, как Железный Хромец Тамерлан, сложил в здешних песках башню из семидесяти тысяч отрубленных голов.
Солдаты понемногу научились передвигаться особым пустынным шагом, который был короче обычного, при этом нога ставилась на всю ступню, не разгибая полностью колена. Так достигалась экономия сил, а кроме того, ноги меньше вязли в песке. Страдая от жажды, и офицеры и солдаты клали в рот свинцовые пули, так было легче бороться с жаждой, кое-кто жевал кору саксаула. Не обошлось и без жертв от змей и скорпионов – несколько солдат умерли от укусов.
Даже небольшой ветерок поднимает в воздух мириады песчинок – песок попадает в глаза, уши, скрипит на зубах. Полностью избежать этого не представляется возможным, как бы ты ни укрывался. Слава богу, порой на пути попадались глинистые солончаки и такыры, по которым можно было передвигаться, не утопая по щиколотку в песке.
Наконец дошли до Устюртской возвышенности, именуемой Иркендскими горами, и колодца Яргысу. Здесь заканчивалась степь и начиналась пустыня. Отсюда до владений хивинского хана оставалось восемь дней пути. Бекович объявил дневку.
Вечером, когда жара спала, собрал совет из офицеров. Думали, как идти дальше. Было решено было пойти на хитрость. В Хиву налегке послали астраханского дворянина Киритова с сотней казаков. Киритов должен был доставить хану Шергази письмо, что к нему идет посол русского царя с охраной. Делегация добралась до Хивы без всяких приключения. Хан подарки принял, после чего велел выдать посланцам «белого царя» кормовые деньги. Это означало, что их встретили как друзей. Такое отношение давало надежду на возможность мирных переговоров.
Тем временем у колодца Яргызу Бековичу пришлось оставить до тысячи казаков с усталыми лошадьми, а на половине дороги бросить много провианта из-за массового падежа вьючных лошадей. Кроме этого надо было собрать отставших, которые все еще подходили. В высоком обжигающем небе в ожидании падали неотступно кружили степные орлы и хищные каюки.
Не обошлось и без разбойников. Неистовые туркмены-йомуды на протяжении веков держат прикаспийские степи и пустыни в страхе. Туркмены живут по собственным кочевым законам. Старых и грудных детей туркмены никогда в плен не берут, а убивают на месте, так как с ними много мороки. Детей постарше уже не убивают, ведь из девочек получатся наложницы, а из мальчиков рабы. Не берут в плен дервишей и ишанов как лиц, близко стоящих к богу, так как за насилия, учиненные над ними, аламанщиков часто постигает кара небесная. Дервишей и шаманов отпускают на все четыре стороны. Зато женщин в плен берут всегда охотно, делая их своими наложницами. Детей, прижитых от таких наложниц, с выгодой продают в Хиву и в Бухару. Взрослых же мужчин берут в плен только в том случае, если за них можно получить выкуп. Все установлено четко и однозначно, никакого милосердия и сострадания: в какую категорию попал – таковой будет и твоя судьба. Что ж, Восток всегда был предельно циничен и жесток.
Вот и теперь конные туркмены постоянно кружили вокруг растянувшегося обоза, выбирая момент, чтобы скопом накинуться на отставшую повозку или солдата. Особенно докучали туркмены следовавшим в самом хвосте колонны купцам с их скарбом. И на самом деле что может быть более лакомым, чем купеческая повозка, набитая товарами! Пришлось посылать в хвост солдат, чтобы те прикрывали купцов от полного разорения.
Из воспоминаний гребенского казака Демушкина: «До Амударьи киргизы и туркмены сделали на нас два больших нападения, да и мы их оба раза, как мякину, по степи развеяли. Яицкие казаки даже дивовались, как мы супротив их длинных киргизских пик в шашки ходили. А мы как поднажмем поганых халатников, да погоним по-кабардинскому, так они и пики свои по полю разбросают; подберем мы эти шесты оберемками, да и после на дрова рубим и кашу варим…»
Трудности похода буквально изматывали людей. Первыми начали роптать казаки, как люди более вольные и свободолюбивые. Но и особо не кричали, понимая, что царскую волю переменить не может никто, даже князь.
Но без дезертиров не обошлось. Солдаты не убегали. Куда ты в пустыне пешком побежишь, разве что до ближайшего туркмена, который тебе, на всем скаку, голову и снесет! Убегали казаки. Больше всего удрало яицких (больше трех десятков), за что Бекович долго кричал на их атаманов.
Немного отдохнув в Яргызу, Бекович двинулся далее ускоренным маршем к Хиве. С неимоверным трудом и большими потерями в людях, лошадях и верблюдах, но пустыню все же одолели за два с лишним месяца непрерывного движения. Впервые русская армия вторглась столь далеко в среднеазиатскую пустыню. Уже само по себе это было настоящим подвигом. Но поход, по существу, только начался, и что ждет впереди, не знал еще никто.
Преодолевая пустыню, не раз пришлось пережить песчаные бури. O ее приближении говорила внезапно наступившая неподвижность воздуха, сопровождающаяся сильной духотой и пением песка. Затем на горизонте появлялось быстро увеличивающееся в размерах бурое облако.
Проводники сразу же начинали кричать и махать руками:
– Буря! Буря! Буря!
Отряд немедленно останавливался, казаки начинали укрывать лошадей, погонщики – верблюдов. В воздухе, вместе с песком, летали кусты саксаула и верблюжьей колючки, вырванной с корнем. Солнце почти не проглядывало сквозь мощнейшую завесу из песка и пыли, так что не было видно вытянутой руки. Нос, рот и глаза – все было забито песком, сколько не береглись. Каждый искал место, чтобы спрятаться с наветренной стороны барханов, забирались под бок к верблюдам и лошадям, старались успеть плотно завернуться в епанчу и закрыть лицо шейным платком.
– Пустыня не хочет впускать к себе чужаков! – качали головами калмыки-проводники.
– Это все так, но обратной дороги у нас уже нет! – отвечали наши.
По мере продвижения на юг жара усилилась до такой степени, что солдаты даже в камзолах начали десятками падать в обмороки, и чем дальше, тем больше. Старослужащие первыми на дневных переходах начали скидывать и камзолы, оставаясь в льняных пестрядинных портках и рубахах. Бекович несколько дней сие непотребство запрещал, устраивая прилюдные порки нарушителям, но ничего не помогало. Жара победила шпицрутены. Не вынес сего испытания и сам Беркович, который вскоре уже ехал только в одетом на голое тело халате. Остальные офицеры просто делали вид, что не замечают вопиющих нарушений строевого устава. В данном случае выжженная степь уже диктовала свои правила.
Спасшийся из плена казак Федор Емельянов впоследствии рассказывал, что «провианту побросано и отсталых лошадей дорогою покинуто многое число… за дальностью и за недовольствием кормов лошади многие пристали».
Что касается казаков, то они, едва припекло, поскидывали с себя все верхнюю одежду, оставшись в исподнем первыми, со своими атаманами.
Только пунктуальный командир драгунского полка майор Франкенберг старался быть по всей форме – в сапогах с раструбами и в перчатках. Только после солнечного удара, от которого едва отошел, саксонец снял… перчатки. Драгуны Франкенберга, тяжко страдая, но соблюдая дисциплину, продолжали ехать в потных камзолах.
* * *Во время пребывания отряда на урочище Аккуль в ста двадцати верстах от Амударьи сделали еще один большой привал, дожидаясь оставленных у Яргызу казаков.
У Аккуля русских уже ждали два узбека, с которыми был и казак, посланный ранее с Киритовым, – ответное посольство хана. Из соображений осторожности узбекам сказали, что князь Черкасский с основными силами идет следом, и заставили их два дня дожидаться, пока от колодца Яргызу не подошли остававшиеся казаки. Со своими посланцами хан Шергази прислал князю подарки: кафтан, коня, овощи и щербет. Бекович заверил послов хана, что идет в Хиву не войной, а как посол своего государя, а о цели посольства объявит при личной встрече с ханом.
Тем временем в Хиву прискакал и был немедленно принят Шергази изменник Манглай-Кашка, рассказавший, что у русских в отношении хана самые коварные замыслы. Шергази немедленно велел бросить астраханского дворянина Киритова в темницу, а его казаков разоружить и заковать в железо. Одновременно хивинский хан объявил о сборе войска.
Впрочем, лазутчики у хивинского хана имелись и помимо батыров Аюки, в том числе даже в Астрахани. Практически одновременно с прибытием Шергази получил оттуда короткую записку, где арабской вязью было нацарапано: «Белый царь указал на Хиву и приказал кормить коней». И теперь у хана отпали последние сомнения.
Тем временем в урочище Аккуль после недолгих переговоров узбеки поспешили обратно в Хиву. Следом за ними двинулся маршем весь отряд. Бекович приказал идти как можно быстрее.
– Пусть хивинцы думают, что мы находимся все еще в нескольких днях пути от их границ. А мы уже дышим им в спины! – так объявил он офицерам причину своего приказа.
Наконец передовой казачий дозор во главе с гребенским атаманом Басмановым, посланный далеко вперед, чтобы найти колодцы, неожиданно показался на вершине бархан.
Видя скачущих обратно казаков, все заволновались: уж не хивинское войско ждет его за песчаными холмами?
– Ваше высокородие! – еще издали прокричал Басманов. – Пустыня закончилась! Впереди Хорезмский оазис! Ура!
Радостная весть мигом облетела марширующие роты. Все обнимались и кричали «ура». Ударили барабаны, и отряд двинулся вперед так, как будто и не было сотен изнуряющих верст. Все понимали, что оазис – это и вода, и долгожданный отдых.
В день Успения Пресвятой Богородицы 15 августа отряд Бековича дошел до озер Амударьи.
– Урочище Карагач! – объявили проводники.
– Хорошо, что к речке подойти успели! – радовались солдаты и казаки. – Рядом с водой можно хоть год от басурман отбиваться!
– Благодать! Чисто райское место! – смеялись солдаты и казаки. Главное, что воды было действительно вдосталь. Вначале напились сами, потом напоили лошадей и верблюдов. То там, то здесь заполыхали костры, солдаты начали артельно варить кулеши.
Не теряя времени, Бекович приказал разбить лагерь на берегу ближайшего озера. С остальных трех сторон быстро окопались, возведя ров и вал, на котором выставили все семь пушек.
Бекович озабоченно осматривал и озера, и саму Амударью. Радость достижения реки разом сменилось унынием. Ведь именно у урочища Карагач должна была находиться легендарная плотина, повернувшая русло Амударьи. Но никакой плотины не было, а значит, река своего течения не меняла. Бывшие при отряде инженеры сразу же бросились изучать речной песок, и вскоре Бекович услышал еще одну безрадостную весть – река золотой руды не имеет.
Дальше укрепления было решено пока не двигаться, а ждать известий от Киритова.
Увы, никто не знал, что предательство уже произошло и вся затея Бековича выдать себя за мирного посла пошла прахом.
В урочище Карагач, по плану, составленному Петром, Бековичу надлежало построить очередную крепость. От Карагача до Хивы всего каких-то шесть дней пути. Тогда всем казалось, что главные трудности уже позади.
К этому времени отряд прошел 1400 верст по бесплодным и безводным степям, причем в самую жару!
Наконец-то люди, лошади и верблюды смогли напиться не пустынной соленой, а по-настоящему чистой воды и прийти в себя. Но время не ждало, и, отдышавшись, солдаты с казаками взяли в руки заступы, начав сооружать укрепленный лагерь.
Работали утром, вечером и ночью, а в самую жару спали под охраной караулов. За час до рассвета – смена караулов. У часовых приказ строгий – никого ни в какую сторону не пропускать и за возможным появлением неприятеля наблюдать. При этом если суточные лозунги известны всем солдатам и казакам отряда, то пароли знали только офицеры.
Спустя некоторое время вдалеке уже замаячили всадники. Пока их было немного, но с каждым часам число увеличивалось. Было понятно, что это джигиты Шергази.
* * *Облик Хивинского ханства тех времен был откровенно печален. Основу экономики ханства составляли сельское хозяйство в Хорезмском оазисе и разбойничьи набеги на Бухару и Персию, откуда вывозились ценные вещи, рабы и богатые пленники за выкуп. Но удача в набегах сопутствовала далеко не всегда. Что касается земледелия, то каждый клочок земли приходилось отвоевывать у пустыни. Помимо этого, Шергази сгонял людей на строительстве каналов и на постройку дворцов и крепостей. Однако воевали хивинцы неплохо, и окружающие ханства их побаивались.
Шергази-хан происходил из династии Шибанидов, являлся потомком свирепого Султан Гази-хана, старшего сына грозного Ильбарс-хана. Имя хивинского хана означало «тигр борьбы за веру». Среди прочих ханов Шергази считался образованным, так как окончил медресе в Бухаре. За это Шергази получил весьма лестный титул сахибкирана, то есть обладателя счастливого сочетания звезд. Этим титулом Шергази гордился особо, так как некогда так величали самого Тамерлана.
Впрочем, у Шергази были и другие причины для гордости, ведь его ханство являлось по силе первым среди прочих во всей Средней Азии. Шергази уже не на шутку задумался, как бы прибрать к рукам соседний Мерв.
Шергази был не столь богат, чтобы оформлять внешние стены больших зданий так, как это делали в Бухаре и Самарканде, но на украшение своего дворца и гарема деньги все же находил, а то какой же он властитель без того и другого?
Хивинские ханы всегда славились воинственностью. В 1689 и 1694 годах хан Ануш-Мухаммед дважды успешно нападал на бухарцев. А всего год назад, в 1716‐м, и его наследник Шергази совершил удачный поход на Хорасан, взяв Мешхед и значительную добычу. С той поры за Шергази укрепилась слава удачливого воителя. Так ему ли теперь смиренно склонять голову перед немногочисленными гяурами, нагло вторгшимися в его владения?
Предательство Манглая-Кашки, донесение собственных лазутчиков не оставляли у хана сомнений в том, что к Хиве движется вовсе не мирное посольство, а изготовленное к нападению войско. Последней каплей, перевесившей чашу войны на весах размышлений хана, стало известие о строительстве русскими крепости в Карагаче. На самом деле какой ты посол, если строишь крепости на чужой земле?
Надо отдать должное Шергази, свое огромное войско он собрал в считаную неделю. Сколько именно воинов поставил под свои знамена Шергази, неизвестно. Историки считают, от шести тысяч до двадцати пяти. Наверное, истина, как обычно, находится где-то посредине. Среди прибывших по зову хана были каракалпаки и киргиз-кайсаки, узбеки, туркмены и иные прочие. Собранное конное ополчение было вооружено копьями, луками и саблями. Лучше всех была вооружена, разумеется, ханская гвардия. У каждого гвардейца имелись острая хорасанская сабля, копье и мощный лук с роговыми накладками. Сами всадники-гвардейцы были в булатных панцирях и островерхих шлемах. Каждый – истинный батыр, проверенный во многих сражениях. Были у хана и воины, вооруженные пищалями, а вот пушек не было – военный прогресс еще не добрался до среднеазиатских песков. Однако, несмотря на это, войско Шергази-хана представляло собой внушительную военную силу, способную к серьезной схватке с неверными.