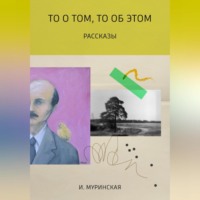полная версия
полная версияМартин М.: Цветы моего детства
Ботанический сад
Госпожа Лукреция, учившая их биологии, организовывала школьную поездку в ботанический сад Большого города. Такого счастья Мартин себе и представить не мог. Заикаясь от волнения, он подбежал к смотревшему телевизор отцу и, стараясь, как мог, быть одновременно ласковым и рассудительным, изложил свое желание отправиться в «познавательную экскурсию».
– Вот сдались же тебе эти стручки…
Мартин был готов к насмешкам, он даже ждал их. Ради этой поездки он был готов на все.
– Это очень познавательная экскурсия. Госпожа Лукреция…
– Ты зарядку когда начнешь делать? Ты себя в зеркало видел? Я в твоем возрасте вставал в шесть утра и бежал километр.
Мартин был готов даже начать делать зарядку.
– Я… я могу начать бегать…
– Вот начнешь – тогда и поговорим.
– Но мне надо сдать деньги до понедельника…
– Так, все, хватит! Нет значит нет!
Мартин знал, что продолжать спорить после этих слов бесполезно. Он ушел в свою комнату, закрыл дверь и сел на кровать. Ему было известно, что Фи и Мария едут. В том, что он тоже поедет, не было никаких серьезных причин сомневаться. Взрывы неудовольствия отца отличались поразительной хаотичностью. Однако Мартин надеялся, что до таких пределов его жестокость не дойдет. Ему было так обидно, так стыдно за отцовскую тупость, что поплакаться никому он мог. Никому, кроме Германа К., который, он чувствовал, сидел сейчас прямо у него за спиной. Ему не надо было ничего не объяснять. Он молча положил свою велюровую лапку Мартину на плечо, а другой лапкой вложил ему в руку холодный металлический предмет, который, учитывая онтологический статус Германа К., был удивительно материален. Внезапно Мартин почувствовал себя гораздо лучше, как будто твердость этого нового, волнующего предмета передалась его бедному истерзанному сердцу.
Сказка Клавдия
Анубис-Второй-Великолепный никогда не видел ни деревьев, ни цветов, ни каких-либо вообще растений. В его стране земля была гладкая, как кожа дельфина, и бесплодная, как стены каменного дома, в котором он жил. Такой же она, вероятно, была и во всем остальном мире. На почте, где Анубис работал, на подоконниках стояли в качестве украшений замысловатые скульптуры из фольги и стекла, которые делал Клапаиньо, престарелый работник склада, которого все так уважали за его возраст и добрый, веселый нрав, что позволяли сколько угодно и где угодно расставлять свои поделки, хотя никто, или почти никто, их, по правде говоря, не понимал и не любил. Его искусство проникало во все уголки их невзрачного почтового быта. На кофейных кружках появлялись ажурные подстаканники, на женских шляпах – фантастические абстрактные композиции, и поскольку никому не хотелось обидеть Клапаиньо, там они и оставались. Однажды он не вышел на работу. Беды в этом не было, так как никто уже и не помнил, в чем состояли его служебные обязанности. Однако Анубису стало тревожно за старика, и вечером, по пути домой, он решил его проведать. Двери такого же чудаковатого, как и все, что делал Клапаиньо, дома, как будто скроенного из бесчисленного множества отдельных частей других, непохожих друг на друга, строений, были не заперты. Внутри были разбросаны куски металла, скрученные в удивительно тонкие формы листы фольги, обработанные и необработанные осколки разноцветных стекол и длинные отрезки толстой стальной проволоки в самых разнообразных формах. Анубис впервые за многие годы знакомства с Клапаиньо задумался, как ему, должно быть, было здесь одиноко. Никто не знал, была ли у Клапаиньо когда-нибудь семья. Казалось, будто он всегда был седоволосым эксцентриком, которого ничего не интересует и не должно интересовать, кроме своих безделушек. Пройдя через большую комнату, которая, по-видимому, служила Клапаиньо и мастерской, и спальней, и кухней одновременно, Анубис попал в короткий коридор, который вел во внутренний двор. Уже там, глядя наружу сквозь стеклянные двери, он заметил что-то необычайное. Немного помедлив, он толкнул хлипкие створки наружу и очутился на небольшом квадратном участке земли, обнесенном высоким забором. В самом центре располагался блестящий предмет, как будто врытый в почву, состоявший из одного толстого стержня в основании, нескольких расходящихся от него в разные стороны более тонких стержней и множества еще более тонких, расходящихся в свою очередь от них. Если бы Анубис не знал, как беден был Клапаиньо, то решил бы, что предмет этот вылит из серебра. Его плавные линии были выполнены с поразительной тонкостью и слегка покачивались от легкого ветра над головой Анубиса. При ближайшем рассмотрении он заметил, что поверхность толстого стержня была не гладкой, а покрытой сетью мелких бороздок и чешуек, немного напоминавших человеческое тело. Анубис прикоснулся к его поверхности и был удивлен тем, что не почувствовал ледяного холода металла. Шершавое покрытие было лишь немного холоднее его рук. Вернувшись обратно в комнату, Анубис решил ждать Клапаиньо, но что-то ему подсказывало, что тот не появится. Так он и просидел всю ночь в большом старом кресле с потертой кожаной обивкой. Половину комнаты занимали широкие котлы и валы на станинах, сообщавшихся между собой сложной сетью опор и рукояток. Неужели Клапаиньо смастерил все это сам? К утру Анубис задремал. Проснувшись, он снова вышел во двор. Загадочный предмет чудесно переливался, пошатываясь, в лучах утреннего солнца. Анубис подумал, что никогда не видел ничего красивее.
Прошла неделя. Клапаиньо так и не появился. Анубис шел по весенней улице и думал: как это печально, что человек исчез, а никому, в общем-то, и дела нет. Эта мысль казалась ему особенно мрачной оттого, что то же могло бы случиться и с ним. Незаметно для себя самого он снова оказался перед домом Клапаиньо. Блестящий предмет во внутреннем дворе словно притягивал его к себе. Он был не просто красив – он давал его усталым глазам какое-то блаженное отдохновение, которое можно было сравнить разве только с видом меняющих формы кучевых облаков. За прошедшую неделю в его конструкции как будто что-то изменилось. Анубис приблизил к себе один из тонких концов и обнаружил на нем какое-то овальное утолщение. Такие же наросты были на всех тонких стержнях. Он подумал, что, быть может, не заметил этого в первый раз, но, вернувшись снова через два дня, обнаружил еще большие изменения: вздутия как будто расслаивались на несколько нежнейших пластин, похожих на те, что Клапаиньо сажал на женские шляпы. Анубис стал проводить в доме старика больше времени, чем в собственном. За следующую неделю утолщения на загадочной скульптуре полностью раскрылись, а еще через неделю стали опадать на землю, создавая от порывов ветра сверкающий серебряный дождь. Анубис больше не мог хранить свое открытие в секрете, но и довериться кому ни попадя было нельзя. В конце концов он обратился к Тадеушу, другому древнему обитателю почтового склада. Кажется, ему было лет сто, а может быть, и все сто пятьдесят. Тот крайне недоверчиво посмотрел на Анубиса, когда он рассказал про чудо-фигуру, но отправиться с ним в дом Клапаиньо согласился. Шагнув во внутренний двор, Тадеуш замер. Его лицо приняло выражение, которого Анубис никогда на нем прежде не видел. Казалось, он даже немного помолодел. Очень осторожно прикоснувшись к основанию, Тадеуш торопливо развернулся и, жестом приглашая Анубиса последовать за собой, засеменил кривой походкой по улице. Через пять минут удивительно быстрой для своего возраста ходьбы Тадеуш, а вместе с ним и Анубис, оказались в ветхом здании библиотеки. Сделав несколько поворотов в лабиринте стеллажей, они очутились в самой темной и пыльной секции, где лежали самые старые книги и манускрипты. Вытащив внушительный том с некогда, вероятно, золотым срезом, Тадеуш принялся листать его желтые страницы, то и дело хорошенько облизывая пальцы, одинаково мало заботясь и о гигиене, и о сохранности реликвии. Наконец, он остановился и полушепотом воскликнул: «Вот!» Всю страницу занимала картинка, изображавшая предмет, чрезвычайно похожий на тот, что стоял во дворе Клапаиньо. Только его основание было не серебристым, а коричневым, а нежные образования на концах – белыми. Под картинкой стояла подпись – «Prunus padus». Никакой другой информации в книге не было. Выйдя из библиотеки, Тадеуш глубоко вздохнул и очень тихо, глядя своими выцветшими глазами куда-то сквозь все видимое, сказал: «Сынок, береги это дерево так, как не берег ничего в жизни, даже ее саму». Так он впервые услышал это слово – «дерево».
Вскоре о чуде во дворе Клапаиньо узнали люди. Анубис теперь жил в его доме, оберегая свое дерево, как наставил его Тадеуш. Каждый день перед его дверьми выстраивалась очередь из желающих прикоснуться к ожившей скульптуре. Анубис больше не мог работать на почте, поэтому собирал опавшие лепестки, плоды и листья и продавал их в качестве сувениров. Ходили слухи, что они исцеляют от болезней и даже воскрешают из мертвых, но Анубис считал, что все это чепуха. Клапаиньо он никогда больше не видел.
Ладно
– А я не хочу с тобой гулять, ни завтра, ни послезавтра!
Фи еще никогда не говорил с ним в таком тоне. Мартина поразил этот внезапный поворот. Ему показалось, что он летит вниз с огромной, быстро возрастающей скоростью, а внутри него поднимается какая-то волна, похожая на ядерный гриб. Он не мог и не хотел ответить ему тем же. Он ведь всегда знал, что недостоин этой дружбы, так чего же он удивляется. И обижаться не было причин, ведь Фи ничего ему никогда не обещал. Но эти рассуждения не помогали, и Мартин опустил зардевшееся лицо, стараясь скрыть навернувшиеся слезы. Фи очень испугался того, что сделал, и сразу постарался замаскировать всплеск раздражения под шутливую развязность.
– Ну ладно, чего ты. Я просто обещал отцу помочь с машиной. Погуляем на следующей неделе, ладно?
Мартину было неловко смотреть, как Фи привирает в поисках предлога, так что он покладисто улыбнулся и тихо ответил:
– Ладно.
Ария
Мартин, его отец и госпожа Лилия сидели в пышном зале на обитых красным бархатом креслах и слушали трагичную барочную арию в исполнении знаменитой зарубежной артистки. Концерт шел с аншлагом. В поле зрения Мартина оставалось только одно незанятое место, слева, у прохода, на пару рядов ближе к сцене. Свет над аудиторией был приглушен. В первое мгновение, когда боковым зрением Мартин заметил долговязую фигуру, беззвучно движущуюся по ковровой дорожке, он встрепенулся от раздражения, которое внушали ему люди, позволявшие себе во время представления ходить, шуршать, разговаривать, в то время как он даже дышать старался как можно тише. Но уже в следующую секунду его охватило чувство гораздо более глубокое, чем раздражение. Долговязой фигурой был Герман К. На нем был безупречный черный смокинг и красная бабочка. Он шел по проходу не спеша и ничуть не смущаясь оттого, что уж полчаса, как прозвенел третий звонок, в общем вел себя так, как будто был не Германом К., а по меньшей мере Марлоном Брандо. Дойдя до свободного места, он остановился, немного постоял в вальяжной позе, осматриваясь вокруг и как бы прикидывая – достойно ли это место его присутствия. Ария приближалась к своему кульминационному моменту. Герман К. сел в незанятое кресло, положил ногу на ногу и одним изящным движением поправил под собой фалды фрака. Музыка стихла. Раздались аплодисменты, похожие на звуки, которые создают голубиные крылья во время полета. Герман К. повернул голову и посмотрел на Мартина. Несколько секунд его лицо было неподвижно, затем он ухмыльнулся, кивнул в сторону его отца и невидимым ножом провел поперек своего горла:
– Кххх!
Мартин посильнее вжался в сидение. Бриллианты на шее певицы ярко сверкали в лучах софитов.
Мистификация
Фи смотрел на Марию, и она не казалась ему ни красивой, ни загадочной, ни каким-либо другим образом привлекательной. Особенно умной она, кажется, тоже не была. Однако было в ней нечто такое, что выделяло ее на фоне других совершенно необычайным образом. Казалось, будто Мария – не человек, а пустая ячейка в пространстве-времени, которую любой желающий может заполнить так, как ему захочется. Так нетребовательно было ее общество. Губы и щеки ее всегда были обветрены, под ногтями часто можно было заметить полосочки грязи. Но в этом не было ничего противного. Напротив, гладкая, почти нечеловеческая кожа других, веселых и популярных девочек и мальчиков, их постельно-пеленочная чистота внушали Фи омерзение. Ему хотелось взять Марию за руку – это должно было оказаться так же приятно, как прикасаться к морщинистым стволам деревьев или прелому лесному мху. И отчего-то он знал, что она не будет ни удивлена, ни раздосадована, если он это сделает, поэтому совершенно не волновался.
С Мартином он волновался постоянно. Он понимал, что тот желает ему только добра, ему льстила привязанность и восхищенно-обожающее выражение, которое читалось в каждом его движении, в каждом взгляде, но от его нервозности и чудовищной напряженности было очень, очень тяжело. Ему было мучительно жалко своего несуразного друга, однако он чувствовал, как с каждым днем желание ускользнуть из-под бремени его заботы медленно, но неуклонно возрастает пропорционально уменьшению жалости. А на дне этого ощущения оставался один только стыд – за себя и немного за него.
Однажды Мартин заболел и неделю не ходил в школу. Фи и Мария возвращались домой вдвоем и так, будто это была их давняя привычка, не только доходили вместе до ее двора, но и проводили там какое-то время, сидя на пороге с ее завороженным цыплятами отцом или в ее комнате, попивая крепкий черный чай. Им было хорошо, даже когда не о чем было говорить. Мария сама взяла Фи за руку, и от этого жеста полностью и окончательно превратилась в естественный и обязательный предмет его действительности. Он поделился с ней своими переживаниями по поводу Мартина. Как и следовало ожидать, она их полностью разделяла. Тогда-то они и придумали Октавию. Точнее, ее придумала Мария. Для «пустой ячейки» у нее была удивительно бурная фантазия. В том отдаленном северном городе, в котором они решили ее поселить, Мария провела несколько лет в раннем детстве. Фи понятия не имел, откуда она всего этого набралась, всего того, о чем писала. Наверное, прочитала где-то, думал он. Вообще он считал, что она чересчур увлеклась предысторией их персонажа, который изначально задумывался с единственной целью – переключить на что-то другое внимание Мартина, сделать ему подарок, который заставит его почувствовать себя не таким одиноким, пока они постараются плавно и незаметно высвободиться из тисков его дружбы. Что они будут делать потом, если этот план сработает, чем они заменят для Мартина Октавию, когда и эта ноша станет для них слишком тяжелой, они не знали. Они надеялись, что все как-то образуется само собой. Пока что они были страстно увлечены своей выдумкой – перепиской умершего недавно в доме Мартина старика Клавдия (который, насколько им было известно, никогда ни с кем не переписывался) с жившей в некотором недостижимом отдалении от него Октавией (которой в реальности никогда не существовало). Литературная ответственность лежала полностью на Марии, которая сочиняла и зачитывала для Фи небольшие зарисовки из жизни их персонажей и, принимая во внимание его идеи и советы, писала письма от лица Октавии, которые должен был получить Мартин. Роль Фи состояла в том, чтобы перехватывать послания Мартина на почте, где работала его мать, и доставлять их Марии, с которой они вместе читали их и обсуждали ответ. Мистификация эта захватила Марию гораздо сильнее, чем предполагалось. Она старалась не демонстрировать этого перед Фи, но ей ужасно нравилось быть Октавией и переписываться с Мартином, который претворялся Клавдием. Как она всегда и предполагала, у того был большой эпистолярно-литературный дар. Отказавшись от его дружбы, она оказалась привязанной к нему крепче, чем когда-либо прежде.
Друзья
Придя в школу, как обычно, около восьми двадцати утра, Мартин застал Фи и Марию сидящими за одной партой, там, где всегда сидели Мартин и Фи. Мария смеялась, что в стенах класса было для нее нехарактерно, Фи что-то говорил и как-то странно хихикал. Когда Мартин подошел ближе, они замолчали и бегло посмотрели в его сторону.
– Что смешного?
Вместо ответа они переглянулись и снова рассмеялись. Прозвенел звонок. Мария юркнула к себе на заднюю парту. Мартину хотелось тоже сказать что-то веселое, но все его реплики получались скучными и не вызывали у Фи даже тени улыбки. Мартин понимал, что ревность противоречит духу «Клуба несоревнующихся», но ничего не мог с собой поделать. Он так привык к тому, что Фи и Мария скорее его друзья, чем друзья друг друга, что и представить себе не мог ничего другого.
После уроков они так же, как и всегда, вышли втроем из школы. Никто ничего не говорил, что тоже было привычным делом, но Мартин уже знал – что-то изменилось, изменилось необратимо. Вместо того чтобы расстаться с ними у своего дома, Фи продолжил, не объясняя причин, идти дальше. Когда они достигли того места, на котором Мартин обычно сворачивает с пути домой и отправляется с Марией в деревню, он не сразу сообразил, чего от него ждут. Все трое остановились и в замешательстве уставились друг на друга.
– Мы с Фи хотели немного прогуляться.
Мартин едва не принял это за приглашение. Но что-то остро знакомое в их лицах разбило его надежды так, как не разбили бы их никакие слова. Ему вспомнилось, как он, совсем маленький, стоял с родителями посреди площади с бронзовым бюстом и смотрел на них снизу вверх, а они – друг на друга. На улице тогда стоял так же серый морозный день, как теперь, а у них в тот момент было в точности такое же выражение на лицах, как сейчас у Фи и Марии: они были счастливы.
Ответ
Мартин смотрел на группу детей, участвовавших в какой-то общей импровизационной игре с использованием снежков, турников и деревьев, и впервые чувствовал себя таким чужим. Ему казалось, что он физически не способен присоединиться к ним, как если бы он был невидим и неосязаем. Ему захотелось драматично рухнуть в сугроб и лежать так, пока кто-нибудь его не спасет. Но опыт подсказывал ему, что этого «кого-то» не существует, и если уж кто-нибудь и обратит на его отчаянный жест внимание, то это будет совсем не то внимание, которого он вожделеет. Так что, подтянув пуховые штаны на резинке, он вздохнул и побрел прочь. Единственным местом, к которому он по-прежнему ощущал отчетливую и утешительную принадлежность, оставалось кладбище. Приведя в порядок могилу матери, он двинулся дальше. Место общественного упокоения города К. было совсем не большим, так что уже через несколько минут он нашел то, что искал. Очень скромное, почти полностью скрытое под снегом, но, в отличие от других, почти нетронутое временем надгробие сообщало лишь имя и годы жизни умершего – «Клавдий С. 19…-19…». За все время, что они провели в одном доме, Мартин ни разу не слышал его голос. А теперь ему предстояло стать в определенной степени им самим. Днем раньше он обнаружил в почтовом ящике ответ на свое письмо. Он решил, что, открыв его здесь, он компенсирует ту часть его действий, которую он предпочитал называть благотворной мистификацией, но в глубине души считал обыкновенным эгоистичным обманом. Он вынул из конверта листок, на этот раз двойной и густо исписанный, и принялся читать вслух:
«Дорогой Клавдий. Я не могу подобрать слова, которые бы вполне выразили радость, доставленную мне твоим посланием. Рисунок очень красив, а фотография напоминает мне о тех днях, которые мы провели вместе. Мне очень жаль, что ты грустен, ведь я не знаю второго такого же великодушного и талантливого человека, как ты. В качестве утешения я бы хотела занять тебя небольшим рассказом, который, конечно, и вполовину не так хорош, как твои, но вдохновлен нашей дружбой, которая, ты знаешь, для меня священна».
Сказка Октавии
Хромому Гансу вот уже третий месяц каждую ночь снился один и тот же сон. Как будто он идет по улице и вдруг становится кругленьким и мягким, при этом какая-то непреодолимая сила заставляет его усаживаться в лужу на дороге. Лужа теплая и удобная. В луже он чувствует себя в безопасности. К нему подходят разные люди и ласково просят его перестать сидеть в луже. Но Хромой Ганс наотрез отказывается это сделать. С каждой минутой он становится все более мягким, а лужа – все более удобной. Так продолжается до тех пор, пока он не перестает понимать, где заканчивается он и где начинается лужа. В этот момент, который был чрезвычайно приятным и до ужаса пугающим одновременно, он обыкновенно просыпался.
Всякий день по дороге на работу Хромой Ганс замечал на тротуаре, по которому шел, небольшую канавку, заполненную мусором и отходами. Что-то пленяло его в ней, а что – он и сам не знал. Город, в котором он жил, отличался медицинской чистотой и маниакальной упорядоченностью. Каждая плитка в облицовке зданий сверкала. Каждая ветка на дереве была пострижена в соответствии с Госпланом. А канавку никто не трогал. Сколько Хромой Ганс себя помнил, она всегда была здесь, грязная и захламленная, как постыдная, но драгоценная тайна. Каково же было его изумление, когда, возвращаясь однажды вечером домой, он не обнаружил на ее месте ничего, кроме гладкого асфальта. Даже признаков ремонта он не смог найти, как если бы никакой канавки тут и вовсе никогда не было. Он наклонился и ощупал ровную твердую поверхность – ничего.
Квартира Хромого Ганса оказалась не запертой. Он жил один, так что это показалось ему подозрительным. С осторожностью пройдя по коридору, он распахнул дверь в гостиную и обнаружил сидящую на его кровати женщину. На вид ей был около сорока пяти лет. Может, немного больше. На голове у нее была намотана какая-то тряпка в качестве косынки, из-под которой торчало несколько прядей спутанных седых волос. Ситцевое платье в мелкий горошек доходило почти до пола, в нескольких местах белели дырочки, демонстрируя несвежее нижнее белье. Обуви на ее ногах не было вовсе, нестриженные ногти чернели от пыли. Голова женщины была слегка наклонена на бок, она опиралась на правую руку, поддерживаемую снизу левой.
– Ну здравствуй, Ганс.
Звуки ее голоса заставили замолчать все вопросы в его голове. Той ночью он спал без сновидений. К утру его гостья исчезла так же таинственно, как и появилась. На столе он нашел записку: «В луже хорошо, а в яме лучше». По пути на работу он обнаружил свою канавку на прежнем месте.
Кстати, хромым Хромой Ганс никогда не был, его грациозной походке могла бы позавидовать любая супермодель.
Могила
Тем временем, в город К. снова пришла весна. Каждый год Мартину казалось, что нарастающая вокруг зелень и бурное цветение словно разрывают внутри него какие-то сверхчувствительные мембраны, и он не понимал, как это агрессивное движение жизни может только в нем вызывать столько боли. Но на этот раз происходило что-то особенное. Может, он предчувствовал, что это последняя весна, которую он проведет здесь, а может, дело было в красноватой дымке, которая уже окутывала черемуховые кроны, ну а может, это было из-за Марии и Фи и того, что он задумал сделать в тот день, как только открыл глаза рано утром.
Мартин очень хорошо знал, что делать этого не следует, но таков уж был его характер. Что-то постоянно заставляло его выжимать из своего несчастья все, до последней, самой горькой капли. Выходя из класса, Мария и Фи оглянулись в его сторону, что с некоторых пор стало предвосхищать неловкую совместную прогулку до того пункта, в котором они оставались вдвоем, а он – в одиночестве, и все трое испытывали огромное облегчение. Но на этот раз Мартин задержался за партой и, стараясь придать своему голосу сколько было возможно беспечности, сорвавшись от этого усилия почти на визг, велел друзьям идти без него, так как ему якобы нужно было еще позаниматься. Они сделали вид, что поверили, он сделал вид, что поверил, что они поверили, и они ушли. Он немного подождал, и тоже осторожно вышел. Когда-то он абсолютно так же следил за Марией, как сейчас за ними двоими, только чувствовал себя тогда совершенно по-другому. Даже издалека по их фигурам можно было понять, как приятно им оставаться вдвоем, без него. С каждым шагом, который (как они думали – так как не знали, что он идет по их следам) отдалял их от его общества, их манеры, их движения становились все более свободными и непринужденными, а его рану – все более глубокой и болезненной. Оказавшись у дома Марии, они уже практически были другими людьми. Они зашли во двор, а Мартин занял стратегическую позицию в кустах.