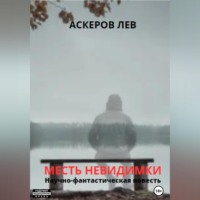Полная версия
С миссией в ад
– Правильно! – подтвердил Джузеппе.
– Вот-вот!… И тогда она махнула рукой, обернулась ко мне и сказала: «Помяните, люди, слова мои. Из этого сиракузского бычка вырастет Его Величество король эшафота»…
– Врешь ты, Джорди… – вяло отнекивался дознаватель, а затем с воодушевлением проговорил:
– Зато ты был ленивым. Всегда отлынивал от работы.
– Я зачитывался книгами…
– Ха! Ха ! – выкрикнул он. – За лень твою она тебя называла «азиатским мулом».
– А она тебя била моими портками! – ввернул Ноланец.
Там, наверху, два взрослых человека, один ученый муж и узник, а другой известный в христианском мире заплечных дел мастер и тюремщик первого, забыв обо всем на свете, вспоминали свое детство. Они впали в ребячество. Подтрунивали друг над другом. Беззлобно обзывались. Смеялись. Толкались…
«Люди, – думал нотарий, – будь они и преклонных лет – всегда люди».
Доменико удивлялся дознавателю. Сумрачный, холодный и тяжелый, как замшелый надгробный камень, Джузеппе звенел, что венецианское стекло – светло и распевно.
Ноланца Тополино не знал. Видел всего один раз. В той самой же комнатушке, где записывал его беседу с епископом Вазари. Тогда Ноланец, остановив взгляд на нотарии, сказал:
– Лицо твое мне знакомо.
Сказал и, устало смежив, черные от побоев, веки, кажется, что-то ворошил в своей больной памяти.
–А-а-а!– протянул он и, не открывая глаз, произнес:
– У Часовщика… Он показал тебя.
На какой-то миг Доменико померещилось, что Ноланец ему тоже знаком. Он видел его. Раньше. Но где? Когда?!..
Он хотел было сказать, мол, и ваша внешность мне знакома. Но, тряхнув головой, как бы, освобождаясь от наваждения, Тополино, вместо готовой сорваться из уст его, этой нелепицы, произнес совсем другое.
– Ваше преосвященство, Ноланец бредит.
Вазари согласно кивнул и со словами епископа – «До лучших времен» – они вышли.
6.
Та бредовая реплика, оброненная узником, врезалась в память нотария. Наверное, из-за ее несуразности… Постепенно она стала забываться. И вот на тебе! Она вспыхнула в мозгу, как зарница в черном небе…
Ноланец теперь в добром здравии. И снова он о загадочном Часовщике чьи занятные слова должны были убедить герцогиню Борджиа. «Странно все это,– думал Доменико,– хотя с головой у меня все в порядке.»
Однако, голос узника ему все же приходилось слышать. Точно слышал. И эти мягкие, коричневого бархата глаза, и высокий лоб с тремя, вырезанными на нем возрастом, глубокими волнистыми линиями, и теплую виноватую улыбку – нотарию некогда приходилось видеть. Прямо перед собой. То ли узник стоял, склонившись над ним, то ли они сидели друг перед другом и беседовали… И, похоже, то было во сне.
Именно беседовали. Правда, недолго. «Стоп!.. Стоп!.. – остановил он себя. – Когда?.. Где?..» Доменико, как не силился, вспомнить не мог. Это его так заняло, что самую сногсшибательную информацию, за какую любой «сукин сын» получил бы пригоршню золотых, он решительно отбросил.
Отбросить то отбросил, но запомнил. Ведь вряд ли кто в Ватикане знал о том, что Ноланец и Джузеппе Кордини – родня. Двоюродные братья. А из их разговора легко было понять, что они давно не виделись. По крайней мере, лет двадцать. Поэтому-то и спешили наговориться. И, как дети, радовались своему общению…
Как понял нотарий, Джузеппе родился и жил сначала в Ноле, а когда ему стукнуло пятнадцать, он ушел на заработки и осел в Риме…
– Хорошо, Джорди, – сказал костолом, – «азиатский мул» – понятно. А вот почему «сиракузский бычок »?…
– Не знаю, – ответил Ноланец. – Но, как бы там ни было, а предсказание тетки Альфонсины в отношении тебя сбылись…
– С тобой она тоже оказалась правой.
– Почему?
– Ты точно бы стал первосвященником… Вон какие книги написал! Да вот бес, видимо, попутал. Рехнулся… Против церкви и Бога пошел…
– Против церкви – да! – согласился узник. – Но не против Бога. Господь учит жизнью, а церковники – словом. А слово – от лукавого. Оно лишь отражение образа правды. Но не правда!.. Ибо кто кроме Него может судить?! Кто кроме Него может сказать ее?!.. Никто!.. Понтифика устраивают догмы невежд. Понтифику претит наука. Хотя наука – одна из дорог к Господу нашему…
– Папа – наместник Бога на земле! – перебивает еретика дознаватель.
– Брось, Джузи! – отмахнулся Ноланец. – Подумай, веришь ли ты в Божье рукоположение на это ничтожество?!
– Замолчи, Джорди! – кричит Джузеппе, – Ты свихнулся от книжных наук…
Ноланец громко, по деревянному хохочет.
– А знаешь что сказал настоящий Наместник, которого мы называем Спасителем?.. Он сказал слова от Господа нашего, вдохнувшего в души людские жизнь. И были они такими…
Хотя нотарий сидел далеко от двух спорящих между собой братьев, он отчетливо представил себе, как Ноланец, прикрыв глаза, и, приложив дрожащие персты ко лбу, напрягая память, говорит:
« Отпуская каждому меру своего времени, даю ощущение самих себя и всего, что окружает вас. Но не даю понимание самих себя и всего созданного Мною. Ищите себя. И вы придете ко Мне.»
– Ересь!… Ересь!…– взвился дознаватель.
Ноланец, однако, пропуская мимо ушей, напитанные ужасом возгласы брата, продолжал:
– Это сказал настоящий Наместник. И он есть. И рукоположен он Господом нашим… Со дня жития нашего.
– Страшна твоя ересь, брат! Ты богоотступник, потому что не веришь в святое писание, – в смятении лепечет Джузеппе.
– Что такое вера, Джузи?.. Она проста как вода. Как воздух. И покоится она на двух вещах. Первое – «Бог есть!» Второе – «Есть Божий суд!» А когда начинают объяснять каков наш Бог и чему Он нас учит… Тут уже религия. Она от лукавых святош… Да будет тебе известно, что идолы, сотворенные нами – Папы, дожи, короли и смутьяны – мечтают, чтобы их паства и подданные думали одинаково. Так, как хочется им.
Ноланец перевел дух.
– Эти слова, кстати, принадлежат не мне, а Часовщику, Часовщику мира земного…
– Ты с ума сошел, Джорди… Опять Часовщик!.. Сатана, что ли?!…
– Нет сатаны, брат мой возлюбленный, – тихо, с терпеливостью мудрого учителя проговорил он и также негромко, вкладывая в каждое слово могучую силу внушения, продолжил:
– Над всем сущим – один Всевышний. Я это знаю потому, что все это видел. И потому, что прожил не одну жизнь… Это говорю я, твой брат – Джордано Бруно из Нолы…
– Знаю…– начал было Джузеппе, но властный голос Ноланца осадил его.
– Не перебивай! Я разговариваю не с тобой. Я говорю Слушающему нас… Ты сейчас уйдешь, юноша. У тебя будут мои бумаги. Сохрани и донеси их…
– Джорди! Джорди!… Что с тобой? Мы с тобой здесь одни, – бросившись к узнику, стал успокаивать его Джузеппе.
– Нет, не одни, – отбиваясь от крепких рук брата, выдохнул Ноланец.
«Неужели,– подумал нотарий, – там еще кто есть?» И в это время он услышал, как кто-то с вороватой осторожностью открывал наружную дверь, которую он непредусмотрительно оставил не запертой. В приоткрытую щель просунулась острая рожица Паскуале.
– Закройте дверь, Паскуале! – потребовал он. – Вы мешаете мне.
А горбун, словно не слыша, шел уже по коридору, приближаясь к «сучьей комнате». Он шаркал кривыми ногами и вертел лисьим носом. Нет. Его сюда ни в коем случае допускать было нельзя. Тополино быстро собрав бумаги, вышел навстречу горбуну.
– Я писал секретные допросные листы прокуратора Вазари. Мне придется доложить ему, что вы помешали… Вам хотелось в них заглянуть? – прижимая к себе бумаги, он гордо продефилировал мимо канцелярщика.
Удар был что надо. Горбун вздрогнул и собачкой засеменил за нотарием.
– Доменико, ну что ты?… Я хотел просто проверить… Может кто посторонний…
– Ах, проверить?! – не дав договорить, перебил его Тополино. – Ты, стало быть, получил такое право?
Канцелярщик, от страха быть неправильно понятым, аж, задохнулся. А уже на улице, не давая прохода нотарию, умолял ничего не рассказывать прокуратору Вазари. Уже входя в судейские апартаменты, Тополино, наконец, «сжалился» над калекой.
– Хорошо. Ничего не скажу. Только когда тебя просят выйти… Тем более нотарий… Изволь слушать, – не без назидательных ноток, изрёк Доменико.
Благодарный Паскуале по-собачьи лизнул нотарию руку и еще какое-то время, назойливо поскуливая, продолжал юлить у его ног.
Как он исчез, Доменико не заметил. Его, собственно, это не интересовало. Его занимало совсем другое. Кто, помимо него, мог там, в лекарской, находиться? Кто-то третий? Откуда он мог взяться?.. Будь он там, дознаватель, который пришел раньше, заметил бы его. Да и, судя по всему, Ноланец тоже не видел его. Он не стал бы говорить о нем, как о «Слушающем». Хотя именно он, Бруно, назвал того неизвестного «юношей».
Сомнения истерзали нотария. Не давали сосредоточиться. Перо висело над бумагой так и не коснувшись ее. Нервно отодвинув ворох листов в сторону, Доменико вышел в холодный холл. Не помогло. Неотвязно, как назойливая муха, вертелось одно и то же: «Кто?»
Прислонившись к одной из колонн, Доменико попытался восстановить в памяти все детали происшедшего… Уличная дверь в лекарскую была заперта… Он вставил ключ… А отпирал ли?.. Нотарий зажмурился, чтобы вызвать в себе реальную картину того момента… И в это самое время кто-то, тяжело ступая, поравнялся с колонной, за которой стоял Тополино, и, скрежеща зубами, явственно пробормотал: «Какой «сукин сын»? »
То был дознаватель Джузеппе. По-бычьи вперившись в двери судейского зала, костолом шел на них, выцеживая одно и то же: «Какой «сукин сын»?». Нотарий слышал эту грозную фразу так же ясно, как и свое оборвавшееся от страха сердце. И он понял: Джузеппе ищет здесь монахов, распоряжавшихся подслушивающими комнатами. Именно их. Потому что Доменико сейчас только с ужасом вспомнил, что в спешке забыл запереть дверь «сучьей»… А главное, понял другое. Кроме него, нотария Тополино, в лекарской никого не было. Знать, речь шла о нем. И именно к нему обращался с просьбой знаменитый Джордано Бруно из Нолы.
Позже Тополино ловил на себе испытующие взгляды Джузеппе. Страшны были глаза его. Конечно же, он отыскал дежурившего в тот день монаха…
7.
Старательно, с каллиграфической искусностью, нотарий выписал последнюю строчку приговора:
«По возможности милосердно и без пролития крови».
« Вот и всё, – сказал он себе. – Завтра пылать костру», – и с невероятным усилием, словно поднимая увязшую в грязи повозку, выпрямил спину. Потом снова, обмакнув перо и, не меняя позы, с тем же тщанием вывел:
«Прокуратор Святой Инквизиции, Его Преосвященство епископ Себастьяно Вазари»
До приема кардиналом Беллармино времени оставалось немного, но достаточно для того, чтобы дать на подпись набело переписанный приговор.
– Паскуале, я к епископу. Скоро буду, – отодвигая стул, сказал он.
Вазари нотария не задержал. Бегло пробежав по написанному, он похвалил Доменико за аккуратность и расписался.
– Возьми! – не притрагиваясь к приговору, потребовал он. – Отдашь кардиналу Беллармино.
Тополино кивнул. Но не уходил. Вазари собирался было что-то сказать ему, но, видимо, раздумал.
– Все! – наконец, проговорил он. – Ступай с Богом, сын мой.
Доменико поспешил в судейскую. Входить не стал. Раздвинув портьеру, он крикнул:
– Паскуале! Пора!
Кардинал принял их тотчас же. Он долго, не поднимая головы, молчал. Беллармино целиком был поглощен чтением. Его пальцы нервно теребили розовую ленту, которой были повязаны рукописи Ноланца. Дочитав, кардинал по-сонному, медленно, положил скомканную им ленту на лежавшие перед ним листы.
– Да-а-а, – многозначительно протянул он и лишь после этого поднял на переминавшихся у его стола людей отсутствующий взгляд.
Глаза его были не здесь. Их куда-то в глухую глубину унесли непрошенные мысли.
– Принес?! – как невпопад спросил кардинал.
Тополино сообразил: вопрос к нему.
– Да, Ваше высокопреосвященство! – доложил нотарий.
– Вазари подписал?
Нотарий кивнул и, сделав несколько шагов вперед, положил перед ним лист с текстом приговора. Посмотрев на росчерк, Беллармино загадочно ухмыльнулся и не без потаенного умысла процедил:
– По поручению Его Святейшества, я его утверждаю…
И обмакнув в чернильницу перо, сверху, размашисто и наискосок, уверенно написал:
«Утверждаю! Его высокопреосвященство, кардинал Роберто Беллармино.»
И в этот момент звонарь церкви Санта Мария-Сопра-Минерва шесть раз бухнул по колоколу.
– Шесть часов вечера, 16 февраля 1600 года от Рождества Христова, – бурча себе под нос, дописал он под своей подписью.
Отложив роковой вердикт в сторону, Беллармино стал собирать в стопку, разбросанные по столу страницы рукописи обреченного еретика.
– Помочь, Ваше Высокопреосвященство? – вызвался нотарий.
– Нет! – коротко бросил кардинал.
А ему, Доменико, так хотелось взять их в руки, и, хотя бы мельком, посмотреть в них. Теперь он их никогда не увидит. И те слова Ноланца: «У тебя, парень, будут мои бумаги» – ему, скорее всего, померещились. А они всё также лежали под властной и холёной ладонью кардинала… Вот он их снова обвязывает лентой. Причем туго, изо всех сил, словно стягивает ею кому-то горло. Хотя почему «кому-то»? Конечно же, Ноланцу.
– Паскуале! – зовет кардинал. – Подойди!… Возьми!.. В них жуткая ересь. Завтра ты лично бросишь их к безбожнику в костер…
– Есть, Ваше Высокопреосвященство!
Строго буравя канцелярщика, он добавляет:
– Я тебе доверяю, Паскуале. Ты преданный и честный христианин. Мы ценим тебя… Поэтому требую, чтобы ни один листик отсюда не пропал. Ни одна живая душа к ним не должна прикоснуться.
– Есть Ваше Высокопреосвященство! – выпучив глаза, прохрипел растроганный горбун.
– Последним их читателем должен стать огонь… На, возьми!
Паскуале перекрестился…
Теперь попробуй забери их у горбуна? Умрет – не отдаст. Нет, завладеть ими сегодня не удастся. А завтра будет поздно… И все-таки одна, но слабая надежда оставалась. Во время казни. Прямо из огня. Без помощника тут, однако, никак не выйдет. И такой,– промелькнуло в голове нотария,– есть. Лишь бы он согласился.
«Надо говорить с Джузеппе Кордини. Если, – думал Тополино, – мне ничего не показалось и в «сучьей комнате» я слышал то, что слышал – значит он откликнется».
Тополино оббегал всю тюрьму. Облазил всё здание суда. Все было напрасно. Дознавателя он так и не нашел. Джузеппе провалился словно сквозь землю. Правда, один из стражников, охранявших осужденных на смерть, сказал, что Джузеппе, сопроводив Ноланца в камеру, ушел пить. За дознавателем водилась слабость к возлияниям. И обильным. Пьяным, правда, никто и никогда его не видел. Зато все знали – что он пьет, сколько и где?
– Если он тебе так нужен, беги в таверну «Морская качка», – посоветовал стражник. – Он там загружает свой трюм.
Тополино бросился к выходу. У самых ворот его остановили. Срочно требовал к себе епископ Вазари. Пришлось возвращаться
8.
– За стол! – завидев нотария, властно крикнул прокуратор. – Его Святейшеству сию минуту из сегодняшнего допроса следует выписать несколько ответов Ноланца.
Тополино вмиг понял в чем дело. Понтифику потребовались ответы осужденного на вопросы, которые ставил лично он. Естественно, задавали вопросы судьи, а предлагал их сам папа. Такое в практике нотария случалось много раз.
– Готов? – спросил Вазари.
Тополино кивнул.
– Отлично! Пиши! Я буду диктовать. Итак… Был спрошен:
Обсуждал ли публично или частным образом в своих чтениях положения, противоречащие и враждебные католической вере и установлениям Римской церкви?
Ответил:
В целом мои взгляды следующие. Существует бесконечная Вселенная, созданная бесконечным божественным могуществом.
Я провозглашаю существование бесчисленных отдельных миров, подобных миру этой Земли. Вместе с Пифагором я считаю ее светилом, подобным луне, другим планетам, другим звездам, число которых бесконечно. Все эти небесные тела составляют бесчисленные миры. Они образуют бесконечную Вселенную в бесконечном пространстве, в котором находятся бесчисленные миры… Отсюда косвенным образом вытекает отрицание истины, основанной на вере.
Итак, косвенно я выступал против установлений святой Римской церкви, но я не учил тому, что противоречит божественности миров и земной жизни…
Был спрошен:
Высказывал ли взгляд, что апостолы обращали народы проповедью и примерами к доброй жизни, а теперь, говорят, что против тех, кто не желает быть католиком, надо проявлять жестокость, и применяют к ним не любовь, а насилие?
Ответил:
Правильно следующее. Насколько припоминаю, я говорил, что апостолы сделали гораздо больше своею проповедью, добрыми делами, чем можно сделать насилием, как поступают в настоящее время. Я не отвергал разного рода лекарственных средств, применяемых святой католической церковью против еретиков и дурных христиан. В своей книге, в частности, я говорил, что этим методом необходимо искоренять тех, кто под предлогом реформы отказывается от добрых дел… Однако, повторю: апостолы гораздо больше сделали своими проповедями доброй жизнью, примерами и чудесами, чем можно достигнуть посредством насилий над теми, кто не желает быть католиком…
Был спрошен:
Говорил ли когда обвиняемый, будто чудеса, творящиеся Иисусом Христом и апостолами были мнимыми?
Ответил:
В этой Вселенной я мыслю существование вселенского провидения, волей которого каждая вещь растет и движется в соответствии с ее природой. И, как я понимаю, для этого есть два способа: один из них – когда в теле присутствует душа, во всем теле и в каждой его части; другой – неизъяснимый, когда сам Бог присутствует во всем, но не как душа, а таким путем, который трудно постигнуть. Для нас, землян, в постижении природы своей и в понимании самих себя и таится неисчерпаемый кладезь всевозможных чудес…»
– Закончил? – спросил прокуратор.
– Да.
Внимательно просмотрев написанное, епископ после некоторого раздумья, произносит:
– Можешь быть свободным.
Тополино сдуло с места, как пыль. Он бежал в таверну «Морская качка», а сам то и дело возвращался к тому, что сейчас ляжет на стол Его Святейшества папы Климента VIII.
Ноланец был всегда осторожен в ответах. Каждую фразу произносил с замедленностью опоенного дурманом человека. Явно, обдумывал. А вот сегодня едва не проговорился. Правда заметили это только он, Доменико, кардинал Беллармино и дознаватель Кордини. Джузеппе, аж, вздрогнул. Но все обошлось.
Это случилось, когда один из судей спросил действительно ли он считает чудеса Христа мнимыми? На что Ноланец сказал:
– В этой вселенной я мыслю существование вселенского Часо…
Еще бы чуть-чуть и у него вырвалось бы слово «часовщик». Но во время спохватившись, он тут же нашелся:
– Вселенского провидения,– заключил обвиняемый.
Кто он, тот загадочный Часовщик? В записях, предположил нотарий, о нем, наверняка, что-то есть. Ведь кардинал тоже среагировал на оговорку Ноланца. У него глаза полезли под брови. И он еще нервней забарабанил по бумагам, обвязанным розовой лентой…
…Резкий порыв ветра с доброй жменей снега наотмашь ударил по глазам. На какое-то мгновение нотарий ослеп. А когда протер глаза, увидел, что стоит перед самой вывеской «Морская качка».
Кордини сидел в дальнем темном углу. Один. Перед ним стояло полдюжины опорожненных бутылок. Он тупо смотрел в налитый до краев бокал и, кажется, что-то нашептывал. Доменико решительно (куда только подевалась робость перед этим страшным человеком?) сел напротив.
– А, это ты, парень? – нисколечко не удивившись его появлению, не то спросил, не то принял как само собой разумеющееся, Джузеппе.
Взгляд его был трезв. Голос тверд. Язык не заплетался.
– Я совсем не пьян, парень… А встать не могу. Не пойму, что за пойло? Ноги отказали… Не поможешь подняться?
По февральскому мглистому Риму шел, опираясь на мышь, Человек-гора. Будь то днем, люди надорвали бы животики. Тополино обливался потом, задыхался. Каждая косточка была в неимоверном напряге. Вот-вот какая-нибудь треснет. Джузеппе понимал, каких трудов этому хлипкому юноше стоило его волочить. И он из всех сил старался помочь ему. Ноги же слушаться отказывались. Дознаватель кряхтел, скрипел зубами и то и дело сокрушенно причитал: «Ах, Джорди, Джорди…»
Пробирающий до кишок ветер и лютые компрессы мокрого снега, наконец, возымели своё действие. Конечности понемногу отходили.
– Ну вот, парень, мне полегчало… Теперь я могу сам, – сказал он.
– Меня зовут Доменико, – напомнил нотарий.
– Знаю. Это ты был в лекарской. Мне «сукин сын» сказал… Ведь ты брал ключ у него.
Тополино отнекиваться не стал. Не затем он шел к нему в таверну… Почувствовав подходящий момент, Доменико коротко изложил суть дела. Джузеппе оказался на редкость понятливым. Не дав договорить, он сказал:
– Хорошо. Помогу. Я пришел. Ариведерчи… Ты тоже ступай домой.
Сказал и, грузно развернувшись, зашагал к такому же громадному и мрачному дому, как он сам. Ошарашенный, столь неожиданным финалом разговора, Тополино, растерянно хлопая глазами, смотрел ему вслед. Доменико хотелось грубо, так, чтобы эта человекоподобная гора застыла, как истукан, заорать: «Ты, мясник чортов», стой!.. Как?!.. Как поможешь?!..» И, словно услышав его, Джузеппе остановился. Полуобернувшись, он поманил нотария к себе. Доменико обрадовано подбежал и… повис в воздухе. Ухватив за грудки, дознаватель поднял его на уровень глаз и четко процедил:
– Завтра у костра горбуна из виду не упускай. Не отходи от него ни на шаг… Я что-нибудь придумаю… Попробуй, зевни.
Пальцы его разжались, и Тополино плюхнулся задом в лужу. Джузеппе усмехнулся, махнул рукой, и, как ни в чем не бывало, пошёл дальше.
9.
Аббат Карл Бильдунг из монашеского ордена Святого Бенедикта, по кличке «Жгучий брюнет», явился на тюремный двор прежде, чем проснулись петухи. В четвертом часу пополуночи. Он носился по нему, как взбесившаяся собака. Злой. Не выспавшийся. А главное – не протрезвевший.
Всполошенные кондотьеры разбегались от него, что куры в птичнике, до которых дорвался перегрызший цепь дворовый пес. Сталкиваясь между собой, они с площадной бранью накидывались друг на друга, обвиняя один другого непонятно в чем. Дошлые, пытались спрятаться в укромных местечках, где было темно и не холодно. Но не тут-то было. Огненно-рыжая копна волос Бильдунга пылала на ветру как косматый факел. Всё, стерва, высвечивала. А два постных пятна, зыркающих по сторонам, могли видеть даже в такой кромешной тьме. Оттуда, из спасительных щелей, куда забивались ушленькие, аббат гнал их пинками да тумаками…
Кличку, столь не вяжущуюся с его внешностью и, вызывающую смех, дал аббату сам Его Святейшество. А случилось это так.
Сразу после восшествия на святой престол Климент Восьмой, рекомендуя Бильдунга прокуратору Святой инквизиции, сказал, что этот жгучий брюнет лучший в христианском мире церемониймейстер по устройству публичных казней воинствующих безбожников. Он-де и педантичен, и изобретателен, и исполнителен…
– Каждый костер для нашего, любящего зрелищ, пополо он сделает праздником, – тоном, предупреждающим какие-либо возражения прокуратора, заключил понтифик.
Увидев впервые Бильдунга, прокуратор от удивления потерял-таки дар речи. Едва сдерживая всклокотавший глубоко в горле смех, он выдавил:
– Это вы?.. Вы аббат Карл Бильдунг?..
И не выдержал. Ударив себя по ляжке, громко расхохотался. Бенедиктинец, как не странно, не обиделся. Он все понял.
– Вы, синьор, представляли меня мавром? – расплывшись добродушной улыбкой, кротко спросил он.
Не в силах произнести ни слова, прокуратор закивал.
– Это шутка Его Святейшества. Он за глаза называет меня «Жгучим брюнетом», а когда я появляюсь…, реакция у всех такая, как у вас.
Не прошло и трех месяцев, как кличка аббата стала звучать отнюдь не смешно. Он жег людей и устраивал по этому поводу грандиозные шабаши. И пополо, веселясь и беснуясь, в экстазе проклинал заживо горящих в кострах еретиков. И если в их обезумевшем сознании зарождалась жалость, то связана она была с быстротечностью происходящего действа… Пополо ждал с нетерпением следующего костра. Звона церковных колоколов, возвещавших римлянам об очередном поражении дьявола, забравшегося в тело выродка…