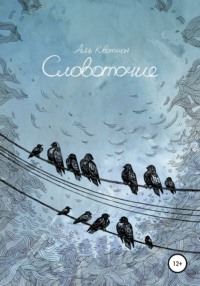Полная версия
Искренне
– Тебе надо изменить прическу. Покрасить волосы в красный. Тебе стоит пересмотреть себя с нуля, чтобы прийти к новым открытиям.
Я говорю:
– Посмотри, то здание заминировано. От его дверей разбегается мощный, равномерный гул встревоженных людей, но через несколько метров совершенно исчезает, потому что равнодушие – лучший глушитель.
Я говорю:
– Завтра я уеду. Утром я вспомнил, что давно собирался заглянуть в жерло действующего вулкана, возможно, это поможет мне преодолеть распад собственной души.
Она отвечает мне:
– Люблю! Люблю! Люблю!!!
Это все, что она может ответить. Она не знает других слов. Она не знает других чувств. Она не способна представить другого мира за пределами этого бьющегося между маленьких украшенных цветами чашечек «люблю».
Наверное, это целенаправленный акт. Взвешенное решение (единственное действительно принятое ей). Возможно, она осознанно уравнивает себя с интерьером маленькой жилой площади, которую кто-то может назвать «родным домом»: с цветами в горшочках на окне, белым тюлем и просвечивающим сквозь него смоговым городским солнцем, с телевизором, работающим тихо, чтобы не побеспокоить соседей. Может быть, это ее способ избежать пугающего принятия решений, тяжелого выбора, то есть всего чуждого, требующего воли, силы, устойчивости и веры в себя. Может быть, даже ее «люблю» – не больше, чем необходимость в жизни стороннего человека, способного принять такого рода решения за нее, когда это становится необходимым.
Но даже в этой кажущейся двумерной простоте нет банальности. Если внимательно прислушаться к ее жизни, как к музыке, если позволить ей попасть в подсознание и звучать там хотя бы пятнадцать минут – то в этой примитивности откроется осмысленный способ быть собой, обретение себя в самых юных, наивных и честных представлениях о жизни. И она предлагает мне все, что у нее есть – она предлагает мне именно эту музыку. Я закрываю глаза. Я слушаю ее. Улыбаюсь. Соло безмятежности. Ритмика постоянного повторения, не требующая от своих инструментов никакой жизни – ни болезненных вскриков скрипки, ни почти сексуального хрипловатого голоса гитары (такими бывают голоса отъявленных ловеласов, уже списанных временем, но еще не растерявших былые навыки), ни-че-го. Музыка не сыгранная, а электронная, созданная в одной из множества программ композитором-ребенком.
Я бы мог остаться и слушать ее. В этом нет ничего плохого, в этом даже царит своя красота, это может вызывать восхищение. Я бы, наверное, смог. Но я никогда не узнаю об этом наверняка.
Назавтра я ушел.
Огни ночного клуба
Если ты поэт, то совсем не важно, какой инструмент в твоих руках – слова или глина, ноты или кисть, мастерок или нож, ножницы или спички – ты все равно будешь писать стихи. Даже тогда, когда никаких инструментов нет. А есть только ты сам, вечер и возможная череда выборов и поступков.
В ночном клубе свихнувшиеся огни бегают по потолку, по стенам, по разгоряченным телам танцующих, словно бы звездное небо порвалось и затекло сюда как в полую чашу. В ночном клубе гремит музыка, вибрируя и толкаясь басами в живот, словно живой зверь, не злой, но большой и неуклюжий. Девушку, с которой я сижу за барной стойкой, зовут Светлана. Это то, что она знает о себе, – имя Светлана, рождение в захолустном городке, еще пара лет учебы в университете. Она мечтает увидеть Санкт-Петербург и Эйфелеву башню. У нее нет никаких серьезных планов на собственную жизнь. Но я знаю о ней совсем другое. Я говорю:
– Ты помнишь песню из Мэри Поппинс «Само совершенство»? Мне кажется, она про тебя.
Девушка удивленно поднимает бровь и улыбается:
– Еще никто не сравнивал меня с Мэри Поппинс.
– Но я сравниваю тебя не с Мэри Поппинс. Я сравниваю тебя с самим совершенством.
Но мы здесь не для этого. Мы здесь, чтобы танцевать. И она хватает меня за руку и тянет к танцполу. Сейчас она мой Вергилий. Сейчас я ее Данте. Перед нами раскрываются врата, за ними ад и рай сошлись в едином порыве огромного движения, полностью подчиненные шумному зверю музыки. Говорю ей об этом, и на темном ночном полотне клуба сразу вспыхивает светлый художественный мазок ее беззаботного смеха. Она начинает танцевать. Ловлю руками ее легкое, почти птичье тельце, мягко и уверенно удерживаю, останавливая трепет, метания, рывки (словно она и вправду птица, желающая вырваться из тенет земного и взлететь). Света смотрит на меня, она пока не понимает.
– Я приглашаю тебя на медленный танец.
– Но ведь музыка не подходит для медленных танцев!
Улыбаюсь. Кончиками пальцев закрываю ей глаза. Наклоняюсь к маленькому ушку, к камушку сережки, поймавшему в себя радугу огней.
– Слушай ту музыку, которая звучит в тебе. Я тоже буду слушать только ее. И именно под нее мы будем танцевать. Окружающего мира больше не существует. Мы здесь одни.
Девушка начинает движение – медленное, плавное, совсем другое, более внутреннее, более потаенное. Она кладет руки мне на плечи. Ее лицо поднимается вверх, выше, словно бы сквозь ночь – к солнцу. Оно становится новым, удивительным, одухотворенным. Наше дыхание смешивается, становясь единым. Смешивается все. Мы оба слушаем музыку, звучащую в ее сердце. Мы танцуем. А потом она тянется к моим губам, находит их и падает в долгий поцелуй.
Великий океан
Я тону. Возможно, я живу под водой. Каждую ночь мне снится мировой океан. Нет, сны разные, они не повторяются, но каждую ночь в них неизбежно входит мировой океан. Это не тот океан, который способен раскинуться от берега до берега и без устали разбивать горбы волн о сутулые плечи-берега любовницы земли. Этот океан в каждом море, в каждой луже, в каждой капле воды из-под крана. Но вместе с этим раздроблением на источники и колодцы, брызги и облака пара он ужасающе един. И он снится мне. Раз за разом. Словно между нами неразрывная связь, прочнеющая с каждым годом, с каждым днем. Утром я просыпаюсь, забывая свои сны. Но потом я включаю воду. Я вижу капли дождя на окне. Я читаю слово «вода» в книге. Даже самое обычное печатное слово или слово, написанное от руки, – уже беременно этой великой громадой. И вся явь, вся реальность грозно искажается во мне – я снова слышу дыхание и голос мирового океана. Это уже не сон, это почти безумие. Потому что день за днем я безнадежно, даже с каким-то тайным ликованием тону. И песок уходит из-под ног, и волны мощными ударами разбиваются о грудь (вторая, третья!), и волны поднимаются высоко над головой (шестая, седьмая!), пока не кончится дыхание, пока не кончится дыхание (девятая!), пока… Потом дыхание наконец заканчивается, и все вокруг становится правильным.
Береги себя
Береги себя. Прощаюсь, закрываю дверь. Слушаю наступившую тишину. Я всегда боялся тишины, как иные боятся высоты или пауков. Мне кажется, что тишина не для человека. Точнее, человек не для тишины. Стоило сказать ей об этом, но я снова не смог, что-то внутри душит любые слова – правильные и нужные. Может быть, так происходит потому, что слова правильные, а я сам – нет? И это идиотское «береги себя», которое я постоянно повторяю. Совершенно нелепое, словно бы подразумевающее, что собеседник по умолчанию одинок в этом мире и рассчитывать может только на себя. Самое страшное, что я говорю это женщине, которую люблю. Которую этой ночью гладил по спяще-безвольному предплечью, по закинутому на меня бедру, по волосам, растрепавшимся по подушке. Гладил, замечая, какая она юная, беззащитная, хрупкая в этом сне, какая необычайно ранимая, какая нужная, незаменимая, важная для меня. Горло сдавливало нежностью, все мышцы напрягались, жадность и жажда любви кружили голову, но я всеми силами сдерживал рвущуюся из меня страсть и лишь осторожно гладил ее, чтобы не потревожить сон. А потом – «береги себя». Глупо. И стыдно. Воцарившаяся тишина стала мне честным ответом на мою мелочность. Я сказал ей: «Береги себя». Но вновь трусливо умолчал, что это чертова ложь, что мы обязательно должны остаться рядом, потому что только я, я сам хотел бы беречь ее каждую секунду этой скоротечной жизни.
Ухожу навсегда!
Мне около тринадцати лет. Я обижен на всех, никто меня не понимает. Я ухожу из дома. Собираю самые важные для себя вещи – недочитанную книгу и кассетный плеер (кассету я записывал сам, многие песни в ней наезжают друг на друга – сохранял их так, чтобы не было пауз, и запросто стирал долгие музыкальные вступления и окончания песен, считая их лишними, главным образом вслушиваясь именно в тексты). Бабушка в той же комнате старательно гладит белье, почти не обращая на мои сборы внимания.
– Уходишь?
– Да!
– Опять навсегда?
– Да!
Она пожимает плечами и продолжает водить утюгом:
– Хорошо. Обед в пять, будут котлеты.
Ничего не отвечая, я ухожу. Навсегда ухожу из дома – не в первый и не в последний раз. Выходя за калитку, оглядываюсь по сторонам и придумываю, куда же я уйду навсегда. В лес! Буду жить в лесу, построю себе шалаш, наберу грибов и ягод – с запасом на зиму. Или прямо пешком уйду в другую далекую страну! Наверное, не так это и далеко, не так сложно, особенно сейчас, когда лето, отличная погода, а у меня такие удобные кеды. Или пойду в город! Устроюсь там на работу и сразу стану взрослым и самостоятельным. С такими рассуждениями я дохожу до ближайшей поляны или пригорка, залитого солнцем, жужжащего стрекозами и кузнечиками, сажусь в траву и включаю музыку. Под музыку планировать собственное будущее намного веселее, появляются в этом эпизоды некоторой книжности: стану героем, буду любить красивейшую из женщин, в одиночку выиграю и остановлю страшную войну, построю собственный город, полечу исследовать новые миры! Будущее становится очень захватывающим, красочным, хочется попасть в него как можно скорее.
За этими мечтаниями я забываю про время. Сижу в траве, улыбаюсь мыслям, а большое солнце медленно и лениво проползает надо мной по небу. Живот начинает бурчать. Вытягиваю тонкие соломки травинок, жую самый кончик – мягкий, белый, сладковатый, отчего живот начинает булькать только сильнее. А предательские мысли от строящихся городов и космических ракет уходят в совсем другое русло – к бабушкиным словам «будут котлеты». Гоню их, но они настойчиво возвращаются. Я уже даже начинаю видеть эти злополучные котлеты – зарумяненные, поджаристые, ароматно дымящиеся, посыпанные укропчиком, запревшим от жара. На вспотевшей тарелке, по краям которой блестят капельки оседающего пара, иногда быстрыми ручейками стекая к краям золотого облака картофельного пюре. Эти мысли полностью захватывают мою голову, и пока я вяло борюсь с ними, сдавая позицию за позицией, ноги, оказывающиеся куда мудрее головы, поднимают меня и направляют верным направлением. Прихожу в себя и возвращаюсь в реальность уже стоя возле нашей калитки. Издали приветливо лает пес. Уходить куда-то теперь больше не имеет никакого смысла, поздновато, да и желание прошло. Открываю калитку и, смущенно понурив голову, бреду в сторону кухни. Завтра я снова обязательно попробую уйти. В этот раз – точно навсегда. И вернусь к обеду, до того, как моя все понимающая бабушка начнет волноваться.
Встреча с собой
Сколь многие из нас, уже взрослыми возвращаясь в места детства, чувствовали ту моментальную тонкую и пронзительную грусть, чье лицо – само время, явленное взору во множестве больших и маленьких перемен. Сколь многие думали, говорили, а зачастую и писали после: «Мир стал другим. Мир стал не тем. Мир стал хуже». И никогда, никогда не было важно, что за перемены произошли. Мир стал хуже просто потому, что стал другим. На месте старой перекошенной избы бабы Мани, возле которой паслись гусь Федька и коза Нона, которым ты таскал траву и с щенячьим восторгом сыпал из ладошек крупное желтое зерно, теперь вырос крепкий богатый дом, совершенно чужеродный. Территория облагорожена, убрана, но нет уже ни бабы Мани, ни Федьки, ни Ноны. Или, наоборот, та изба развалилась окончательно, и стоит ее безлюдный осиротевший остов памятником твоих воспоминаний.
Когда я сам вернулся в свой старенький дачный поселок, мое главное наблюдение было в том, что он стал… низким, что ли. Да, именно низким. Заросшие кустарником заборы, до верхушки которых я не мог дотянуться в свое малолетство, которые скрывали что-то удивительное, теперь стояли покоренными, высотой по грудь и совершенно прозрачными. А за заборами – самые обычные дома. Низкие-низкие, словно бы припадавшие к земле все время, пока я рос. Обычные дома. Еще одно отличие – в моем детстве не было обычных домов: к каждому из них прилагалась своя история, своя сказка или легенда. И чем непроглядней были кусты, чем выше заборы и неприступнее избы – тем удивительней были те истории. Когда я вернулся – все осталось прежним. Но все стало хуже. Стало уже. И та же острая, жалящая тоска, полная какой-то щемящей любви, сдавила горло.
В такие моменты возвращений мы часто словно бы ищем кого-то, кто виноват. Мы обвиняем в своей тоске перемены, мы говорим те слова: «Стало хуже». Легко этим обманываясь. Потому что очень часто ничего не стало хуже, иногда стало даже лучше – если посмотреть глазами стороннего равнодушного обывателя. Но у нас нет равнодушных глаз, у нас есть только то, что всегда вызывает смешивающее внутренний свет и внутреннюю боль чувство, – это встреча с самим собой. Встреча в сердце взрослого человека с ребенком, которым он был. Которым остался – здесь, рядом с бабой Маней, ее гусем и козой, с охапкой травы в руках или сыпучим зерном. И по какому-то негласному внутреннему закону, встречаясь с собственным прошлым, мы виним настоящее. Виним самих себя за то, что больше никогда не будем детьми. Это то, что мы по-настоящему умеем, – винить. Винить тогда, когда можно закрыть глаза, протянуть руку и пусть с печальной, но все же благодарностью почти коснуться подушечками пальцев курносой веснушчатой мордашки очень дорогой части собственной души, продолжающей стоять в этой высокой траве и страстно желать однажды вырасти выше всех в мире заборов, поросших густым, непроглядным летним кустарником.
Эпоха
Она умирает медленно, никуда не спеша, обрамляя свои дни легкой, изысканной и огромной скукой, словно бы в скуке есть философские изыскания и почти эротичная печаль на кончиках губ. Она смотрит в себя, листая множество мыслей, страниц, ажурных и беспомощно слабых чувств. Она ищет ответы на все вопросы, но ничего не находит, заочно уверенная в собственной мудрости. Она избегает силы рук и грязных луж с отражением слишком насыщенного солнца. Она любит мягкие диваны темно-бордового оттенка хорошего вина, ее называют светской и утонченной, но она не может построить ни одного дома, потому что на стройках века всегда слишком много пыли, способной испачкать белые шелковые перчатки. Мать без детей, она баюкает в колыбели собственную инертность, находя в ней выдуманную глубину, ругая молодое, крепкое, сбитое и грубое поколение – поколение, не читающее ее книг, поколение, не носящее ее кружев, поколение, которое наследует землю. Она говорит: «Так я живу», но на самом деле она умирает.
Предельно разные
Вы, конечно, предельно разные – это понятно по тысяче маленьких и больших несогласий, долгих, как гласные в прозе жизни. Вы, конечно, предельно разные – и, заядлый спорщик, ты раздуваешь дискуссии, ссоры, семейные скандалы, как иные раздувают пламя, чтобы выковать сталь. Вы, конечно, предельно разные – ты не веришь ни единому слову, но слова не заканчиваются, словно назло рождаясь грубыми, поспешными и неловкими. Вы, конечно, предельно разные – как две полноправные истины, никогда раньше не знавшие друг о друге, но столкнувшиеся лбами в одной тесной запертой комнате. Вы, конечно, предельно разные – никаких осмысленных компромиссов, и на этом можно было бы поставить точку. Но ты любишь ее, потому что, когда она указывает пальцем на небо и говорит: «Посмотри, в этом же нет ничего красивого», ты впервые понимаешь, что это так, навсегда переосознавая небо.
Красиво любить женщину
Любить женщину – одна из самых красивых вещей, существующих на Земле. Пишу эту фразу, и рука замирает над словом «вещь» – неправильно подобранным, неуместным словом. Конечно, не вещь, но что? Акт, явление, действо, холст, картина – произведение искусства, возведенное в ранг физической и духовной жизни. Любить женщину – это красиво. Не вожделеть, не добиваться, не удовлетворять победами над ней собственную гордыню, не хвастать друзьям, нет, – именно глубоко и честно любить. Любить на «Вы», почти холодно:
– Этот наряд очень идет Вам, Вы сегодня на редкость прелестны.
А у самого – дрожат руки, перехватывает дыхание, подкашиваются ноги, кожу предательски штурмуют войска мурашек! В голове бешено стучит крик «Люблю!», но снаружи ты усилием воли сдерживаешь этот шторм и целуешь ее запястье, едва касаясь губами. И запястье это (Ах! Ее запястье! Ароматное духами, тонкое, мягкое, хрупкое, невероятное!) вдруг затмевает весь мир.
– Не желаете пройтись по парку?
Звучит почти равнодушно, незаинтересованно, словно бы это пустяк. Но она улыбается, кивает, берет тебя под локоть, а ты прилагаешь титаническое усилие, чтобы пулеметное, бешеное сердце прямо сейчас не вылетело из груди, вскрикнув от счастья, и не разбилось вдребезги об асфальт. Мучаешь себя, выдерживая ровный шаг, спокойный уверенный голос (не дрожит ли?), элегантность и медлительность каждого движения – это почти больно (так больно!), но невыразимо прекрасно. Это надрывное, сильнейшее переживание счастья. Это та легчайшая романтика, жизни и страстей в которой куда больше, чем в иной эротике. Это весь огромный потенциал человеческой души, сжатый в кулак в одно мгновение.
Любить женщину так – это очень красиво. И своего совершенства такая красота достигает тогда, когда женщина – с первой скромностью, сохраняя свою изысканность и достоинство, – благосклонно отвечает взаимностью.
Твой поэт
Если бы твой поэт был простым человеком, возможно, он жил бы в городской квартире, ужиная в кресле возле окна и ставя тарелку с яичницей рядом с пепельницей. Возможно, он был бы женат, и жена не читала его стихов, часто выбрасывая в мусорку рукописи на салфетках. Она бы ругала его за бесполезную трату времени и за недостаток внимания к насущному: к ее теплым голодным формам и нежным сварливым чувствам. Возможно, поэт бы пил кофе по вечерам, капая в него спиртное, жаловался соседке на ноющую боль и хронический кашель – свое нажитое бытовое наследство. Возможно, его бы раздирали мигрени, и жена шла к холодильнику, чтобы достать оттуда крупные кубики льда, сложить в старый непригодный шарф и осторожно прикладывать к его вискам. Возможно, собственные дети его бы не слушались, потому что он проявлял к ним чрезмерную мягкость, но слушал бы кто-то другой, незнакомый, считающий его поэтом. Возможно, что долгота его дней (пепельница, шарф со льдом, наброски в мусорке) приобрела бы больший житейский трагизм, чем иной расстрел – быстрый и решающий. Возможно, он часто говорил бы глупости или что-то странное, легко пропускаемое мимо ушей его близкими. Возможно, он мечтал бы совсем о другом, но неизбежно принимал любую данность, шелушащуюся как нездоровая кожа на лбу времени. Возможно, он бросил бы литературу, смертно устав нести свою собственную голову. Все бы могло быть так, если бы ты только давала право твоему поэту быть простым человеком.
Женщины старше
Мне всегда нравились женщины старше меня. Сверстницы или более молодые, почти подростковые дамочки казались слишком инфантильными, слишком поверхностными, слишком испорченными современностью, а выращивать из такого незрелого семени «спутницу под себя» не было ни времени, ни желания. Нет, мне нравятся женщины старше – имеющие устойчивые взгляды, долю недовольства жизнью и циничную улыбку в арсенале. Женщины, которые говорят о мужчинах со слегка усталой иронией вместо жадного интереса. Женщины с медленной вдумчивой ретроспективой, с тем критическим, но спокойным взглядом в зеркало, который присущ людям, научившимся принимать реальность как есть, – без ошалелой гонки за модой и временным идеалом. Женщины, с которыми можно запросто обсудить работы Буковски или Рида, даже если сами они их не читали, потому что в любом случае им найдется, что сказать, не позволив превратиться диалогу в заунывно-познавательный, не вызывающий интереса монолог. Конечно же, со временем становлюсь старше и я, но вместе со внутренним ростом мне так и продолжают нравиться женщины более взрослые. Наверное, однажды (если я, конечно, смогу доползти до старости с этим жестким ритмом жизни, перманентными срывами и больным сердцем) придет моя очередь писать любовные записки мертвой невесте.
Настоящие мы
Мы становимся настоящими за одно мгновение. Случайно сталкиваемся на шумной городской улице, рассыпаем безадресные, заученные наизусть, равнодушные извинения, а потом замираем и удивленно рассматриваем друг друга, словно впервые встретились с человеком среди уродливых бетонных конструкций. Стоим, смотрим и становимся настоящими. Это ясно по резко обрушившейся на нас огромной и громкой тишине. Нет, вокруг все так же шумно – тишина воздвигается внутри. В ней различимы и крайне важны очень маленькие звуки: шорох одежды, кожаный скрип ремня сумки, сердцебиение (очень разное, мое топ… топ… топ… – глухие шаги старика по едва освещенному коридору, твое динь-динь-динь – музыка ветра, тонкие металлические палочки бьются друг о друга). Смотрим, вслушиваемся и понимаем – вот оно. Наконец-то настоящие. До этого были чужими даже для самих себя, а сейчас – родились, вылупились, стали. Теперь можно сказать: «Вот я, смотрите, вот!» И не поморщиться пафосу и наигранности слов. Вот я. Смотри. Голый, новорожденный, истинный, плохой и хороший перед тобой. Вот ты – смущенная, честная, живая. Все, что было раньше – сон, вымысел, неправда. Все происходит в одно единственное мгновение. А потом время прозрения истекает, я отвожу взгляд, ты пожимаешь плечами – и мы уходим каждый жить своей искусственной жизнью среди уродливых конструкций из бетона.
Поэзия на улице
Мы забыли поэзию на улице. Вон она – валяется в урне возле гипермаркета, по которому идут гиперлюди, обтирая о медленные ноги пакеты гиперпокупок. В урне среди смятых чеков, пустых упаковок одноразового сока и секса, среди окурков и использованных, утративших ценность характеров лежит поэзия. Вон она – грязный цветок на обочине кольцевой, посеревшее пылью лицо беззубого неба в чашечке лепесткового жухлого тряпья. Запятнанная смогом цивилизации безумная природа души, несовершенная и изуродованная, но все еще любимая мной. Вон она – в величии нищего человеческого тела, стоящего вполоборота к бензиновым лужам, к лоснящимся масляным блеском шкурам машин, к разбросанным на асфальте рублям в коросте бренности – с книгой в руке. С книгой, нотами или кистью. Вон она – лишенная картинок, букв, ртов, ее произносящих, дешевых жестов в социальных сетях, настоящая, плотная, истинная – до касания пальцами и острой боли в подушечках. Вон она – прямо на улице, где мы забыли о ней.
Типичный поэт
Вот так и бывает: приходит к тебе какой-нибудь типичный поэт. В карманах – острые камни и мятые птичьи крылья. На рукаве рубашки – наспех нацарапанные карандашом придуманные на ходу рифмы. Жилка на шее дергается – но кажется, что в такт внутренней музыке. В общем, обычный на вид человек, разве что глаза выдают. Глаза его – тонущий корабль, сквозь пробоины которого хлещет в трюм океан. И ничем никогда этот океан не вычерпать. Да и вычерпывать совершенно не нужно.
Приходит такой вот поэт и тащит тебя, например, гулять. Сопротивление совершенно бесполезно – он найдет убедительные слова, он в целом с легкостью находит любые слова, словно гортань его изнутри покрыта томами книг, словарями, клинописью. Вы с ним шатаетесь по городу. Ты родился в этом городе, он изучен тобой вдоль и поперек, знаком до каждого столба и до каждой облезлой бродячей кошки, знаком до привыкания, до ломки, до тошноты и повальной скуки. Но ты идешь с поэтом по опостылевшим улицам и понимаешь, что в ребрах этого человека застрял весь мир. Что мир этот намного больше, чем ты знал. Идешь, а поэт тебе рассказывает внутреннюю структуру бетона, как фундамента духовосприятия мягкого живого человека в твердой оболочке городских стен. Там, где ты всегда видел только бетонную стену да матерные лозунги маркером на ней. Вы просто шляетесь по улицам, а жизнь вдруг раскрывается мириадами новых граней и значений. Этот олух поэт становится для тебя проводником, первоискателем подлинных картин там, где ты знал только бессвязную мазню.
Именно за это ты будешь ненавидеть пришедшего к тебе однажды поэта. Потому что он уйдет. И унесет с собой показанную тебе вселенную. А уходя, обречет тебя смотреть на улицы, на прохожих, на корявые деревца, на бетонную стену – в попытке снова и снова найти в них что-то большее. Он уйдет, оставаясь драгоценным истоком для самого себя, но тебя проклиная жить твоей прежней жизнью, которая никогда уже не сможет принести удовлетворения. Потому что ты уже видел иное. Потому что теперь ты знаешь. В связи с этим я запираю двери перед каждым поэтом. Я не хочу умирать.