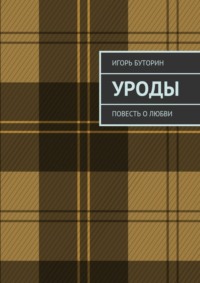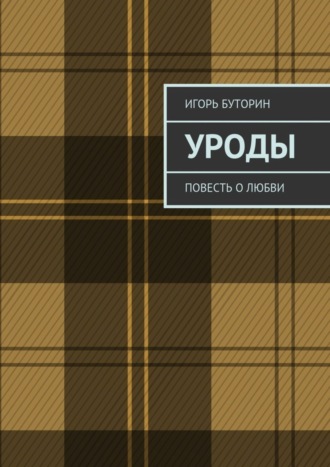
Полная версия
Уроды. Повесть о любви

Уроды
Повесть о любви
Игорь Буторин
© Игорь Буторин, 2016
ISBN 978-5-4483-5128-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Уроды
Повесть о любви
Томагочи
1
Александра Семеновна открыла дверь своим ключом. Голова, после вчерашних поминок, немного болела. В квартире усопшей соседки царил бардак. Это и понятно, кто теперь здесь будет наводить порядок?
Семеновна устало бродила по хаосу. Среди развороченного тризной стола с остатками еды и старой посуды, продавленных стульев и куч тряпья по углам, соседка была похожа на курицу среди безобразия скотного двора. Съела скукоженный покрытый капельками испарины кусок сыра, на подоконнике обнаружила недопитую рюмку водки, не задумываясь, выпила ее содержимое и присела на табурет. Из туалета раздался звук унитаза, от которого Семеновна даже вздрогнула.
– Что они там себе думают? Вот ты мне объясни на милость, – громко спросила Семеновна, подойдя к двери уборной. – Какие-то сволочи, других слов я подобрать не могу. Совсем уже народ в нищету вогнали. Я на прошлой неделе газету читала, так вообще волосы дыбом. Никогда не думала, что придется еще и в конце жизни голодовать. Вот после войны страшная голодуха была, собак ели, хлеб давали по карточкам, варенье варили без сахара… На всю жизнь запомнила его вкус. А нам, ребятам, ведь не объяснишь, что жрать нечего, вот мать и плакала тайком. Потом, когда карточки отменили, нам все не верилось, что хлеба теперь можно есть вволю. Четыре буханки тогда с братьями умяли, потом животы очень болели.
Из-за двери никто не ответил.
– Ладно, пойду, я, чё-то устала прибираться тут. Пойду, полежу, потом еще приду… поприбираюсь. Народ совсем сдурел, смотри-ка, кто-то рюмку припрятал с закуской… Совсем сдурели, сволочи. Ну, ладно, отдохни и ты поплачь, помогает… Горе-то какое. Эх, Дуся, Дуся, сама ушла, а сыночка не забрала с собой, – и шепотом добавила, – а зря…
Семеновна горько вздохнула, смахнула слезинку. Подумала, как-то оно будет, когда и ей придет срок отдать Богу душу? Пошла домой поплакать и заранее пожалеть себя, а быть может, свою дочь, которая вряд ли успеет на похороны, потому что живет аж в Салехарде, а оттуда за три дня не доберешься. Кто будет ее хоронить, как оно будет… неизвестно.
Похороны соседки организовывала она одна. Семеновна ходила по соседям просила помочь. Кто деньгами, кто свозил на своей машине по инстанциям. Одним словом, похоронили соседку Дусю, как считала Семеновна, нормально. Да и поминки организовала тоже она. И теперь понимала, что, когда придет ее срок, бегать и хлопотать будет некому. В подъезде из стариков теперь кроме нее никого не осталось. Все остальные жильцы хрущовки были более-менее молоды, и помирать им еще рано.
Когда дверь за соседкой закрылась, из туалета на инвалидной коляске выехал Кусков. Двигался он хотя и уверенно, но осторожно, ощупывая встречные углы руками. На нем была старенькая, застегнутая на все пуговицы, но чистая белая рубаха. Глаза скрывали темные очки. Он несколько раз наткнулся на стоящие, на непривычных местах табуретки и стол, пока не добрался до подоконника, где нашел магнитолу и включил радио. Оттуда зазвучали новости о выборах, взрывах, революциях на Ближнем Востоке, ДТП и прочая чернуха. Молодой человек выключил радио и подался на кухню. Там в холодильнике взял бутылку водки.
– Царствие небесное тебе, мама, – и запрокинув голову, стал пить обжигающую жидкость крупными глотками. Потом закашлялся. Минуту сидел переваривая. Комок в горле душил, из глаз брызнули слезы. Кусков сквозь слезы заорал во все горло песню: «Комбат – батяня, батяня – комбат…»
То ли прооравшись, то ли проплакавшись, уставший Кусков снова припал к горлышку бутылки…
Из забытья его вывел звонок в дверь, который прозвучал резко и требовательно. Кусков нехотя подъехал к двери.
– Кто?
– Я это, Серега Селезнев. Помнишь?
Кусков помнил Серегу. Они были друзьями с детства. Вместе росли, вместе пошли в школу, вместе ушли в армию. Потом Серега женился и переехал в соседний дом в примаки к своей жене. Его же родители перебрались жить в деревню, откуда тридцать лет назад приехали в город за хорошей жизнью. А вот в старости потянуло их на малую родину, да и жалко было оставлять дома, которые достались в наследство от их деревенских родителей.
Последний раз Кусков видел друга детства на своих проводах в армию, и вот, вдруг, Серега объявился.
Серега ворвался в квартиру, как свежий ветер, хотя свежим его можно было назвать с большой натяжкой, потому что друг детства дополнил комнатное пространство запахом густого перегара.
– Здорово, – пожал руку Кускову Серега и, на алкогольном нерве затараторил, не прерываясь. – Ну, как ты? Да-а, жалко тетю Дусю. Теперь один… Ну, ниче, ты не боись, я тебе, если чё надо, помогу, друзья детства все-таки. Слушай, после поминок, может, у тебя выпить чего осталось, а то вчера ветку перегнул, сейчас трясет, как не знаю что.
Кусков, обрадовался Сереге и кивнул на старенький шифоньер, где была припрятана водка.
– О, ейс! Ты будешь? Давай помянем, легче будет.
Серега быстро разлил по рюмкам. Одну всучил Кускову, быстро чокнулся и стремительно опрокинул ее в свое пышущее похмельем нутро. Минуту сидел набычившись, переживая первую похмелочную, потом встрепенулся и уставился на Кускова уже посветлевшими глазами. Сереге явно полегчало, после чего, по старой русской алкогольной традиции, требовалось поговорить.
– Ты не боись, Серега Селезнев никогда своих друзей в беде не бросает, – начал разговор по душам друг детства. – Прорвемся. Может сразу по второй?
Серега разлил, сообщил, что за помин души надо пить не чокаясь, выпил сам. Кускову стало хорошо. Хорошо, что сейчас на следующий день после похорон матери сидит дома не один. Он был благодарен Сереге, что тот, вспомнив о друге детства, зашел его проведать. Благодарен, что тот не вовлекает его в разговор, а треплется сам, не жалеет друга и не задает лишних вопросов о будущем. Хорошо, когда есть друзья. Эта уже пьяная мысль согрела не хуже водки, и стало спокойнее.
– Классно было в детстве, рассуждал Серега. – Ни тебе забот, ни хлопот. Даже соплю тебе подотрут, живи и радуйся. А сейчас… Моя совсем оборзела. Сегодня просыпаюсь – так тошно, а она орет своим противным голосом. Так заколебала, ну, я и долбанул ей промеж рог. Так она, стерва живучая, топор схватила и нагло так мне в глаза говорит: «Убью на хрен, и мне ничего не будет». Прикинь, в каком настроении я сегодня из дома вышел.
Снова налил Серега, предупредив друга, что пьет теперь по половинке, чтобы на дольше хватило, и чтобы можно было толком поговорить.
– Конечно, все от водки, – настроение Сереги приобретало все более философские мотивы. – Ну вот, если разобраться, так ведь это она вместе с тещей меня на стакан посадили. Выпей, зятек, ты у меня хороший. А моя, я сколько раз ей говорил, давай вместе, я из запоя выйду, ты только гостей не приглашай, ну месяц, или два, а там я бы выправился. Так нет, сука, заявила, что из-за меня, пьяницы, она свой образ жизни менять не собирается. Вот оно и пошло-поехало. Она с бодуна не болеет, здоровая стерва, а мне с утра хреново. Ну, там, пивка или еще чего, а, как говорится, сто грамм не стоп-кран, дернешь – не остановишься. Понятно, что к вечеру нажрешься, да еще и эта халда постоянно орет своим противным голосом. Хотя, если разобраться, то моя-то тоже уже на стакане, бабы они быстрее мужиков спиваются. Только она этого не понимает. Для нее я главный корень зла и беспробудного пьянства. Запои, конечно, частенько стали случаться. Ну, ладно, загрузил я тебя, давай лучше выпьем. Что делать собираешься?
От такого резкого перехода Кусков не сразу понял, о чем это его спрашивают.
– Черт его знает. Пенсия пока идет, правда, небольшая, но жить можно.
Серега посмотрел в окно и предложил:
– Может, тебе бабу завести? Они хоть и стервы, но и польза от них тоже есть: там пожрать-постирать могут и вообще… секс.
– Чего молотишь, кому сегодня инвалид нужен? Да и вообще, кому мы, живые уроды, кроме матерей, нужны. Они, как привыкли с детства сопли да дерьмо за детьми убирать, так всю жизнь и убирают, пока не споткнутся о край могилы. Я вообще жалею, что не погиб, мать бы десять лет назад отревелась, нынче в гроб спокойней бы легла…
Сказал это Кусков зло, поэтому Серега насколько это было возможно с уже затуманенным сознанием, попытался успокоить товарища:
– Не боись, если чего надо, я тебе помогу, буду заходить, проведывать. Что ты здесь один будешь киснуть. А я тебя с корешками познакомлю, ну там, когда бутылочку раскатаем, когда просто потрендим. Не боись, я тебя не оставлю, ты мой корефан! Давай за настоящую мужскую дружбу.
Еще выпили. Серега, накидавшись на старые дрожжи, уже сильно окосел и Кусков это понял по заплетающейся речи друга.
– Заходи, Серега. Всегда рад.
Но Серега вместо того, чтобы откланяться, просто стек на пол. Кусков ощупью обнаружил обмякшее тело школьного товарища, достал еще одну бутылку водки, выпил из горлышка и вновь затянул песню про комбата. Раздался стук по батарее.
2
Прошла неделя со дня похорон матери. Кусков даже пробовал приспособиться к одинокой жизни. Он, по сути, пытался вновь изучить квартиру. Если раньше ему все подавала мать, то теперь необходимое ему приходилось искать самостоятельно. А слепому это было нелегко. Если что-то падало на пол, то найти это, сидя в инвалидном кресле, было практически невозможно. Именно поэтому квартира скоро превратилась в форменный бардак. Опять же он порой забывал, что и куда ставил. Так однажды он почти час искал чайник. Потом нашел его в ванной. Беспомощность больше всего злила Кускова. Причем злился он на весь белый свет – на себя, на умершую мать, на соседку, которая долго не приходит, на правительство и собес. В такие минуты гнева он мог и сам запулить что попадало под руку, а потом долго это не вовремя попавшееся под руку, но нужное, искать.
Редко, но приходила соседка. Она терпеливо, но ворчливо собирала разбросанные вещи и домашнюю утварь, ставила все на положенные места. Однако Кусков не всегда догадывался, где эти «положенные» места находятся, и тогда снова злился, или плакал, или беспомощно скулил. Соседка Александра Семеновна приносила продукты, иногда суп. Когда она приходила инвалид молчал, а после ее ухода вновь превращался «в злого овоща», как он теперь себя стал называть.
После смерти матери, как ему казалось, его окружила липкая кромешная мгла. Если раньше, когда была жива мать, его окутывала ее любовь, ее разговоры, ее рассказы о том, что творится на улице, в магазинах и вообще в мире. То теперь, оставшись совсем один, он физически ощущал, эту темноту, которая заползала во все его существо, разъедая изнутри. Его слепота была не врожденной, а, если можно так цинично сказать – благоприобретенной, поэтому он плохо ориентировался даже в своей квартире. Комок в горле окостенел, и главное, что теперь постоянно занимало его сознание, была жалость к самому себе и злость на весь мир. Мыслей о том, что он сам виноват в смерти матери, Кусков старательно не замечал.
Так всегда бывает, что смерть близкого человека мы воспринимаем исключительно, как подлое предательство с его стороны. И плачем на похоронах от того, что нам жалко себя, брошенных в этом, как нам тогда кажется, несправедливом мире. А он – покойник, ушел от суеты и проблем и ему там уже хорошо. А нам остаётся весь этот огромный жестокий мир с его болями, разочарованиями и вечной суетой.
«Ну, вот, что теперь делать? Как жить?» – страх Кусков испытывал панический, на грани отчаяния, до тошноты.
Друг детства Серега больше не заглядывал, скорее всего, вышел из запоя и помирился с женой. Водка, которая осталась после поминок кончилась. О том, чтобы купить еще спиртного, соседка и слушать не хотела и Кусков целыми днями слушал радио. Но и оно не вносило в его темный мир хоть какую-то иную краску кроме черной.
Иногда Кускову снилась мать. Снилась молодой и красивой. Такой, какой он ее помнил с детства. Отца у него не было. Нет, он, конечно же был, но Кусков его не знал, тот ушел от матери, когда узнал, что она беременна. Дома не было даже его фотографии. Да и мать о нем никогда не вспоминала.
Выйти замуж снова она даже не пыталась, и всю свою жизнь посвятила сыну. Хотя, по мнению Кускова, она была очень красивой женщиной, и в детстве, во время их прогулок в городском саду, он часто ловил заинтересованные взгляды мужчин, которые те бросали в ее сторону. Но раз она так решила, что сама воспитает и поднимет сына, так и было, пока не случилось несчастье – сын стал калекой. И даже в этой ситуации она не падала духом, ухаживала за ним. Наверное, втихаря плакала. Однако Кусков ни разу не слышал горестных ноток в ее голосе. Она всегда излучала оптимизм и веру в то, что рано или поздно врачи помогут ее мальчику, и прозреть, и встать на ноги. Сердечный приступ перечеркнул всю их, пусть нелегкую, но устроенную жизнь.
Кусков теперь частенько плакал. Мысль о будущем вызывала у него тихую панику, и тогда он пел песню про батяню—комбата шёпотом и очень жалостливо. Комбатом ему виделась его мама, ее образ освящал слова этой песни, оттого и звучала она по-разному. Когда жалостливо, когда зло. Зло, потому что Кусков считал мать тоже виноватой в его ситуации. Почему умерла, оставив его здесь, на этом свете, таким никчемным, беспомощным и никому на фиг не нужным.
Ему тоже хотелось вслед за матерью покинуть этот мир. Вот только как?
Иногда он мысленно разрабатывал способы, как свести счеты с жизнью. Однако мысли эти были какими-то вялыми. Бросаться из окна было бесполезно – из квартиры на первом этаже далеко не улетишь и уж тем более, на смерть не разобьёшься. Или, например, пустить газ. Однако при взрыве могут пострадать соседи. А их жалко – ни причем они. Повеситься? Куда прикрутить веревку? Да и не найти ее, заботливая Семеновна унесла не только веревки, но и все ножи. Хотя, при желании, найти какой-нибудь способ свести счеты с этой теперь совсем уже беспроглядной жизнью было можно, но чернота жалости к себе облепила его таким плотным панцирем, что туда не смог бы пробиться даже самый сильный импульс к окончанию теперешнего никчёмного и беспомощной существования. Не было никаких сил и воли.
Иногда соседка заговаривала о том, что было бы неплохо пристроить Кускова в какой-нибудь интернат или богадельню. Она обещала написать письмо на телевидение, чтобы там журналисты прониклись и помогли устроить жизнь инвалида, потому что она тоже не вечная и ноги плохо ходят, и давление плющит и вообще тоже собирается на тот свет, потому надо пристроить калеку, как можно скорее.
Однажды именно в тот момент, когда он грустно пел про комбата и придумывал методы ухода из этой черной жизни, в дверь нервно застучали.
– Откройте! Помогите! Пожар!
Кусков, очнувшись от своих дум, подъехал к двери и отпер ее. В комнату ввалилась компания, судя по голосам, молодых людей. Это были два парня и девица. Они резко захлопнули дверь и затихли. Один из гостей, припав к уху Кускова, затараторил:
– Парень, парень, слушай, прикрой нас, менты достают! Спрячь! Сейчас по квартирам пойдут. Ты что, глухой?
– Нет, слепой, – безразлично молвил Кусков. – Прячьтесь, где хотите. Мне по уху!
Гости устремилась вглубь квартиры, а Кусков остался у двери. Не прошло и минуты, как в дверь позвонили.
– Кто?
– Милиция.
– Я инвалид, незрячий, кто вас знает, может, вы бандиты.
В это время стало слышно, как свою дверь открыла соседка, видно, позвонили и ей тоже.
В подъезде стояли два оперативника, которые предъявили Семеновне свои удостоверения и уточнили:
– Он что, точно инвалид?
– Да, один живет, – пояснила Семеновна. – Мать недавно померла. Он после Чечни не видит и не ходит.
Но опер все равно поинтересовался через запертую дверь:
– Эй, к тебе кто-нибудь заходил?
– Нет. Кому я на хрен нужен!
Соседка сердобольно махнула в сторону двери рукой:
– Да, нет, кому он откроет. Выпивает он, иногда сразу не разбудишь. Никто к нему не
заходил, я бы услышала, я за ним ухаживаю.
Оперативники поднялись выше и стали звонить в другие квартиры. Потом было слышно, как они чертыхались и сетовали, что чердак не закрыт, поэтому беглецы, скорее всего, через него и скрылись. С тем и ушли.
Кусков вернулся в комнату.
– Эй! Где вы? Вылезайте, слиняли менты.
Молодые люди и не прятались. Они уже расположились в комнате вокруг стола и курили. Один из них самый шустрый хлопнул Кускова по плечу:
– Спасибо, парень. Мы еще немного посидим, пусть мусора окончательно свинтят.
Его товарищ загасил сигарету в тарелке с уже мумифицированными вчерашними пельменями и поинтересовался:
– Парень, а ты чё один здесь живешь? Кайфово! Только вот воняет у тебя чем-то. А где Зойка?
Второй махнул в сторону туалета:
– Обделалась, наверное. Как спряталась в клозете, так и сидит там, трясется. Парень, парень, мы у тебя ширнемся?
Кусков только махнул рукой, давая понять, чтобы делали что хотят. Хотя нет, есть у него дело. Он вытащил из кармана смятую купюру и протянул в сторону ближайшего голоса.
– Вы мне тоже помогите – водки принесите… пожалуйста.
Парни переглянулись. Условились, что сначала они «вколятся», а потом принесут водки. Из приличия предложили уколоться и Кускову, но тот отказался. Они быстро и умеючи приготовили свое снадобье и приняли по уколу.
Потом еще какое-то время выглядывали в окно и когда убедились, что там нет полицейских, собрались уходить. Шустрый взял сотенную купюру Кускова, перемигнулся с товарищем и сказал:
– Парень, мы за водярой. Как вернемся, постучим в дверь. Шестнадцать длинных, восемнадцать коротких, значит это мы, открывай смело. Договорились? Ну, пока. Если Зойка проснется, гони ее в шею. Она там у тебя в туалете уснула, наверное, парчуга.
Своих новых товарищей Кусков так и не дождался.
3
Кусков вначале очень злился на незваных гостей, которые забрали деньги, да так ничего и не принесли. Неблагодарные. Потом успокоился, кто их знает, быть может, не получилось, глядишь, еще принесут выпивку. Ведь так не бывает, чтобы совсем не было у людей совести, он же им помог…
Спустя какое-то время в ванной зашумела вода. Кусков вздрогнул. После смерти матери он спал в кресле, да и кто поможет перебраться сначала на кровать, а потом обратно в кресло. Умываться тоже перестал. А нафига? Кто его увидит? А тут – шум воды. Опять, наверное, трубу прорвало, и надо звать Семеновну, чтобы та звонила слесарю. Однако комната вдруг наполнилась движением, и раздался довольно молодой женский голос:
– Ой, ты моя хорошая, обделалась. Засраночка, моя. Сейчас, сейчас мы все уберем, покормим тебя и поиграем.
Кусков на минуту растерялся – кто пробрался в его квартиру, так что он не заметил? Откуда в его квартире какая-то женщина с кем-то собирается играть? Наверное, незваные гости не заперли дверь? Или кто-то перепутал квартиры? Или что… белая горячка?
– Кто здесь?
Девица подала голос:
– Здарова, еще раз! А ты кто?
– Конь в пальто, – нагрубил Кусков. – Живу я здесь. А ты, кто?
Девица плюхнулась на стул напротив Кускова, он это почувствовал.
– Зови меня – Зоя. Ты что, забыл? Мы у тебя прятались от ментов.
– А что твои дружки тебя здесь оставили что ли? Или ты сама осталась или тебя забыли?
– Я уснула… у тебя в ванной. Намаялась я там…
– Где?
– В красном уголке. А почему у тебя так пахнет?
– А с кем ты разговаривала?
– Когда?
– Только что.
– Что у тебя так воняет? Это Клашка.
– Где Клашка?
– Вот. Она обделалась.
Зоя протянула ладони к Кускову, тот почувствовал движение ее рук и отпрянул.
– Поэтому и пахнет дерьмом. Она что, до туалета дойти не успела?
Теперь отпрянула девица:
– Ну, ты прикол. Как она до туалета дойдет? Она еще ребенок.
– Ты с ребенком пришла? Он твой?
– Мой.
– А папаня где?
– В Караганде. Тормоз.
– У меня в Чечне замкомвзвода был из Караганды – Витек.
Девушка уже не слушала Кускова. Все ее внимание было обращено к маленькой затертой пластмассовой коробочке, которая лежала в ее ладонях.
– Ну, теперь давай есть.
– Ты посмотри, там, в холодильнике еще должен остаться соседский борщ.
Теперь девушка начала с интересом рассматривать Кускова. Перед ней сидел, в общем-то, молодой еще человек в заношенной белой рубахе, правда подмышками она уже поменяла цвет на рыжий. Лицо, заросшее щетиной, больше чем наполовину скрывали старомодные женские солнцезащитные очки.
– А ты инвалид детства, да?
– Нет, инвалид юности. Нашла?
– Что?
– Харчи.
– Так ты совсем ничего не видишь?
– Зато я слышу и чувствую запахи.
– А ты свой запах, что не чувствуешь?
– Так это же твоя дочка обделалась.
– Сам ты обделался. От нее не пахнет.
– Матерям от своих детей никогда не пахнет.
– Тормоз.
Зоя пошла на кухню, заглянула в холодильник.
– Да-а, борщик. Сколько уже дней томится? Духман от него… с ног валит!
— А как же ты с ребенком – и шляешься, где не попадя?
Девушка протянула свою коробочку Кускову, потом спохватилась, вспомнив, что он ничего не видит, и сунула ее в его руку.
– Клашенька, иди к дяде, он где-то чего-то не допонимает, а, видно, хочет понять. Руки подставь.
Кусков ощупал пластик коробочки. По форме она напоминала обычный брелок или маленькую мыльницу.
– Что это?
– Не что, а кто. Это Клавдея.
– Слушай, у тебя вообще все дома? Совсем, видно, долбанулась. Мыльницу дочкой называет. Крыша съехала?
Кусков бросил брелок на стол. Девушка быстро, но нежно схватила свою драгоценность. Понесла ее к лицу и запричитала:
– Ты, Клаша, не обращай внимания на дядю, он у нас урод в жопе ноги.
Ласковый тон девушки остудил зарождающийся гнев инвалида. Кускову вначале показалось, что над ним просто издеваются. Но потом по интонации девушки он понял, что та играет с каким-то загадочным предметом. Да мало ли какие у кого закидоны. Кусков решил подыграть этой блажи.
– Быть может и урод, только вот ноги – не совсем ноги и не совсем в жопе. Зоя, а как твоя Клавдея хезает?
– А как ты?
– Дура!
Коробочка издала писклявый звук.
– Это часы, догадался инвалид.
Зоя снова сунула коробочку в руки Кускову
— Поиграй с ней, видишь – просит.
Тут Кусков взорвался:
– Слушай, я хоть и урод, но не придурок.
Он размахнулся и уже собирался швырнуть писклявую коробку об пол, но Зоя ловко вцепилась в его руку и начала ее выкручивать:
– Клаша, Клаша! Дай сюда! Чуть не убил ребенка. Фу-у, это ж от тебя так сильно наносит!
Кускову стало неудобно. И действительно он не мылся с похорон матери. Да и как было помыться, когда кран сломался, сантехник приходил, посмотрел, отрезал прохудившуюся трубу и пообещал вернуться, да вот все никак не идет.
– Слесарь, козел, не приходит чинить. А к соседям я стесняюсь попроситься. Тем более что трудно одному в ванну-из-ванны. Соседка обещала пожаловаться начальнику ЖЭКа. Но, видно, что-то не получилось. Извини…
– Да ладно. Это ты извини. Я понимаю, тебе трудно. А Клаша – это, томагочи, знаешь?
– Нет.
– Игрушка такая, японская. Ты пальцами пощупай, чувствуешь, вот это маленький экран, на нем и видно маленького зверька, утенка, например, или слоника, или вообще какое-нибудь фантастическое животное. Он как настоящий, но только маленький. Чтобы он рос, нужно за ним ухаживать. Кормить – вот этой кнопкой, играть – этой, укладывать спать, тогда он будет расти. А вот здесь, кнопочки, ими ты и общаешься с Клашей, а она голосом тебе отвечает, вот смотри, – девушка переставляла пальцы Кускова по кнопкам электронной игрушки. – Слушай, давай я тебе помыться помогу.
– Ты что, опупела? Сегодня друг придет, Серега, он мне поможет – Кусков даже отпрянул.
С девушкой тем временем произошли некоторые изменения. Она засуетилась. Вывернула все свои карманы, как если бы что искала. Не нашла.