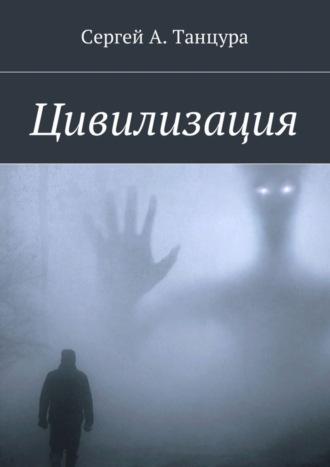
Полная версия
Цивилизация

Цивилизация
Сергей Александрович Танцура
Иллюстратор Сергей Александрович Танцура
Иллюстратор https://pixabay.com
© Сергей Александрович Танцура, 2018
© Сергей Александрович Танцура, иллюстрации, 2018
© https://pixabay.com, иллюстрации, 2018
ISBN 978-5-4490-3553-0
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Цивилизация
Клад Кудеяра
Иван Чёрный отёр рукавом распаренное лицо и махнул рукой своим помощникам:
– Опускай!
Те засуетились, развязывая перекинутую через охлупень верёвку, и на землю грузно повалилось нечто, что ещё час назад было человеком. Сейчас это «нечто» на человека походило мало: вывернутые под неестественными углами конечности, обугленные до черноты рёбра с запечёнными на них остатками мышц, кровавые лоскуты содранной со спины кожи… Нет, это совсем не походило на человека – боярина Василия Волошина, который встретил Ивана Чёрного во дворе своего терема, гордый от осознания собственной значимости. Как же он удивился, когда Иван вместо земного поклона стегнул его нагайкой, а затем, спешившись, добавил кулаком в зубы, сбив с ног. Удивился – и возмутился, ещё не понимая, что его судьба уже решена, и Иван – просто кат, приводящий приговор в исполнение. А люди Чёрного, не мешкая, кинулись в терем, и через минуту оттуда донёсся вой избиваемых слуг и домочадцев Волошина, и визг женщин, с которых срывали платья и опрокидывали прямо на пол, силой разводя ноги. Услышав крики и своих жены с дочерью, Волошин перестал сыпать бранью и угрозами и попытался броситься домой, на помощь любимым. Но Чёрный вновь опрокинул его на землю и придавил сапогом, как червя. Он с нескрываемым наслаждением наблюдал за моральными муками и бессильной яростью этого нестарого ещё мужчины, внезапно оказавшегося в полной его власти и неспособного спасти даже самых близких ему людей. И не торопился добавлять к ним мучения физические – ради чего, собственно, Иван сюда и пожаловал. Только когда в тереме всё стихло, Чёрный – даже его ближники не знали, была то его фамилия или прозвище – убрал со спины плачущего боярина ногу и легонько пнул его носком сапога.
– Ну, подымайся, неча валяться-то!
– Вымески брыдлые1! Да я ж вас на куски порву и псам своим скормлю! – дрожащим от ненависти голосом буквально прошипел Василий. Иван, услышав последние его слова, от души расхохотался.
– Так ведь мы и есть псы, да не простые, а государевы! – и он кивнул на отрубленную собачью голову, притороченную к седлу его лошади. – Али не признал, боярин?
Волошин сплюнул кровь из разбитого рта и опустил голову.
– Так-то оно лучше, – презрительно ухмыльнулся Чёрный. – А теперь ты мне расскажешь…
– Что? – глухо, не поднимая глаз, спросил Волошин.
– Всё! – посерьёзнев, отчеканил Иван. И, помедлив пару секунд, тяжело повторил: – Всё…
Когда спустя малое время Иван взялся за него всерьёз, Василий Волошин действительно рассказал ему всё, что знал – и был искренне опечален, что не знает больше. Однако Иван продолжал пытку до тех пор, пока боярин не начал повторяться. Только тогда Чёрный поверил, что Волошин не скрыл ни капли столь нужной опричнику информации. Впрочем, Иван не привык останавливаться на полпути и – для верности – приказал притащить на двор жену и дочь боярина. Когда тот увидел их – нагих, избитых, поруганных, – в глазах Волошина вспыхнул не гнев на сотворивших подобное, а – ужас. Он понял, что ждёт их – и завыл: неистово, безнадёжно, как не выл даже тогда, когда его самого жгли калёным железом и сдирали с него кожу.
– Я всё сказал, слышишь?! Всё! – хрипел он чёрными, запёкшимися от боли губами, на которых выступила кровавая пена. – Отпусти их, Христом-богом заклинаю!
– Государь наш, Иоанн Васильевич, тут единственный бог! – отрезал Иван, и в глазах его полыхнул мрачный огонь. – И в его воле казнить виноватых и миловать невинных, отделяя одних от других. Я же – оружие в его деснице, вершащее эту казнь! Давайте! – крикнул он своим подручным, и те, завалив жену Волошина Анастасию на землю, споро привязали четыре верёвки одним концом к её рукам и ногам, а другим – к четырём лошадям.
– Тяни, – скучным голосом приказал Чёрный, и верёвки натянулись, приподняв распятую ими женщину над землёй.
– Ну? – повернувшись к висящему на импровизированной дыбе Василию, поднял одну бровь Иван. – Неужто ничего боле не вспомнил, а?
Если бы взгляд убивал, от Чёрного осталась бы горстка пепла, так посмотрел на него боярин.
– Тяни! – глядя ему прямо в глаза, скомандовал Иван. Лошади сделали по шагу вперёд, и все присутствующие явственно услышали хруст выворачиваемых суставов. Анастасия запрокинула голову назад и надсадно, по-звериному закричала.
– Ну?! – сквозь зубы выдавил Иван. Волошин не выдержал, перевёл взгляд на свою жену, и из его глаз ручьём полились слёзы.
– Прости, Настя, – еле слышно прошептал боярин. Иван тихо выругался и, помедлив секунду, крикнул: – Тяни!!!
Женский крик взвился на недосягаемую, невозможную высоту – и резко оборвался, сменившись звенящей тишиной. И чавкающим звуком разрываемой на куски плоти, от которого затошнило даже самых бывалых из людей Чёрного.
– Ну?!! – остервенело заорал Иван, брызгая слюной в лицо Волошина. Но тот ни на что уже не реагировал, остановившимся взглядом смотря на то, что осталось от его жены.
– Девку сюда! – окончательно теряя над собой контроль, рявкнул Чёрный. Опричники вытолкнули на середину двора, где ещё трепыхалось в конвульсиях расчленённое тело матери, её с Волошиным дочь – девчонку лет двенадцати, голую, в синяках и ссадинах, с кровью, засохшей уже на внутренней стороне её худеньких бёдер. Двигалась она, как сомнамбула, ничего не замечая вокруг, и казалось, что ей всё равно, где находиться – здесь или где-нибудь ещё. «С глузду съехала2», – мелькнуло в голове Чёрного. Схватив её за растрёпанные волосы, он подтащил девчонку прямо к её отцу и зло сказал:
– Жену свою ты не пожалел. А дочь? Тоже не пожалеешь?
Боярин дёрнулся, словно от удара.
– Я сказал тебе всё, что знал! Всё! Что ещё ты хочешь от меня услышать?!
– Ты знаешь, что.
Волошин посмотрел на него полубезумным взглядом – и вдруг обмяк, сломавшись и душевно, и физически.
– Хорошо, я скажу. Кудеяр – это я. Я! Меня вы ищете, душегубы! Меня!
– Докажи! – подобравшись, как хищник перед прыжком, враз охрипшим голосом просипел Чёрный.
– На третьей версте за весью Шеффилд3, на Косой Горе, есть родник, который местные Святым почитают. За ним, у реки Воронки, схрон мой. Там найдёшь всё злато, что скопил я, пока от вас, проклятых, лытал4. Метка у схрона – стрела на дубе вырезана, в корни указывает. По этой стреле пятнадцать шагов отмерь – там схрон и будет.
– Добро, – процедил опричник и, выхватив из-за пояса кинжал, перерезал девчонке горло. Страшно забулькав, она перевела удивлённый взгляд с отца на своего убийцу – и медленно опустилась на землю, как только Чёрный перестал удерживать её за волосы.
– Зачем? – без боли, устало спросил Волошин. – Я же во всём сознался.
– Так и я её пожалел – без мучений к Богу отпустил, – ответил Иван. И, отерев рукавом распаренное лицо, махнул рукой своим помощникам: – Опускай!..
…Опричники скакали намётом, не жалея коней. А за их спинами полыхало на полнеба зарево – горел терем Волошина, в котором билась, задыхаясь в ядовитом дыму, дворня боярина – последние свидетели опричного сыска. Таков был приказ самого государя: видоков не оставлять! – и опричники, подчинявшиеся непосредственно Иоанну Васильевичу, выполняли этот приказ со всем тщанием и прилежанием.
К седлу Ивана, рядом с оскаленной собачьей головой – знаком принадлежности к опричному сословию – был приторочен мешок с другой головой: головой Василия Волошина, доказательством исполненного как надо задания. Но Чёрный со своими ближниками скакал отнюдь не в столицу, пред очи Грозного; хоть и не слишком он доверял наговору боярина на самого себя, но очень уж хотелось проверить его слова о схроне. Мало ли что бывает в этой жизни? Как говорится: а вдруг? Тем более что крюк был невелик, а слухи о кладах Кудеяра – старшего брата Иоанна Васильевича, но об этом тсс! – были столь заманчивы, что уйти, даже не попробовав поискать, было выше человеческих сил. И даже опричных.
До Косой Горы добрались уже в сумерках. Соваться в лес – глухой, чёрный – на ночь глядя никому не хотелось, но Иван, в которого словно вселился бес, ждать утра не желал. И, стиснув во вспотевших ладонях кто крестик, кто ладанку, а кто и вовсе ведьмин оберег, опричники потянулись за ним в чащобу, по едва заметной лесной тропке, вившейся меж кряжистых дубов и седых лип.
Скрипнула потревоженная кем-то ветка, захохотала, заухала сова, чёрный ворон снялся с верхушки дерева и, оглушительно хлопая крыльями, умчался прочь, надрывно каркая. Потянуло холодом, и меж стволов поплыл прозрачный ещё, голубовато-серый туман.
– Может, всё-таки утром? – ёжась под кафтаном, несмело поинтересовался Мифодий – совсем молодой ещё опричник, со светлыми, как солома, волосами и некрасивым лицом, обсыпанным веснушками.
– Цыть! – одёрнул его Чёрный, потом, глянув на его белое от страха лицо, чуть смягчился и пояснил: – Тут недалече осталось, скоро приедем ужо.
– А Митька-то наш в штаны наложил! – пряча собственный страх, гаркнул остальным Еремей, ражый детина, но с умом шестилетнего пацана. Однако силы у него было немерено, Иван сам видел, как этот «шестилеток» на спор поднял на ярмарке тридцатипудового битюга над головой. За что и ценили Ерёму, да и, что греха таить, побаивались остальные опричники. Вот и Мифодий почёл за лучшее промолчать… и правильно сделал: Еремей был ещё и чрезмерно обидчив, а удар его кулака валил с ног не то что человека, но и того же самого битюга. Это, кстати, Иван тоже видел сам.
Святой источник открылся им внезапно: идеально круглая поляна без единой травинки на ней – и ямина в её центре, похожая на воронку от взрыва, на дне которой клокотала, бормоча что-то на своём, недоступном простым смертным языке, вода.
Иван огляделся и на противоположной стороне поляны заметил тропинку, убегавшую дальше в лес.
– За мной! – коротко скомандовал он и тронул поводья.
Местность заметно понижалась, пахнуло сыростью – река была совсем рядом. Лошадь Чёрного осторожно ступала по склизкой тропе, тревожно всхрапывая, словно чувствовала неясную ещё, но явную, реальную угрозу. «Волков чует», – подумал Иван и проверил, легко ли выходит из ножен кривая, татарской ковки – память о казанском походе – сабля. Но тут же забыл обо всём, заметив впереди, в просвете между замшелыми деревьями, мутный, словно зачернённый, блеск реки.
– Добрались! – с невольным облегчением выдохнул Иван, оглянувшись на свой отряд – и застыл, забыв закрыть рот. Позади него никого не было, только туман, превратившийся – когда только успел-то? – из прозрачной кисеи в непроницаемую белую стену, в которой без следа пропадали даже ближайшие деревья. И туман этот не клубился, не плыл и не растекался по округе, а стоял непоколебимо, словно и правда был стеной. И мрачно смотрел на замершего перед ним человека, как будто примериваясь для удара.
– Эй! Ну где вы там? Застряли, что ли? – попытался крикнуть Чёрный, но слова отказывались слетать с его губ, и вместо крика вышел свистящий, еле слышный шёпот. Но туман, похоже, всё-таки услышал его – и качнулся вперёд всей своей массой, пугающим прыжком сократив разделявшее их расстояние вдвое. Чёрный рефлекторно дёрнул поводья, заставив лошадь попятиться, и истово перекрестился.
– Отче наш, иже еси на небеси, – беззвучно забормотал Иван, и холодный пот выступил у него на лбу. – Не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого…
Туман застыл, словно налетел на незримое препятствие, и Иван тихонько перевёл дыхание. Он чувствовал – знал! – что молочная стена остановилась совсем ненадолго, и теперь судорожно озирался вокруг, ища выход, пока она не возобновила своё движение. По всему выходило, что выход был только у реки – лишь там туман ещё не сгустился до полной непроницаемости, а выглядел обычной лёгкой дымкой, смягчавшей даль, а не пожиравшей её без остатка. И, отбросив колебания, Чёрный дал лошади шпор, стремясь поскорее выбраться из этого страшного места.
Берег Воронки («Из-за чёрной воды или из-за воронки Святого источника?» – мелькнула мысль у Ивана) был топкий, заболоченный, заросший куртинами осоки и камыша. Пахло тиной и дохлой рыбой, но Чёрный, ощутив свободу, с удовольствием вдыхал эту вонь, подняв лицо к чистому небу, на котором зажигались уже первые звёзды.
– Пронесло, – с невыразимым облегчением вымолвил Иван. Оглянувшись на лес, он погрозил ему кулаком. – Что, не взяли? – с весёлой злостью крикнул он прямо в чёрную чащу, и лес угрюмо отозвался шелестом листвы и скрипом ветвей. – Да и не могли взять! Слабы вы супротив опричника милостью государевой! Как есть слабы! Тьфу! – он презрительно плюнул и развернул лошадь вдоль реки, надеясь уже к утру выбраться на большак. И не поверил своим глазам, узрев на подступавшей к самой воде старой липе – так ведь не было тут дерева-то! Али… было? – знак в виде белой, едва ли не светящейся стрелы, обращённой остриём вниз. «Клад Кудеяра!» – полыхнуло в мозгу Ивана, как молния, и, забыв все свои страхи, он быстро спешился.
– Сколько ты там говорил? – обратился Чёрный к голове Волошина, привязанной к седлу. – Пятнадцать шагов?
И, повернувшись спиной к липе, бодро зашагал в указанном стрелой направлении. Однако на пятом шаге ему преградила путь река, и Иван вынужден был остановиться.
– Неужто шаги у тебя были такие маленькие? – не замечая, что говорит вслух, задумчиво произнёс Чёрный. – Или…
Взгляд его в сгущающемся ночном мраке заприметил у берега что-то тёмное. «Островок!» – мелькнула догадка. Иван прикинул расстояние до него. Выходило аккурат шагов десять, не больше. Охваченный азартом, опричник вошёл в воду, даже не сняв сафьяновых сапог, и зашлёпал по мелководью, распугивая лягушек. «Четырнадцать… Пятнадцать!» – мысленно считал он – и не удивился, на последнем счёте ощутив под ногами землю. Опустившись на корточки, пошарил рукой вокруг. Под влажным дёрном гулко отозвалась пустота, и губы Ивана раздвинулись в довольной усмешке. «А вовремя вы, други мои, сгинуть в лесу удумали, – подумал Чёрный о своём отряде. – Теперь всё злато моё будет! И ни с кем делиться не придётся! Даже с царём!»
Крамольная мысль несказанно развеселила Ивана – и за меньшее он сам сажал смутьянов на кол, – но он сумел сдержать неуместный смех и принялся судорожно разгребать напитанную влагой землю. Вскоре его пальцы нащупали край люка, сбитого из дубовых слег, вцепившись в него, рванули… С чавканьем, неприятно напомнившим казнь боярской жены, сырой дёрн отпустил люк, и Иван посмотрел вниз, в зев подземелья. Темно… Конечно же, темно – ночью, да ещё и под землёй! Но почему же кажется, что там, в этой темноте, что-то желтеет, блестит в свете звёзд, призывно и загадочно, как… золото! Не помня себя, Иван свесил ноги в пустоту люка и сиганул вниз, даже не подумав, какой глубины может быть этот схрон. Для него сейчас не существовало ничего, кроме рыжего металла, и ничто не могло остановить Ивана на пути к нему.
Приземлился он мягко – «кошкой», только разбрызгал натёкшую на дно схрона речную воду. И устремился туда, где видел таинственный блеск, уже предвкушая звон монет в своих руках. Но вместо монет наткнулся на что-то мягкое, холодное и мокрое. Склонился, пытаясь рассмотреть получше – и отпрыгнул назад, едва не заорав от ужаса.
Здесь были они все: и Мифодий, и Еремей, и остальные опричники, составлявшие отряд Чёрного. Сваленные в бесформенную кучу, они таращились на Ивана пустыми бельмами мёртвых глаз, и по ним непрерывным потоком стекала вонючая речная вода…
– По трудам и награда, – раздался вдруг шипящий, странно булькающий голос, словно говоривший пытался разговаривать, сидя по ноздри в воде.
– Что?! – взвился Иван, выхватив саблю. – Кто здесь?!
– Не узнаёшь? – насмешливо пробулькал тот же голос. Мрак вокруг внезапно посерел, раздался – и перед остолбеневшим Иваном из ниоткуда возникла девочка. Нагая, с растрёпанными волосами – и перерезанным от уха до уха горлом. Иван дико закричал – и рубанул её саблей, от плеча, наотмашь. Сабля свистнула, не встретив препятствия, и едва не вылетела из пальцев вконец очумевшего Чёрного.

– Спрячь сабельку-то, – презрительно фыркнула навка5, и глаза её засветились зеленоватым, гнилостным светом. – Тебе она уже не поможет, а мне не повредит: мёртвое убить невозможно.
И мертвячка зашлась кудахтающим смехом, от которого волосы на голове Ивана встали дыбом.
– Не… подходи, – сипло выдохнул он, отступая к дальней стене, и бросил затравленный взгляд наверх, примериваясь, как выскользнуть из этого кошмарного склепа. Но не успел. Навка, предугадав его желание, махнула рукой, и тяжеленный люк с грохотом захлопнулся, отрезав все пути бегства.
– По трудам и награда, – веско, с нажимом повторила мёртвая дочь Волошина, и за её спиной задёргались, зашевелились мёртвые опричники, пытаясь расцепиться и принять вертикальное положение, совсем не свойственное покойникам. Навка снова захохотала. И Иван, с головой накрытый чёрной волной паники и не контролируемого, животного ужаса, повернулся к мокрой, осклизлой стене схрона – и принялся царапать её пальцами, разбрасывая комья глины и земли. И беспрерывно воя, как угодивший в капкан волк. А вода, лившаяся по вставшим на ноги трупам, медленно надвигавшимся на своего бывшего предводителя, продолжала прибывать, поднявшись уже до колен обезумевшего Ивана…
…Василий Волошин, не зря прозванный Кудеяром – кудесником ярым – задул громницу6 и принялся неспешно собирать со стола инструменты своего колдовского ремесла. Только чашу, полную гнилой, вонючей воды, он не трогал. На её поверхности, куда Волошин старался не смотреть, неторопливо таяли заполошные тени, словно бы растворявшиеся в мутной глубине, и бледно светилось крошечное пятнышко, чем-то похожее на силуэт обнажённой девочки.
– Может, отпустим его? – зябко поведя худенькими плечами, тихо спросила стоявшая рядом с отцом Варвара.
– Ты видела, что они сделали бы с нами, если бы я им это позволил, – качнув головой, глухо отозвался Волошин. И жёстко закончил, словно отрезал: – По трудам и награда!
Девочка шмыгнула носом, но промолчала, и боярин был ей за это благодарен.
– Идём, – мягко сказал он дочери, обнимая её за плечи. – Мама уже ждёт.
И они вышли из потайной комнаты в светлицу, где за столом, накрытым к ужину, их уже ждала улыбающаяся Анастасия…
Алатырь-камень
Камень не был ни белым, ни горячим, ни даже Алатырём. Это был алтарь. Алтарь чужого, непонятного – и не принятого – здесь, на холодном и неприветливом севере, бога Бэла, Баал-Зебуба, ставшего на своей родине демоном, исчадием ада, воплощением зла – и изгнанного прочь новым, не ведающим пощады, хоть и прикрывавшимся историями о всепрощении божеством. Однако жрецы и апологеты Бэла не предали своего повелителя, и став, как и он, изгнанниками, сохранили веру в него – и ритуалы, эту веру укреплявшие и поддерживающие. Ритуалы, основанные на крови многочисленных жертв, чьими страданиями и питался Бэл, и чьё горе и превратило обагрённый этой кровью алтарь в горючий камень. Камень, обладавший силой своего божества, и являвшийся его пиршественным столом…
– Потише, черти! – оглянувшись через плечо, прошипел Усмарь. Обмотанные тряпицами вёсла и так почти бесшумно резали гладь озера, но Усмарю всё равно казалось, что плеск их разносится далеко окрест, перебудив тех, кого будить не следовало.
– Будь покоен, дядько, – таким же шипящим шёпотом отозвался Юрко, рыжий, рябой от перенесённой в детстве оспы – никто не верил, что малец выживет, и только мать, рано поседевшая Верена, не сдавалась. И выходила-таки своё дитя, хотя чем она заплатила за его жизнь, знала только она – да бабка-ведунья, снабжавшая её отварами колдовских трав. Но слухами земля полнится, и люди до сей поры шептались, глядя вслед Верене, что не только лишь травы сохранили ей сына; был и договор, заключённый ею с незримой силой, обретавшейся на острове Буяне – с демоном Бэлом, бывшим некогда чужеземным богом. И платой за жизнь Юрка стала её, Верены, душа. Сама Верена не обращала на эти толки никакого внимания, продолжая жить, как жила. И только ранняя седина, январским инеем укрывшая её некогда рыжие, как у Юрка, косы, да мрачный, какой-то пустой взгляд, на дне которого тлела затаённая, неизбывная боль, напоминали о той бездне, в которую ей довелось заглянуть.
Ушкуй беззвучно ткнулся в прибрежные камыши. Неторопливо разобрав сложенное на его дне оружие, дружинники соскользнули из лодки в холодную склизь и медленно побрели к берегу, осторожно раздвигая высившийся перед ними сплошной стеной тростник. Усмарь, шедший впереди, каждую секунду ожидал окрика или, того пуще, свиста стрелы, и пот обильно катился из-под стального шлема ему на лицо, несмотря на предутреннюю прохладу.
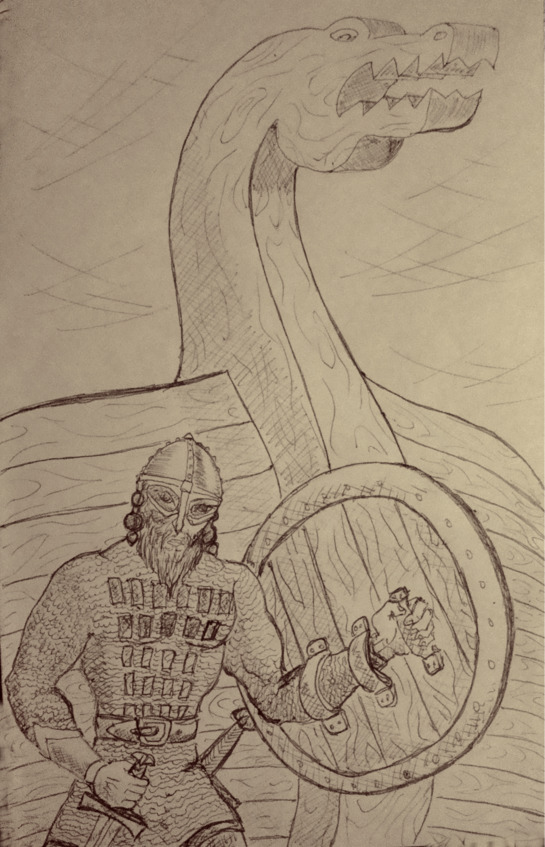
Выбравшись из камышей, дружинники замерли, оглядывая открывшуюся им картину. Никто из них на острове до сего дня не бывал, и место, где им предстояло исполнить порученное им дело – или умереть, как мрачно и совсем не ко времени подумал Усмарь – было для них в новинку.
Буян был совсем невелик – в три перелёта стрелы во все стороны, не больше. Просто безлесый каменистый прыщ на лице мутного Нево, каких здесь встречается великое множество. Но именно этот прыщ облюбовали пришлые волхвы, избрав его местом нового жительства их чёрного божества.
Кто-то из дружинников негромко присвистнул. Усмарь вздрогнул, но не оглянулся, не в силах оторвать взгляд от простиравшегося перед ним храма.
Храм был небольшой, но исходящее от него ощущение скрытой мощи и угрозы заставляло ёжиться даже самых бесстрашных воинов. Каменные, грубо отёсанные столбы окружали плотно утрамбованную площадку, в центре которой возлежал он – Алатырь, камень, прочно вросший в канву едва ли не всех русских сказок. И именно этот камень Усмарь со-товарищи должен был исторгнуть с его места, выкорчевать, чтобы и следа его не осталось на этой земле. Так повелел великий князь Юрий Владимирович, прозванный Долгоруким – даже в самом Киеве ощущали крепость княжеской длани, простиравшейся из лесного Суздаля. А ему, князю, так повелели древние волхвы, с которыми он советовался по поводу новой столицы. Впрочем, о волхвах были только слухи, полученные от мало внушавших доверие людишек, и Усмарь постарался выкинуть эти мысли из головы. Не его это было дело – всякие волхования; его дело заключалось в избавлении земли русской от гнёта иноземной бесовщины, и дело это Усмарь намеревался выполнить во что бы то ни стало.
– Пошли, – выдохнул он своим присмиревшим людям и сам первым тронулся вперёд, к четырём деревянным, укрытым дёрном избам, окружавшим храм с четырёх сторон.
…Сражения, которого Усмарь так опасался в глубине души, не было. Никто не выскочил навстречу дружинникам из изб, бренча оружием и воинственно вопя во всю силу могучих лёгких, никто не показывал чудеса боя, которыми так славились местные жрецы – якобы один такой жрец, даже безоружный, стоил десяти самых умелых воинов. Всё прошло тихо и как-то… обыденно, что ли, и от этой обыденности в душе Усмаря копошились теперь чёрные предчувствия, похожие на обгладывающих разлагающийся труп червей. Окружив все четыре избы одновременно, дружинники подпёрли их двери найденными здесь же чурбачками, потом содрали со стен защищавший их дёрн и, обложив избы сухим камышом и дровами, запалили их. Жирный клубящийся дым четырьмя столбами вознёсся в светлеющее небо – и через полчаса растаял в нём бесследно, оставив после себя четыре горки золы и потрескивающие, рассыпаясь в пепел, головни, среди которых кое-где проглядывали почерневшие от жара кости.
– Даже не пискнули, – ухмыльнулся во всклокоченную, чёрную как смоль бороду Сибур, старый дружинник, утирая ладонью вспотевший лоб.
– Угорели небось, – равнодушно пожал широченными плечами Тогай, налысо бритый по обычаю своего народа татарин. Усмарь, слышавший их разговор, недовольно хмыкнул.
– Небось да авось неплохо жилось, да только у них было всё вкривь и вкось, – проворчал он, не переставая ощущать нависшую над всеми ними угрозу, так и не рассеявшуюся после гибели жрецов. – Так что хватит небоськать. Дело надо делать!
И Усмарь, размашисто перекрестившись, медленно, словно нехотя, двинулся к храму. Сибур и Тогай переглянулись, одновременно пожав плечами, и тронулись за ним следом, как, впрочем, и остальные дружинники.

