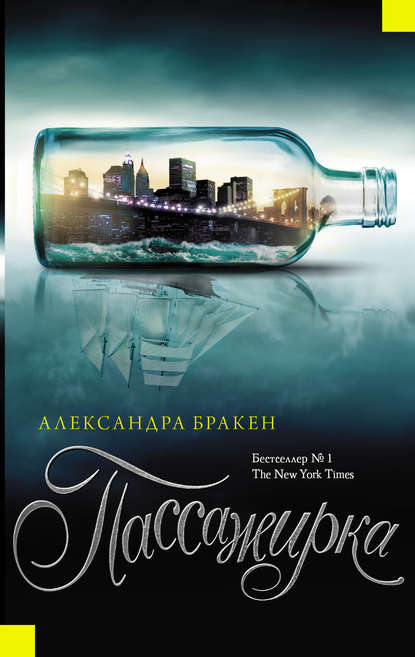Полная версия
Архив
Я знала, как выглядят Коридоры, задолго до того, как их увидела. Эта картинка прочно засела у меня в голове – дед годами мне ее описывал. Закройте глаза и представьте себе темную улицу, настолько узкую, что можно погладить пальцами стены, если развести руки в стороны. Вы посмотрите вперед… и ничего не увидите, только стены, уходящие в точку, в темноту. Единственный источник света – щели от дверей по правую и левую руку от вас. Контуры проходов испускают слабое сияние, а из замочных скважин исходят лучи света, пронзающие темный пыльный воздух. Достаточно света, чтобы ориентироваться, но слишком мало, чтобы видеть все вокруг.
Мое горло сжимает страх, самое первобытное и непобедимое из чувств. Я даже ощущаю физическую боль, когда переступаю порог, закрываю за собой дверь и слышу голоса.
Это не всамделишные голоса, а бормотание и шепот, слова, едва различимые из-за расстояния. Они могут исходить из соседних комнат или звучать в сотнях километров от меня. Здесь, в Коридорах, звуки перемещаются, завихряются в галереях, отражаются от стен, и находят тебя, рассеянные и призрачные. Они могут ввести в заблуждение.
Коридоры паутиной расходятся по сторонам, как линии метро, пересекаясь и ветвясь. Однообразие стен прерывается дверьми. Проходы, ведущие в разные кварталы города, находятся всего в десятках сантиметров друг от друга: здесь сжимается пространство. Большая часть дверей наглухо заперта, и все они помечены.
Это особый код. У каждого хранителя собственная система, способ отличить хорошую дверь от плохой. Количество нарисованных на дверях крестов, линий, кругов и точек не поддается счету. Я достаю из кармана кусок мела – забавно, как легко привыкаешь носить с собой необходимое – и быстро вывожу римскую цифру «I» на двери, через которую только что прошла, прямо над замочной скважиной. У дверей нет ручек, и их даже невозможно опробовать без ключа. Мой значок кажется четким и ярким на фоне остальных, выцветших и полустершихся.
Я поворачиваюсь лицом к проходу и оглядываю бесконечное множество дверей впереди. Большая часть из них заперта – неактивирована, как сказал бы дед, – это двери, ведущие назад, во Внешний мир, в комнаты домов, где нет Хранителя. Коридоры представляют собой буферную зону, ничейную землю, заполненную входами и выходами. Некоторые двери ведут в Архив или из него. Другие – на Возврат, который не считается отдельным миром, хотя его можно назвать таковым. Загадочное место, куда не допускаются даже Хранители. И в данный момент, поскольку на моем листке значится имя Истории, мне нужно найти именно такую дверь.
Я пробую дверь справа от только что помеченной знаком «I», и к моему изумлению, она оказывается незапертой. Проход ведет в вестибюль Коронадо. Получается, это была не просто складка на обоях. Приятная неожиданность. Мимо неспешной походкой проходит пожилая женщина, не обращая внимания на портал, и я прикрываю дверь и рисую на ней значок «II».
Я немного отступаю, оглядываю знакомые двери – свои пути назад – и продвигаюсь дальше по проходу, проверяя каждый замок. Ни одна из дверей не поддается, и я помечаю их знаком «Х». Появляется звук громче остальных, легкая дробь, похожая на приглушенные шаги:топ-топ-топ. Только идиот станет разыскивать Историю до того, как нашел для нее точку Возврата, и потому я ускоряю шаг, поворачиваю за угол и успеваю попробовать еще пару дверей до того, как мне попадается нужная.
Замок поддается, и дверь открывается, впуская меня в пространство, полное бескрайнего, ослепляющего света. Я отступаю и закрываю дверь за собой, смаргивая мелкие белые точки в глазах, помечаю дверь белым кружком и заштриховываю его.Возврат. Я переключаюсь на следующую дверь и, даже не испробовав замка, рисую кружок, на этот раз незаштрихованный. Архив. Вся штука в том, что двери в Архив находятся по правую руку от дверей на Возврат, так что, найдя одну, ты обнаруживаешь и другую.
А теперь пора найти Эмму.
Размяв пальцы, я касаюсь стен. Серебряное кольцо надежно спрятано у меня в кармане. Истории, так же, как люди, оставляют эмоциональный след на всем, чего коснулись, поэтому пол здесь сделан из того же бетона, что и стены. Так я могу прочесть весь лабиринт одним-единственным касанием. Если Эмма здесь была, я сразу почувствую.
Шероховатая поверхность стены будто гудит под моими пальцами. Я закрываю глаза и прижимаюсь крепче. Дед говорил, в стене запрятана тончайшая нить, и нужно потянуться к ней, прямо сквозь стену, а когда схватишь ее, ни за что не отпускать. Гул поднимается по моим пальцам, они начинают терять чувствительность, и я сосредотачиваюсь. Я крепче зажмуриваю глаза, тянусь к нити всем своим существом и наконец чувствую ее под пальцами. Я хватаю нить и понимаю, что ладони у меня онемели. Темнота перед глазами вздрагивает, подскакивает, и ко мне выплывают Коридоры, но картинка смазана, она словно подернута легкой рябью. Я вижу саму себя, стоящую у стены, и отматываю воспоминания дальше.
По ощущениям чем-то похоже на перемотку старой кинопленки: от настоящего к прошлому, пощелкивая, сменяется кадр за кадром. Имя появилось на моем листке около часа назад: тогда исчезновение Эммы Клэринг было официально зарегистрировано. Так что мне не нужно отматывать слишком далеко. Проверив воспоминания двухчасовой давности и не обнаружив следов девочки, я отстраняюсь от стены и раскрываю глаза. Прошлое Коридоров отступает, его сменяет более четкое и яркое настоящее. Я иду вперед, к следующему ответвлению в галерее, и пытаюсь снова: закрываю глаза, тянусь, хватаюсь за нить, отматываю время взад и вперед, разыскиваю следы…
История мелькает в проеме, ее маленькая фигурка огибает галерею и, повернув налево, скрывается за углом. Я моргаю, убираю руку, и очертания Коридоров вокруг меня становятся все резче, в то время как я шагаю дальше и упираюсь… в тупик. Если быть более точной, в пограничную веху: участок стены, отмеченный светящейся скважиной. Хранители могут перемещаться только по собственным территориям, и пятно света служит им своеобразным знаком «стоп». Это не дает Историям уходить слишком далеко. И теперь я вижу, что прямо перед выходом сидит девочка.
Эмма Клэринг сиротливо примостилась на полу, крепко обхватив колени руками. Она босая и одета в футболку и шорты, зазелененные травой. Девочка такая маленькая, что стены Коридора нависают над ней, словно своды зловещего подземелья.
– Проснись, проснись, проснись…
Повторяя это снова и снова, она раскачивается взад-вперед, ударяясь спиной о стену с тем самым звуком, что я приняла за шаги. Эмма накрепко зажмуривает глаза, затем открывает их. И я вижу, что они полны ужаса: ведь Коридоры никуда не исчезли.
Совершенно очевидно, что она срывается.
– Проснись, – снова молит девочка.
– Эмма! – зову я, и она вздрагивает как ужаленная.
Испуганный взгляд из полумрака мечется по моему лицу. Ее зрачки расширяются, и чернота поглощает цвет ее глаз. Она хнычет, но не стремится узнать меня. Это хороший признак: когда Истории срываются серьезно, на твоем месте они начинают видеть других людей. Они видят в тебе того, кого хотят видеть: кого любят, ненавидят, помнят или в ком нуждаются, и от этого ситуация окончательно запутывается. Они скорее сходят с ума.
Я осторожно делаю шаг в ее сторону. Она утыкается лицом в руки и продолжает шептать.
Я опускаюсь перед ней на колени.
– Я здесь чтобы помочь.
Она даже не смотрит на меня.
– Почему я никак не могу проснуться? – шепчет она срывающимся голосом.
– От некоторых снов, – говорю я, – не так просто очнуться.
Она замирает, затем покачивает головой из стороны в сторону.
– Но знаешь, чем хорош любой сон? – Я говорю с ней так же, как мама когда-то говорила со мной и Беном: терпеливо, успокаивающе. – Как только ты понимаешь, что находишься во сне, ты можешь управлять им. Ты можешь изменить его и найти выход.
Эмма смотрит на меня через скрещенные руки, ее широко раскрытые глаза блестят от слез.
– Хочешь, я покажу тебе, как это сделать?
Она кивает.
– Тогда закрой глаза, – она повинуется, – и представь себе дверь.
Я окидываю взглядом ближайший участок галереи и с досадой понимаю, что здесь ни одной помеченной двери – почему я не подготовилась раньше и не нашла двери, ведущей на Возврат?
– Теперь представь себе заштрихованный белый круг на этой двери. А за этой дверью – комнату, заполненную светом. Ничего, кроме света. Ты ее видишь?
Девочка кивает.
– Хорошо. Теперь открывай глаза. – Я поднимаюсь на ноги. – Пойдем, разыщем твою дверь.
– Но здесь их так много, – робко шепчет она.
Я улыбаюсь:
– Это будет небольшим приключением.
Она протягивает мне свою ручку. В первое мгновение я испуганно замираю, повинуясь обретенному инстинкту, а потом запоздало понимаю, что ее прикосновение останется просто прикосновением: никакого шквала чужих эмоций и чувств, захлестывающего меня от прикосновения живых людей. У нее, конечно, полно воспоминаний, но мне не под силу их увидеть. Только Библиотекари Архива способны читать мертвых.
Эмма смотрит на меня снизу вверх, я слегка сжимаю маленькую ручонку и веду девочку назад, за угол, вспоминая пройденный путь. Шагая по Коридорам, я размышляю, что могло ее разбудить. В мой список попадают в основном дети и подростки – беспокойные, но совсем не плохие – просто они умерли, так и не успев прожить свою жизнь. Каким она была ребенком? Из-за чего умерла? Но тут я словно слышу голос деда, который советует мне воздерживаться от излишнего любопытства. Я знаю, что Хранителей неспроста не учат прочитывать Истории. Считается, что для нас они не имеют значения.
Эмма испуганно сжимает мою ладонь.
– Все хорошо, – тихо говорю я, и мы проходим еще один пролет неотмеченных дверей. – Мы найдем ее.
Я надеюсь. У меня не было времени как следует освоиться на новом месте, но как только я тоже начинаю нервничать, мы делаем еще один поворот, и находим дверь.
Эмма высвобождается и, бросившись к ней, касается мелового круга ладонью с растопыренными пальцами. Теперь ее ручки вымазаны мелом. Я вставляю ключ в скважину, отпираю, и вот мы уже стоим на пороге, залитые сверкающим светом. Эмма восторженно вздыхает.
На мгновение кажется, что в этом мире нет ничего, кроме света. Прямо как я и обещала.
– Видишь? – говорю я, кладу руку ей на спину и провожу ее вперед: через порог, к Возврату.
Эмма поворачивается назад, чтобы увидеть, почему я не пошла за ней, а я зажмуриваюсь и накрепко захлопываю дверь. Ни крика, ни стука: мертвая тишина. Я стою, опустив голову, не вынимая ключа из скважины, и в груди у меня трепещет странное чувство, похожее на вину. Но оно быстро отступает. Я напоминаю самой себе, что возвращение – это милосердие. Оно освобождает Истории от морока пробуждения и погружает их в сон. Почему же тогда мне так тяжело видеть страх в глазах детей перед тем, как я запру между нами дверь?
Иногда я думаю о том, что происходит после Возврата, как Истории снова превращаются в безжизненные тела на полках Архива. Как-то раз, с одним мальчиком, я осталась посмотреть и ждала на пороге бездонной белизны (я знала, что внутрь шагать не стоит). Но до тех пор пока я не ушла, ничего не случилось. Я узнала это, потому что в конце концов закрыла дверь всего на несколько мгновений: мне потребовалось только запереть и вновь отпереть замок. А открыв дверь, я увидела, что за ней уже никого нет.
Я спрашивала Библиотекарей о том, как Истории выходят из Архива. Патрик начал болтать что-то о закрывающихся и открывающихся дверях. Лиза сказала, что в Архиве, как в любом гигантском механизме, есть свои бреши и слабые места. А Роланд просто сказал, что не имеет об этом никакого понятия.
Наверное, не так уж важно, как именно они оказываются в Коридорах. Дело только в том, что это случается. И когда это случается, их следует разыскать. Они должны вернуться на свое место. Дело заведено, и дело должно быть закрыто.
Оттолкнувшись от двери, я достаю Архивный листок из кармана, желая убедиться в том, что имя Эммы исчезло. Так и есть. Все, что от нее осталось, – след ладони на меловом кругу.
Я заштриховываю его и ухожу.
Глава третья
– Забрала из машины что хотела? – спрашивает папа, когда я появляюсь на пороге.
Он избавляет меня от необходимости лгать, помахав в воздухе ключами от машины, которые я забыла взять. Но даже несмотря на это, судя по низкому солнцу в окнах и множеству коробок, расставленных там и сям по комнате, я понимаю, что меня не было слишком долго. Я шепотом проклинаю Коридоры и Архив. Я пыталась носить часы, но бесполезно. Какими бы они ни были, стоит покинуть Внешний мир – от них уже никакого проку.
Так что мне снова приходится выбирать: правда или ложь.
Если дело касается вранья, существует несколько простых правил. Во-первых, нужно стараться говорить правду везде, где только можно. Если начнешь лгать по любому поводу, станет невозможно сводить вместе все концы, и рано или поздно ты попадешься. Как только посеяны семена сомнений, возможность солгать и не попасться в следующий раз уменьшается с геометрической прогрессией.
У меня не все гладко с враньем родителям: я то пропадаю не к месту, то ношу какие-то непонятные синяки – некоторые Истории не хотят, чтобы их возвращали – и мне приходится каждый раз искать новые варианты. Раз уж папа вынуждает меня на «правду», я поддамся. Порой родители ценят откровенность, если с ними делятся секретами. Тогда они чувствуют себя особенными.
– Весь этот переезд, – начинаю я, устало привалившись к порогу, – слишком резкие перемены. Мне потребовалось немного собственного пространства, хотелось побыть одной.
– Тут не будет проблем со свободным пространством.
– Угу, знаю, – отвечаю я, – здание огромное.
– Все семь этажей осмотрела?
– Только до пятого добралась. – Я лгу легко и спонтанно – дед мог бы гордиться мной.
В нескольких комнатах от нас я слышу мамину возню: звуки распечатываемых коробок и мяуканье радио. Мама терпеть не может тишины: она стремится заполнить любое место суетой и шумом настолько, насколько это возможно.
– Нашла что-нибудь интересное? – спрашивает папа.
Я пожимаю плечами.
– Тучи пыли. И, может быть, парочку привидений.
Он улыбается заговорщической улыбкой и слегка сторонится, давая мне пройти.
Моя грудь сжимается при виде коробок, занимающих каждый сантиметр свободного пространства квартиры. На половине из них значится «вещи». Если мама была в ударе, то на крышке писала еще и короткий перечень содержимого коробки. Но поскольку ее почерк совершенно нечитаем, мы узнавали, что внутри, только распечатав коробку. Словно на Рождество, только все подарки уже были когда-то подарены.
Папа передает мне ножницы, и тут звонит телефон. Я даже не подозревала, что у нас будет телефон. Мы с папой начинаем копошиться среди коробок в поисках аппарата, но нас выручает мама:
– Кухонная столешница, у холодильника.
И он действительно там.
– Алло! – говорю я в трубку, переводя дыхание.
– Ты меня разочаровала, – говорит какая-то девушка.
– Что? – Все происходит слишком быстро, и я не успеваю сообразить, что происходит. Не могу узнать голос.
– Ты всего полдня провела в своей новой резиденции, и уже успела меня позабыть.
Линдси. Я расслабляюсь.
– Как ты узнала номер? – удивляюсь я. – Я и то еще не знаю.
– Я же волшебница, – загадочно отвечает она. – А если бы ты обзавелась мобильником…
– У меня есть мобильник.
– И когда ты последний раз его заряжала?
Я задумываюсь.
– Маккензи Бишоп, если ты хотела обдумать ответ, твое время вышло.
Я хочу как-нибудь парировать, но не могу. Мне ни разу в жизни не пригодился мобильный телефон. Мы с Линдси прожили в соседних квартирах десять лет, и она была – и остается – моей лучшей подругой.
– Ну да, ну да, – соглашаюсь я, продираясь по квартире сквозь баррикады коробок.
Линдси просит меня подождать и, прикрыв ладонью трубку, переговаривается с кем-то, так что я слышу только гласные.
В конце коридора я вижу дверь с наклеенной бумажкой. На ней нарисовано нечто, отдаленно напоминающее букву «М», так что я могу предположить, что это моя комната. Я пинком ноги открываю дверь, заглядываю внутрь и вижу стопки вездесущих коробок, матрас и составные части несобранной кровати.
Линдси смеется над чем-то, что ей сказали, и даже за девяносто километров от нее, через телефонные провода и трубку, зажатую рукой, я чувствую исходящий от подруги свет. Линдси Ньюман просто создана из света. Он переливается в ее светлых кудрях, коже, которую поцеловало солнце, в россыпи шаловливых веснушек на щеках. Это ощущаешь, когда находишься рядом. Она одарена безоговорочной преданностью и таким потрясающим оптимизмом, которых, как я считала, в природе не существует. До тех пор пока не встретила ее. И она никогда не задает неправильных вопросов – тех, на которые нельзя ответить. Никогда не заставляет меня лгать.
– Ты еще тут? – спрашивает она.
– Ага, – отвечаю я, спихивая с дороги коробку, и прохожу к кровати. Остов стоит у стены, а матрас и пружинный каркас лежат на полу.
– Твоя мама еще не устала от новизны? – интересуется Линдси.
– К сожалению, нет, – признаюсь я и падаю ничком на матрас.
Бен обожал Линдси до умопомрачения, со всей силой, на какую способен маленький мальчик. И она его любила. Будучи классическим примером единственного ребенка в семье, она всегда мечтала о братьях и сестрах, поэтому я «поделилась» с ней братом. Когда Бен погиб, ее свет будто стал еще ярче и яростнее. А оптимизм словно бросал вызов всем невзгодам. И когда родители сообщили мне о переезде, я могла думать лишь об одном.Как же Линдс? Что будет, когда она лишится нас обоих? В тот день, когда я сообщила ей эту весть, я впервые увидела, как ее вера в лучшее пошатнулась. У нее внутри будто что-то надломилось, и она на мгновение замерла. А потом снова стала самой собой: с улыбкой на девять из десяти баллов, но тем не менее лучшей, чем те, что я когда-либо видела в собственном доме.
– Стоит попробовать убедить ее открыть кафе-мороженое в каком-нибудь милом курортном городке… – Я сдвигаю кольцо и начинаю вертеть его на пальце, а она добавляет: – Ну, или где-нибудь в России, например. Хотя бы мир повидаете.
Линдси права. Может, мои родители и бегут, но складывается ощущение, что они боятся убежать так далеко, что не смогут, оглянувшись, увидеть все то, что оставили. Ведь мы теперь живем всего в часе езды от нашего прежнего дома. Всего в часе от прежней жизни.
– Согласна, – говорю я. – Когда планируешь подивиться на великолепие нашего Коронадо?
– Он правда такой потрясающий? Скажи, что да.
– Он… старый.
– В нем водятся призраки?
Все зависит от терминологии. Словопризрак используется людьми, ничего не знающими об Историях.
– Мак, ты слишком долго думаешь, что мне ответить.
– Призраков пока не обнаружила, – сказала я. – Но впереди еще уйма времени.
Я слышу голос ее мамы на заднем плане:
– Линдси, пора. Маккензи может себе позволить немного побездельничать, а ты – нет.
Вот черт!Побездельничать. Интересно, каково это? Готова поспорить, что это не про меня. Но в Архиве вряд ли поймут, если я раскрою тайну их существования только ради того, чтобы доказать кому-то, что занята делом.
– Ой, прости! – говорит Линдси. – Мне пора на тренировку.
– На какую из? – подшучиваю я.
– Футбол.
– Ах да, конечно.
– Скоро созвонимся, ладно? – спрашивает она.
– Ага.
Телефон отключился.
Я сажусь и оглядываю свои новые владения, забитые коробками. На каждой из них где-нибудь накорябана буква «М». Я видела «М», и «Э» (маму зовут Эллисон), и «П» (папу зовут Питер), разбросанные по дому, но ни одной «Б». Страшная догадка пронзает меня.
– Мама! – кричу я, вскочив с кровати, и несусь в гостиную.
Папа притаился в углу с ножом для бумаг в одной руке и книгой в другой. Книга интересует его заметно больше.
– Что стряслось, Мак? – спрашивает он, не отрываясь от чтения. Но это сделал не папа. Я знаю, он не мог. Да, он тоже бежал, но не он возглавлял это бегство.
– Мам! – снова зову я.
Она в спальне, распаковывает вещи и на предельной громкости слушает какое-то маразматическое радиошоу.
– Что такое, дорогая? – невозмутимо спрашивает она, выкладывая одежные вешалки на постель.
Когда я заговариваю, мой голос звучит тихо, словно я на самом деле не хочу спрашивать. Не хочу знать ответ.
– Где вещи Бена?
Следует долгая, можно сказать, бесконечная пауза.
– Маккензи, – медленно начинает она, – если начинать все с нуля…
– Где они?
– Кое-какие лежат в кладовке. А остальные…
– Ты не могла так поступить.
– Колин говорит, что иногда для перемен требуются значительные…
– Ты что, в самом деле собираешься свалить на психотерапевта решение выбросить их?
Я, наверное, уже кричу, потому что из-за моей спины в комнату входит папа. Мама вся поникает, и он идет к ней, и вот я уже главный злодей на свете – просто из-за того, что хотела сохранить хоть какую-то память. Те вещи, которые я смогла бы прочитать.
– Скажи, что оставила хотя бы что-то, – сквозь накрепко сжатые зубы рычу я.
Мама кивает, уткнувшись лицом в папин воротник. Она не поднимает на меня глаз.
– Маленькую коробку. Она в твоей комнате.
Она договаривает это мне вослед. Захлопнув за собой дверь, я раскидываю по сторонам все коробки, пока не нахожу нужную. Крошечная «Б» выведена на одной стороне. Это коробка из-под обуви.
Я разрываю скотч ключом деда и высыпаю содержимое на матрас. Мои глаза жжет огнем. Дело даже не в том, что мама ничего не сохранила, дело в том, что она оставила неправильные вещи. Мы оставляем воспоминания только на тех вещах, какие любим, часто используем и изнашиваем.
Если бы мама не выбросила его любимую футболку – ту, с крестом на сердце – или какой-нибудь из его синих карандашей – хотя бы огрызок, или нашивку, которую он выиграл на состязаниях и носил в кармане, потому что очень гордился ею – но не настолько, чтобы пришить на рюкзак… Барахло, раскиданное по моей кровати, на самом деле не его. Фотографии в рамках, итоговые школьные тесты, шляпа, которую он надел всего раз, награда за конкурс, плюшевый медведь, которого он ненавидел, и чашка, которую он слепил в шесть лет на занятиях по лепке.
Я снимаю кольцо и протягиваю руку к ближайшей вещи.
Может, здесь что-нибудь осталось.
Хоть что-нибудь.
–Кензи, это не фокус для вечеринок, – сердито одергиваешь ты.
Я откладываю безделушку, и она катится в твою сторону через стол. Ты учишь меня читать – вещи, не людей, – и я, наверное, неудачно пошутила, и слишком кривлялась, пытаясь придать своему занятию театральный эффект.
– Существует только одна причина, по которой Хранители наделены способностью читать вещи, – строго замечаешь ты. – Мы можем лучше охотиться. Это помогает нам выслеживать Истории.
– Но она все равно пустая, – бормочу я.
– Конечно да, – говоришь ты, подняв безделушку и покрутив ее между пальцами. – Это просто пресс-папье. И ты должна была понять это, как только к нему прикоснулась.
В самом деле, оно было абсолютно безжизненным. Я не ощутила гудения, когда коснулась его. Ты возвращаешь мне кольцо, и я надеваю его на палец.
– Не все содержит воспоминания, – поясняешь ты. – И не каждое воспоминание достойно того, чтобы его сохраняли. Плоские поверхности – стены, полы, предметы мебели – как холсты у картин. На них прекрасно запечатляются события. И чем объект меньше, тем хуже он удерживает информацию. Но, – и ты поднимаешь стеклянное пресс-папье в своей руке так, что я вижу в нем кривой отраженный мир, – если она там сохранилась, ты обязана почувствовать это с первого прикосновения. На большее у тебя не будет времени. Если Истории удастся выбраться во Внешний мир…
– А как они это делают? – спрашиваю я.
– Убивают Хранителей или воруют ключ. Все возможно. – Ты кашляешь надсадным, мокрым кашлем. – Но это непросто.
Ты снова заходишься в кашле, и я хочу чем-то помочь тебе. Как-то я предложила тебе стакан воды, а ты прорычал, что вода ни черта не исправит, если я только не решила утопить тебя в ней. Так что теперь мы оба делаем вид, будто никакого кашля нет, а кашель запятыми и точками перемежает твои рассказы.
– Но, – продолжаешь ты, отдышавшись, – если История оказывается снаружи, ты должна ее выследить, и как можно скорее. Чтение воспоминаний должно стать твоей второй натурой. Это не игрушки, Кензи. И не забава с фокусами. Мы способны читать прошлое для одной-единственной цели: чтобы охотиться.
Я прекрасно знаю, для чего предназначен мой дар, но продолжаю рыться в фотографиях в рамках, листках бумаги и прочем сентиментальном мусоре, оставленном мамой. Я надеюсь найти хотя бы слабый след, хоть какие-то крупицы воспоминаний, оставшиеся от Бена. Но ничто не имеет значения – они бесполезны. Добравшись до наградного кубка из лагеря, я совсем отчаиваюсь. Я беру его в руки, и у меня екает сердце: едва различимый гул щекочет мои пальцы, что-то обещая. Но закрыв глаза и потянувшись к этому гулу, я вижу лишь свет и разводы, такие смазанные, что ничего не понять.