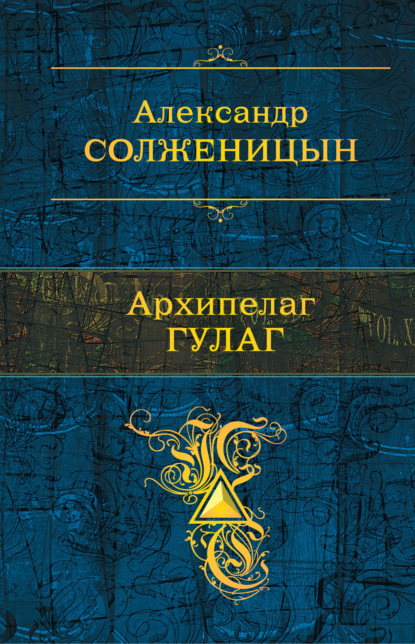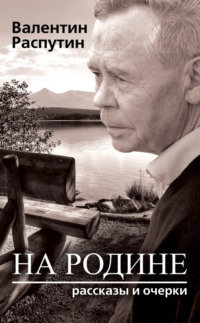Полная версия
Собрание повестей и рассказов в одном томе
Кеша рыкнул по-звериному на Васю:
– Давай вторую лопату, ржало ты конское!
У Васи это вызвало новый приступ смеха. Он и с лопатой шел – сделает два шага и захлебнется, сделает еще два шага и скрючится в припадке.
Сеня отобрал у него лопату и врезался в снег под высмотренной меткой на своем фронте. Под лопатой у него звякнуло, он нашарил бутылку, из вчерашних, но пустую, и засунул ее поглубже.
Шла мимо тетка Федосья, одинокая старуха, ходившая за хлебом, и остановилась, встретив незнакомую работу. Мужиков она узнала, а вот что делают в три мужичьи силы, никак не могла понять.
– Вася-а! – не утерпела Федосья. – Это че у тебя тако? Снега держанье, че ли, проводите?
Сеня торопливо перехватил слово:
– Нет, это, тетка, такое решенье вышло – снег рыхлить. Как в Америке. Президент указ дал. Ты-то рыхлишь, нет?
– Я че, совсем, че ли, рехнулась? Это уж ты рыхли.
– А пенсию получать хочешь?
– Ну… пенсию…
– Хочешь получать – рыхлить придется. Без рыхленья не дадут.
– Ботало ты, Сеня, ой ботало!
Федосья направилась уходить, но приостановилась: кого бы еще послушать?
Подрулил Миша Стерников, с одной почкой, вторую вырезали два месяца назад. Голос до сей поры слабый.
– Что, братцы, пашем?
– Пашем! – весело крикнул Вася.
Но Сеня и тут встрял:
– Теперь, Миша, три пахоты надо делать. В январе – снег пахать, в апреле грязь, а уж в мае землю. Вот тогда и урожай будет.
– Кончите – переходите ко мне. А я пока за бутылкой сбегаю.
– Ну, так какое дело – поможем.
Тетка Федосья все еще топталась.
– Сеня-а! – позвала она.
– Что, тетка?
– У тебя когда язык смозолится?
– Ничего ты не поняла по старости. Снег рыхлить – это и есть пахать. Всякая пахота – это рыхленье. Запустили землю – вот наш президент и беспокоится. Поняла или нет?
– Когда он у тебя смозолится, я спрашиваю?
Подгреб Кеша, буркнул:
– Кончай.
– Нашел? – встрепенулся Сеня.
Васю за работой не видно было, мощным рукавом, как из-под комбайна, летел от него поднятый снег. Вот что значит мужское дело: ха-ха, ха-ха, а ведь захватило, заело – и про смех забыл.
– Ты греби, мы пока отдохнем, – крикнул ему Сеня.
– Пошли отдыхать ко мне, – предложил догадливый Вася.
* * *Бутылка ничуть не пострадала – что ей за ночь в снегу сделается! Даже бумажная этикетка посвежела. У Сени – ну того дрогнуло перед бутылкой, прошедшей такие приключения, сердце. Но он устоял. Вся жизнь теперь сплошное приключение пополам с недоразумением, надо научиться устаивать.
Вася с Кешей выпили. Закусили вяленым мясом, поданным Васей на разделочной доске.
– А ты, Сеня, так и не пьешь? – спросил Вася.
– Не пью.
– Это хорошо. Это правильно. Тогда тебе задание: весна придет, будешь трезвым у меня в огороде бутылки собирать. Подходит?
– А ты у меня. Хоть пьяный. Подходит?
Кеша, почувствовавший душевное и прочее облегчение, засмеялся – густо, громотком.
– Ты чего мне тут, Вася, подсунул? – Они сидели в горнице за круглым столом, застеленным клеенкой, которая разрисована была, как скатерть-самобранка с блюдами и приборами, – вот Кеша и хватался за нарисованную вилку, а поймать не мог. – Экую обманку придумал. Тебе, парень, хорошо гостей потчевать.
– Бери рукой, чего там! – Сеня показал на прямо-таки живьем сияющую горку круглых красных помидоров.
Кеша не купился. Он бережно сгреб добытую из-под снега бутылку, погладил ее нежно и восхитился:
– Нашли, а, Сеня? От нас хрен че спрячешь! Она за ночь ишо скуснее сделалась. Нет, правда скуснее. Хошь кажный раз на вытяжку теперь к Васе в снег заталкивай.
– Заталкивай. Я деньги собирать буду.
– А без денег никак?
– За скус платить надо. Теперь за все платят.
– А какие твои труды, ежели она в снегу полежит? – задирался Кеша. – Она лежит, ты к ей не трожься. За что деньги?
– Я тебе говорю: за скус. В Сенином огороде она скус не возьмет, а в моем возьмет. За бесплатно к Сене толкай, она там дури наберется.
– Это пошто она у меня дури наберется? – Только что радовался Сеня: как хорошо, что они с Васей помирились! А он вот что!
– Потому что ты сам дурной.
Сеня подтянулся, заострился, каждую клеточку собрал в готовность.
– Почему это я дурной, Вася? Жду разъяснений.
– Снег вытает, вот тебе и разъяснения будут.
– Ты снегу не давай вытаивать, Вася, – с прищуром и с голосовым прижимом посоветовал Кеша. – Деньги будешь и середь лета грести. Нынче с зарплатой туго.
– Пошли вы! – взъелся и Вася.
Сказано было так, к слову, не для выгона. Так говорят, когда не хотят слушать. Но Сеня с Кешей обиделись и ушли.
Уж и день опять клонился к закату, когда вышли. Сеня расстроился: снова день пропал, снова с Васей поцапались. А с чего поцапались-то? Ни с чего ведь. Совсем ни с чего. Как маленькие.
– Ты за что его не любишь-то? – спросил он у Кеши.
– Жмот он! – все еще горячась, сказал Кеша. – Ишь ты, за снег он будет деньги брать!
– Да он дурака валял. Кто из нас не валяет? Не всерьез же он, в самом деле!
– А что дури бутылка в твоем снегу наберется – это он всерьез? Ты-то чего на него?
– Я по-соседски.
– А я не по-соседски.
Они помолчали, задумавшись.
– Эх, надо было мне эту скатерку-обманку у него поторговать! – сказал на прощанье Кеша. – Чего только не придумают, чтобы людей дурить! Не отдал бы: жмот.
1995
Красный день
Вспоминаю себя, мне тринадцать лет. Мы живем в леспромхозовском поселке, я только что вернулся на летние каникулы из школы, которая находится в райцентре, в пятидесяти километрах от дома. Живем без отца, нас у матери трое, я самый старший.
С вечера мать начинает тяжело вздыхать: завтра и послезавтра, в пятницу и субботу, общественная баня, мать – банщица. Ей надо натаскать с речки подле Ангары по крутому красному яру сотни ведер воды, чтобы заполнить два огромных чана. Руки у матери вытянуты, болят, болит и спина, а на коромысле воду по крутяку не поднять, коромысло не годится.
Я уже решил, слушая мать, что утром помогу ей, хоть она и не просит, считая, что после школы надо дать мальчишке отдохнуть. Но что такое «помогу»? Это значит, что я с ведрами и она с ведрами, на узкой каменистой тропке не разойтись, и мать то и дело будет заставлять меня отдыхать. Уставая сама, она считает, что я, мальчишка, устаю еще больше, что детские мои силенки надрывать нельзя.
Поэтому я решаю поступить по-другому. Светает летом рано, по первому же свету можно подняться и до того, как уберется по дому мать, перетаскать хоть пол-Ангары. Но для этого надо подняться так, чтобы не разбудить мать. И я выдумываю, что мне в избе душно, я буду спать в сенях.
Утром вскакиваю часа в четыре. Еще сумерки, прохладные, знобкие, но с чистым небом, обещающим красный день. Бегу, согреваясь, к бане, отмыкаю ее и заглядываю в чан – в тот, который на топке. Дна не видать, это преисподняя, туда провалится с потрохами все что угодно. Но делать нечего, я берусь за ведра и скатываюсь к речке. Она шумит, прыгает по камням, над Ангарой рядом стоит парок. Плещу себе из речки в лицо, на мгновение замираю. Все, теперь вперед.
Часов у меня нет, я знаю только, что надо торопиться. Подъем занимает минуту-полторы, но взбегать приходится с задержанным дыханием. Чуть расслабишься, чтобы перевести дух, – сдвинуться потом трудно. И я еще от воды разбегаюсь с поднятыми на руках ведрами, чтобы не задевать о камни, и все равно задеваю, все равно плещу на себя. Остатки приношу в чан, и они булькают где-то так глубоко, что едва слышны. Потом снова вниз. Вверх и вниз, вверх и вниз, десятки и десятки раз. Запалившись, припадаю к речке, жадно пью; от пота и наплесков я мокр с головы до ног, но обсыхать некогда.
И я успеваю. Но, возвращаясь домой, я знаю, что такое усталость. Меня качает. В избе у нас еще тихо, я осторожно приоткрываю дверь в сенцы, отметив, что мать не выходила, сбрасываю мокрую одежду в угол и залезаю под одеяло. Все равно матери разогревать топку, все равно ей идти. Вот удивится-то! Так и подогнутся под нею ноги! Я моментально засыпаю.
Просыпаюсь от плача. Дверь из избы в сенцы приоткрыта, и я слышу, как топчутся вокруг матери сестренка с братишкой, как она сквозь слезы что-то отвечает им. И плачет, и плачет. И чувствую, как у самого у меня проступают слезы, как сладким страданием забивает горло. Так хорошо!..
…Мы жили в непролазной нужде, видели, каково приходится нашим матерям накормить-обшить нас, и взять на себя доступную нам, ребятишкам, долю их трудов было для нас так же естественно, как съесть кусок хлеба. Подталкивать к помощи нас не приходилось. У матери радостей было в те суровые годы еще меньше, чем у нас, всякая радость от нас и шла, и мы своим услужением старались ее доставить. Мы рано становились взрослыми, и, с точки зрения иных теоретиков воспитания, детства у нас не было.
В самом деле: где ему быть? С семи годочков верхом на лошади возишь копны в сенокосную страду, с десяти кормишь ушицей всю семью, с двенадцати боронишь колхозные поля, с четырнадцати пашешь, как взрослый мужик… Не бывали мы в пионерских лагерях, не слыхали об «Артеке», костры жгли в лесу да у Ангары больше за делом; за ягодой, за грибами шли с ведрами, чтобы принести домой, на острова плавали, чтобы нарвать дикий лук и чеснок… С малых лет в работе, в пособи, как говорилось о ребятишках, но почему же тогда с такой радостью, с такой полнотой и теплотой, с таким чувством необъятности выпавшего нам счастья вспоминаются те годы? Детство есть детство, это верно. Оно, открывая мир, удивляется и радуется любой малости. Но и при этом никогда не соглашусь я, что мы были чем-то обделены (кроме, быть может, книг, которые узнавали позже), напротив, считаю, что повезло нам с выпавшими на детство трудными годами, ибо тогда не было времени на воспитание, а шли мы вместе со взрослыми ото дня к дню и шли, естественно, научаясь любви, состраданию, трудам и правилам, которые вкладываются в нравственность… А уж как мы верили, что наступят лучшая жизнь! И она наступила.
<1995?>
Россия молодая
Это было еще в те времена, когда самолет был доступен. Не каждому, как в еще более отдаленные времена, но все-таки… карман среднедостаточного гражданина мог посягнуть на воздушное пространство. Для перелета из Иркутска в Москву содержался особый рейс, где подавались водка с икрой и где позволялось делать все, что угодно душеньке новоиспеченного толстосума, который выкладывал за билет почти в пять раз больше иного-прочего пассажира, летевшего тремя часами позже. Этому прочему водки, разумеется, не предлагали. Не всегда предлагали и кусок хлеба.
Я летел среди прочих, как и до того дважды – с тех пор как произошло разделение. Но от последнего перелета минуло три с лишним месяца, за которые жизнь стремительно ушла вперед. Я почувствовал это еще при посадке, очутившись среди не разношерстного, как обычно, народа, а какого-то заметного содружества, объединенного одной целью, как если бы это летела туристическая группа. Но это не была туристическая группа; устремленность этих молодых по большей части людей была иного свойства – какая-то охотничья, дерзкая. Они узнавали друг друга и перекликались, но мне показалось – без радости, даже, пожалуй, с ревностью. Почти все в «упаковке»: кожа, джинсы, кроссовки, на лицах впечатанная небрежность, движения порывистые, резкие, глаза с быстрыми прицельными взглядами. Странная похожесть замечалась и в женщинах: глянцевые лица с глазами в черном ободе краски, сытые рослые тела, не более двух фасонов экипировка – все выделанное, форменное. Нет, тут не туристическая группа, эти люди походили на выпускников чрезвычайно престижного заведения. Как питомцы МГИМО отличаются манерами и лоском, даже физическим сходством, так и тут… Родство выучки, выправки, профессиональная сбитость невольно бросались в глаза и заставляли подозревать в них что-то вроде тайного экспедиционного отряда, спешно направляемого к месту события.
И вдруг меня осенило. Господи! – какой там тайный и экспедиционный, какие там питомцы! Ведь это же они, кормильцы наши, спасители Отечества, труженики киоскового изобилия – коммерсанты! Не те, что успели накачаться, как пауки, и в великосветском обществе друг друга улетели утром, а те, что только избрали стезю и, как приказчики, собственноручно «гоняют товар», вынужденные мириться с обществом прочих. Конечно же, они: и фразы о том, и молодцеватость, и победительность среди неудачников… Еще не купцы, подкупечники только, но уже с взглядом, с характером, с лицом. И как же их много! – нас, обыкновенных, путавшихся у них под ногами, едва бы насчиталось три-четыре десятка из полностью загруженного «ТУ-154».
Мы взлетели. Как водится, прозвучала команда: не курить, спиртные напитки не распивать! Но кто теперь считается с такими пустяками, если даже библейские заповеди занесены в старорежимное тягло, стесняющее, как кандалы, свободу человека, наконец-то усчастливенного без них. И ухом не повели. Через полчаса, едва успели набрать высоту, потянуло едким запахом курева, и я, никогда не куривший, не умеющий отличить благородный табак от мужицкого в общем его неприятии, потянулся к регулятору обдува над головой.
Мне досталось место посреди второго салона с левой стороны у окна. И повезло – соседями по ряду оказались такие же, как я, разночинцы, осколки прошлого, муж и жена не местного вида, который всегда замечается в лице, как акцент в голосе, непохожестью выражения. Возвращались они, как я понял из их разговора, от сына, осевшего в наших краях, и приезжали, чтобы посмотреть, можно ли здесь жить. В Риге, где дом, житья для русского человека не стало. Он был явно из отставников, она, очевидно, только его женой. Офицеры в прежние времена могли позволить себе такую роскошь – не отправлять жен на работу. Женщина с мягким и чувственно вылепленным лицом, круглым и светлым, какие в юности украшаются косой, нисколько и теперь не испорченным возрастом, а только припозднившимся и притомившимся, сидела рядом со мной; муж ее, крупный, набрякший, потерявший выправку, если она у него когда-нибудь была, вчера, на мой опытный взгляд, «провожался» и дышал тяжело. По другую сторону прохода в нашем ряду расположилась компания из трех молодцев, как-то умудрявшихся бить картами по откидному столику со стуком – как в домино. Через ряд впереди по нашей стороне слышался громкий манерный голос, уверявший, что его хозяйка была комсомолкой.
– Не заливай, – задирал ее сосед, говоривший явно на публику, для «представления». – Таких, как ты, в комсомол не брали.
– Каких это «таких»? В комсомол всех брали. С пятнадцати лет. Я, конечно, по внешним данным была девочка не комсомольская…
– А какая ты была по внешним данным? Для какой деятельности?
– Я не для деятельности… Всякие там поручения… это я не любила. С меня в восьмом классе учитель физкультуры глаз не сводил. Девчонки с ума сходили, что у нас будет…
– И что было?
– Ничего. Он боялся, что я школьница…
– Но ты-то, конечно, ничего не боялась?..
– Я была девочка… мечтательная. Намечтаю, намечтаю – до температуры. Сейчас в кино показывают, а я мечтала ничуть не хуже…
– Хоть голыми руками бери, да?
– Не шибко-то. Я как стеклышко была, хочешь знать…
– Ав пионерах ты, стеклышко, ходила?
– Конечно. В третьем классе принимали. Как бы я не ходила – всех принимали.
Вмешался еще один голос:
– В Мексике восьмилетняя родила…
Голос девицы достиг неподдельного целомудренного изумления:
– Зачем рожала-то?
– Во славу мексиканского отечества. Ей, как рекордистке, миллион зелененьких отвалили.
– Вре-ошь!
– Ты что – Америку не знаешь? Не там ты, стеклышко, родилась.
– Еще не все потеряно. Она махнет туда и двинет рекорд с другого конца. Родит в восемьдесят восемь лет. Сразу сорокалетнего.
…Всегда были такие разговоры, как без них?.. Но не было – чтобы на весь салон, демонстративно.
Я откинулся к окну, прислонившись к прохладной обшивке, и закрыл глаза. Размышлял: почему раньше высота, неестественное, висячее положение над пропастью в десять тысяч метров от земли всего с двумя металлическими крыльями почти на двести человек невольно смиряли страсти, невольное чувство опасности заставляло говорить глуше, притаенней, уходить в себя и почему этого нет среди теперешних молодых? Другие люди, другое поколение, сделавшее шаг вперед по сравнению с нами в новую атмосферу, физическую и психическую, для психики которых становится обычным, рядовым то, что в нас только еще зарождалось? Или от более простого чувственного сложения, от происходящего изменения, перерождения человека в какое-то новое существо, приготавливаемое для встречи с будущим? Я летал много, привык к высоте и вступаю на борт «воздушного корабля» без страха, отдаваясь на волю случая и Бога, но всегда, как только самолет отрывается от полосы, не могу я не ощущать свою вырванность из земли, как растение с оголившимися корнями, не могу я избавиться от чувства беспомощности, являющегося от неспособности пользоваться данными природой приспособлениями для жизни. Мои крылья там, внизу. Эти несколько часов перелета из пункта А в пункт Б я не живу, а сохраняю способность к жизни, хотя и могу занять эти часы тем же, что и в нормальных условиях, – чтением, обдумыванием, заметками «на полях», определенным итоживанием «земных» дел… Но все как-то подсеченно, без полного дыхания.
Эти – нет. Они чувствуют себя на высоте… как на высоте, для которой они созданы, они верят, что руки при необходимости способны вымахнуться в крылья, и тогда им удастся испытать еще более приятные мгновения, которых жаждет молодая душа.
Стюардессы вкатили в салон тележку и принялись быстро раскладывать перед нами тощие комковатые пакеты в хрустящей бумаге. Всего там и было: холодное вареное яйцо (без соли), две печенюшки, измазанные яблочным джемом, и пакетик с растворимым кофе. Одно утешение, что к кофе принесли кипяток, а не что-то такое, что напоминает собираемую с крыльев и едва подогретую наморозь. Но мы еще не знали, что этой малостью нам придется довольствоваться до Москвы, что Новосибирск, где происходит дозаправка, самолет заправит, а пассажирам откажет. Опять будет утешение: хорошо, что не наоборот. Наш брат, отдаваясь Аэрофлоту, только и делает, что радуется. Радуется, что досталось место, что удалось попасть в туалет, что на десять минут из шести часов в воздухе выключили музыкальный рев, какого не держат и в аду, что перед трапом в клящий мороз или лютую жару держали не до смертного, а только до сердечного удара, что чемодан вернули годным еще для одной поездки.
Счастливые были времена! И каждый из нас, выходя в порту назначения, считал себя заново родившимся. Оттого и грустно расставаться с Аэрофлотом, что навсегда теперь мы лишаемся этих воскресительных радостей приземления, чудесным образом умевших превращать неприятности полета в забавные приключения.
Но пока мы летим… летим, протыкая небо птицеподобной стрелой, в полом чреве которой гулко и дробно бьется жизнь.
Обед был так непритязателен, что на него хватило пяти минут и на десерт осталось удивление, вместе с которым можно было поразмышлять о неровностях дорог, избираемых отечественной историей. Но и после этого меня ожидало вознаграждение: стюардесса предложила второй пакетик с кофе и подлила кипятку. Закуска раздразнила аппетит, а кофе притупил. Очевидно, еще лучше он притупляется табаком. Зачадили, зачадили уже открыто, намешивая, нагущая «атмосферу», превращая ее в клубящуюся облачность, забивающую дыхание. Вспомнилась фраза Толстого: «…поощряя пищеварение курением сигареты». Для «поощрения» врубили еще музыку, способную дробить камни. Я прежде запасался затычками для ушей – не помогает, децибелы, как рентгеновские лучи, проникают сквозь любую оболочку. Но прежде до такого громоподобна и не доходило. Неужели все это способно оставаться внутри самолета и не выплескивается наружу – разорвет же! На этот раз не я, а женщина рядом со мной придержала стюардессу: нельзя ли потише? «Нельзя, требуют еще громче». – «А что – можно еще громче?» – удивился я. «Нельзя», – как будто понимающе вздохнула стюардесса.
Игра в карты продолжалась – все с тем же стуком и распаляющимися вскриками. Игроки достали вторую бутылку водки. Все было выброшено за борт – и «не курить», и «не распивать». И как быстро: три месяца назад еще поддерживалось, теперь – рухнуло окончательно. Крайний к проходу парень, джинсовый костюм на котором только подчеркивал порочные манеры, в такт музыке и игре, вскрикивая, выплясывал в кресле какой-то уж очень отчаянный танец. Сидевший за ним, с оббитыми коленками, терпел. Игра «поощрялась» матом. Отставник, мучающийся за жену, вмешался – его в три глотки тем же словом одернули; жена торопливо и испуганно принялась удерживать: не надо, не надо, успокойся. Он закрыл глаза.
Закрыл глаза вслед за ним и я. Должно быть, для соседей моих, возвращающихся в Ригу, вопрос решен: России нет. Искать пристанища по кровному родству негде. Там глухая нелюбовь, подчеркнутая, рассчитанная, там люди решительно разошлись на «своих» и «чужих» и «свои» выживают чужаков по племенному неприятию; здесь – разгул нравов, выплеснувшихся со дна. Там расистское, десятилетиями лелеемое «я хозяин», которому выпал случай показать себя во всей красе своего самолюбия; здесь «я хозяин» – от социального пиратства, захватившего дрейфующее государство, от «паханства», выпущенного на волю и получившего простор для утверждения своих законов, по которым людской мир состоит из своих, «воров» и предателей, «сук». Последние ничего другого не заслуживают, кроме презрения и смерти. И как там узнают друг друга кожей, так и здесь свой всегда отличит своего и вместе они сойдутся, чтобы явить право сильного.
Наступил праздник воли, грянуло неслыханное торжество всего, что прежде находилось под стражей нравственных правил, – и тотчас открыто объявило себя предводителем жизни таившееся в человеке дикобразье, тотчас выступило оно вперед и повелительно подало знак, до того понятный только в узком кругу… Как в заброшенной деревне: едва лишь оставят ее, сразу наползает колючий густой кустарник, заполняя улицы, сразу до крыш вымахивает крапива, лезет в разверстые окна и двери, тянется из-под полов, семенится в протрухлявевшем дереве амбаров и стаек. И ветры хлещут обезлюдевшие дворы особенно нещадно, и дожди секут без меры, и река, кормилица-поилица, к которой приникала деревня за милостью сотни лет, выгрызает, ако хищник, берег… Что деревни! – города, огромные, богатые, камнем нетленным глубоко в землю вбитые и высоко в небо вздетые, дивной красой изукрашенные, бывшие стольными в своих государствах, на весь мир гремевшие, – и города зарастают лесами, заносятся песками, превращаются в одну могучую развалину былого могущества, как только отступает человек… Прежде отступает от правил, от установлений, крепящих нравственный порядок жизни, а уж после – спасаясь от воспламенившегося окаянства сограждан. Так же погибали государства, цивилизации. Существует свой пошив любой человеческой организации, будь то национальное государство или межэтническое поселение где-нибудь в Сибири или на Балканах, создаваемых с нравственными целями. Как только целью пренебрегают, швы расходятся…
Россия есть… Как бы сказать соседям, не обидев их вмешательством, что есть она, да только опять на вздыбях, как на дыбе, с вывернутыми руками. С Петра повелось и все не кончится, что пуще иноземного нашествия терзают ее собственные великие преобразователи, борющиеся с отсталостью. Из какой-то выцеленной, вытружденной магическим труждением, сквозь времена хранимой утробы рождаются они, с каким-то необъяснимым везением подвигаются к цели, пролезая и сквозь игольное ушко… И вот снова в сиянии, в славе, приветствуемый народом как спаситель, объявивший, что он выведет многострадальный народ из пленения египетского, вернет его к обетованной жизни, освободит от физических и духовные теснений, – снова Он, и по его дерзкому призыву собираются люди со всех имен, больших и малых, российских владений на «подвиг спасения», оставляют труды и заботы, связанные с «проклятым прошлым», недосеянные поля, недостроенные дома и недокормленных детей… Жаждущими обновления тысячами тысяч сгруживаются на один край, а за другой, освободившийся, цепляют крепкими тросами и начинают накручивать на барабаны, отрывая от вековой сращенности. Тросы натягиваются, звенят, вспыхивают кисточками разорванных нитей – и взлетают в воздух с оборванными глыбами задираемого земного поля. Снова цепляют за него мощные тяги, закрепляют надежней и снова начинают накручивать еще яростней. Треск, стон, вздохи разрываемого тела, обнажившаяся плоть, открывшиеся гробы, спадающие с подножья отрываемой платформы, – и все же она ползет, поднимается, она все выше и выше… «Что вы делаете?! – кричат одни с нее. – Ведь мы же свалимся, убьемся, все настроенное сорвется и побьется в черепки!.. Как можно?! Прекратите!» – <Дд сгинет тьма египетская, в которой мы влачили жалкое существование, – отвечают другие, накручивая. – Да здравствует цивилизованная жизнь!»