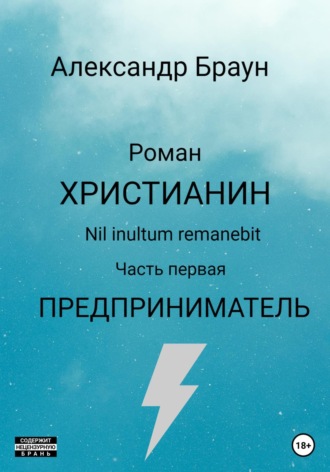
Полная версия
Христианин. Nil inultum remanebit. Часть первая. Предприниматель

Александр Браун
Христианин. Nil inultum remanebit. Часть первая. Предприниматель
ПРЕДИСЛОВИЕ
Один из великих русских писателей как-то заметил, что обыкновенно читателям дела нет до нравственной цели предлагаемого произведения, и потому они не читают предисловий, а жаль, что это так… Несомненно, он был и остается прав в том, что «а жаль, что это так». К сожалению, почти за двести лет после того, как было сделано это наблюдение, отношение «публики» к предисловиям не изменилось. И тем не менее, я счел необходимым предварить повествование кратким, не обременительным для сознания читателя предисловием.
Предлагаемый вашему вниманию роман «Христианин» – это реалистичное повествование о девяностых годах прошлого столетия. Именно – реалистичное, поскольку основано на житейском опыте и наблюдениях автора, его умозаключениях об окружающей действительности и людей из его окружения и даже людей, случайно встреченных автором в дальних поездках по стране. Современный читатель избалован всевозможными «фэнтези», современным магическим реализмом и прочими не совсем реалистичными жанрами, а поскольку уважаемый читатель считает, что он хорошо знает жизнь и людей, то повествование о реалиях жизни порой уже заранее представляются ему скучными и не заслуживающими его внимания. И это, пожалуй, действительно так, но при одном условии: если в реальном повествовании есть только описание действительности, картины из жизни современной России и нет, по-моему мнению, главного, что должно быть в реалистическом повествовании – авторской характеристики окружающей действительности, ее анализа и приговора ей…
Описывая жизнь главного героя, автору пришлось брать в руки «скальпель» и «препарировать» российскую действительность, чтобы понять, что же принесло России и народу возращение в естественное русло развития цивилизации под лозунгом «вперед в прошлое»…
С девяностых годов прошлого столетия в России начинается эпоха «Возвращения» – эпоха ускоренного, революционного возврата страны к капитализму, преодоленному ранее тем же революционным путем. Этот разворот страны в прошлое, возвращение к утраченным формам взаимодействия людей, к иным ценностям не могли не породить кризиса форм сознания и мучительной адаптации населения к реалиям, определяющим иные жизненные приоритеты и, соответственно, иные отношения между людьми. В такие эпохи, независимо от того, как долго они длятся, в изменяющемся обществе всегда возникают конфликты, в которых заново утверждаются отвергнутые и выброшенные из сознания людей много лет назад представления о должном и возможном, чести и бесчестии, прощении и мести, преступлении и наказании… Главный герой романа – молодой мужчина, квалифицированный и востребованный в «прошлой жизни» инженер, а в этом времени – мелкий предприниматель, оказывается в водовороте событий, порожденных эпохой перемен. Зло, овладевающее во время революционных перемен многими человеческими душами, не поразило его сердце и душу, но не обошло стороной его жизнь. Он, простой парень, желавший зарабатывать деньги для своей молодой и любимой жены, для маленького сына-школьника, не мог не столкнуться с этим злом. Оно, порожденное революционным поворотом в прошлое, ворвалось, вломилось в его жизнь и разрушило ее… Казалось бы, такое естественное желание «простого» человека – выжить в сложное время, не остаться, как большинство советских людей, на обочине жизни, привело к трагедии. И простой советский парень, каких миллионы, воспитанный на христианском представлении о должном, вынужден решать для себя самый сложный вопрос: кто он – жертва, законопослушный гражданин или судья происходящему вокруг него? Имеет ли он право только на прощение и законопослушание или, даже более того, просто обязан быть законопослушным и прощать зло? Или, может, жить следует, подчиняясь велению сердца и законам совести, данным человеку свыше? Он должен решить для себя и такой онтологический вопрос, всегда встающий перед человеком в эпоху перемен: что ведет современного человека по жизни – вера или неверие в высшие силы и высшую справедливость? Что определяет его поступки? Может ли человек в эпоху «Возращения» противостоять стечению обстоятельств, которые мы привычно, не задумываясь, называем судьбой?
Часть первая
Предприниматель
Пролог
В конце рабочего дня по заводоуправлению стремительно пронесся слух, что будто на завод привезли большую сумму денег и что, возможно, уже сегодня, после работы, начальники дадут команду выдать обезденежившим людям хотя бы часть невыплаченной зарплаты. Для обнищавших заводоуправленцев, не получавших деньги уже более пяти месяцев, этот слух был, без сомнения, важнее, чем неожиданная весть раскаявшемуся грешнику об уготованном ему месте в раю… Правда, и до сегодняшнего вечера слух о скорой «получке» уже не раз и не два за последние три-четыре месяца гулял по заводоуправлению словно привидение, оставляя после своего исчезновения дух уныния и безысходности… Но все равно, каждый раз, заполняя кабинеты и коридоры, он никого не оставлял равнодушным, и стоило только ему по-ангельски тихо вновь пролететь по заводоуправлению, как люди тут же принимались выяснять, из какого источника взялся слух, насколько этот источник надежен, и чем достовернее был источник, тем сильнее потом было их разочарование… И в этот раз, несмотря на печальный опыт, кто-то снова утверждал, что кто-то видел, как заводские охранники под присмотром милицейского наряда заносили в кассу инкассаторские мешки…
А ведь еще менее полутора лет назад для этих заводчан, регулярно получавших плату за свой труд, весть о том, что началась выдача зарплаты, означала, что им нужно будет отстоять в длинной и утомительной очереди в кассу, и потому некоторые работники, а порой даже и многие, получали деньги на следующий день, когда очереди в кассу уже не было. Для большинства заводоуправленцев не имело значения, когда получить деньги – сегодня или завтра: хоть большинство и жило тогда от зарплаты до зарплаты, но, пожалуй, у каждого, не сильно пьющего человека, была небольшая сумма, позволявшая ему не рваться к кассе именно в день зарплаты. Но теперь, когда они по полгода не видели заработанные деньги, слух о выдаче зарплаты всем дурманил головы словно аромат цветущего макового поля. И никакая, самая длинная очередь, напугать бы их не смогла… Теперь выдача зарплаты казалась им чудом, и они очень сильно желали, чтобы чудо свершилось, а если уж не свершится, то пусть надежда на него умрет и будет похоронена в оскорбленном сердце как можно позже… Поэтому никто после работы домой не пошел: ждали все, ждали даже записные пессимисты и надеялись, что чудо свершится… В заводоуправлении царило напряженное ожидание.
Надежду давало то, что слух никто не опроверг: ни компетентные проныры, знающие все и обо всем, ни начальство… И чем дольше не было опровержения, чем дольше не поступало никакой информации, тем больше в каждом крепла надежда, что деньги дадут, и росло понимание, что самый большой дурак, живший когда-либо на свете, это тот, кто сказал, что не в деньгах счастье.
Ждали все. Никто не уходил. И дождались… Через час слух был опровергнут вестью из бухгалтерии: денег нет, зарплаты не будет.
В этот вечер еще больше заводчан вдруг поняли, что они – люди второго сорта и что с ними можно обращаться хуже, чем со скотом…
Николай Таврогин работал в отделе печатных плат ведущим инженером. Он тоже не получал зарплату уже пять месяцев. Он, как и все, привык к безденежью, научился жить без денег и выживать «на подножном корму». Но, несмотря на это, известие, пришедшее из бухгалтерии, вогнало его в глухое отчаяние, породившее желание сделать что-то такое, что изменило бы всю его жизнь… Наверное, именно в такие минуты у людей с обостренным чувством собственного достоинства и рождаются мысли о необходимости совершить во имя справедливости какое-либо преступление – и даже не столько ради ее восстановления, поскольку это, чаще всего, невозможно, сколько просто для того, чтобы вернуть самоуважение, либо стать революционером или покончить с собой… Тревога, безнадежность, страх, отчаяние и ком слез в горле от осознания собственного бессилия и ничтожности, – плохие советчики в жизни, но именно они безраздельно овладели Таврогиным…
Посидев несколько минут на своем рабочем месте в состоянии ступора, он поднялся, по-стариковски медленно, добрел до платяного шкафа, оделся и, ни с кем не простившись, ушел, аккуратно прикрыв за собою дверь. В проходной он взял у вахтера-вохровца пропуск и вышел на маленькую предзаводскую площадь, зажатую между двумя заводскими корпусами и зданием проходной, соединявших эти корпуса. Огляделся. Вокруг было темно. Только памятник вождю мирового пролетариата, стоявший в центре площади, подсвечивался с четырех сторон скрытыми в его ограде фонарями. Такое освещение делало скульптуру громадной, и казалось, что она светится сама собой, а все вокруг накрыто огромным черным непроницаемым колпаком. Пройдя через площадь, Николай оглянулся: фигура Ильича освещала собой пространство вокруг…
В последние дни, уже не первый раз, выходя из проходной, Николай ловил себя на том, что стоило ему только взглянуть на памятник вождю, как он поневоле начинал думать о том, что пока была великая страна, созданная этим, как теперь утверждают демократические средства массовой информации, страшным человеком, ему, инженеру-оборонщику Таврогину, жилось хорошо, жилось намного лучше, чем сейчас, когда главным символом разваливающейся второстепенной державы является постоянно полупьяный великан с тремя пальцами на левой руке и неизменной пренебрежительной ухмылкой на холеном лице. Тогда, в той великой стране, ему, простому инженеру, вовремя платили зарплату и, надо сказать, неплохую. И пусть тогда на полученные деньги свободно можно было купить хлеб, рыбные консервы, молоко с кефиром, болгарские соки да какие-нибудь сладости местных производителей, – никто не бедствовал, как сейчас, а при желании всегда можно было заполнить холодильник и другими продуктами. Пусть втридорога, но на колхозном рынке всегда можно было купить мясо и домашнюю птицу, масло и сыр, и нормальные, не гнилые, как в магазинах, овощи и фрукты, торты и конфеты, – словом, можно было и необходимое купить, и что-нибудь вкусненькое. Ну и была, наконец, электричка «Приокск – Москва», про которую в народе говорили: «длинная, зеленая и пахнет колбасой…». В общем, были бы деньги, и все можно было «достать» или купить втридорога… А теперь… теперь полки магазинов ломятся от самых разных продуктов, но того, на что их можно бы обменять, – денег, – у него, как и прочего рабочего люда, просто нет. Вот и сегодня, в очередной раз, народ, что называется, обнесли: деньги, заработную плату, эквивалент труда, опять не отдали. «Денег нет!» – говорят всем в день аванса и получки… Денег нет… Денег нет для них, для трудяг, а так, чтобы их вообще не было, так не бывает. Денег всегда нет для кого-то, но не вообще…
Объяснив таким образом наболевший вопрос с деньгами и шагая к остановке, Николай, представил, какие сцены ему – опять пришедшему в день зарплаты без денег – устроит дома супруга… Он попытался было вообще ни о чем не думать, но оказалось, что это невозможно. Тогда он стал просто гнать от себя мысли о зарплате и о доме, но оказалось, что и это сделать непросто. После нескольких неудавшихся попыток пришла мысль о выпивке, но она тут же была изгнана вопросами «на что?» и «что это изменит?» и пониманием, что потом, после, станет еще хуже… Человеку нормальному водка только создает дополнительные проблемы, но никогда не решает имеющиеся… Таврогин посмотрел в ночное небо: тьма, плотная черная тьма висела так низко, что он неожиданно подумал, что если подняться сейчас на крышу пятиэтажного дома, то можно легко раздвинуть эту тьму руками, – словно полог на входе в шатер. От этой глупой, непонятно откуда взявшейся детской мысли, от неожиданности ее появления Таврогин даже остановился. «Как же так? Как вообще могла наступить такая жизнь? Вокруг только тьма. Никакого просвета. Тьма сегодня, тьма завтра… И чего они вообще добиваются, эти уроды, называющие наступившую тьму свободой?», – спросил себя Таврогин. И с этим вопросом в нем незаметно сработала спасительная защита от мыслей о деньгах, о хлебе насущном, о доме, упреков супруги – вместо них пришли мысли об отвлеченном: о том, почему вообще все так случилось? Знал ли Таврогин или нет, что размышления на отвлеченные темы – лучшее средство отстранения от действительности, в которой его ждали упреки, слезы, крики супруги, скандал на грани нервного срыва, но он стал думать об отвлеченном – о том, как случилось, что исчезла великая страна, почему вместе со свободой пришла нищета, почему у власти оказались нравственные уроды, не помнящие своего происхождения. Его мысли перескакивали с одного на другое, но в целом они были об одном – о жизни в целом и почему все так получилось… Почему нищенское существование начальники-правители называют свободой, почему не платят деньги за работу, сносят памятники… Кто им вообще это позволил? Он снова вспомнил о снесенном и потом возвращенном на место памятнике Ленину, и вдруг отчетливо понял, что если нынешние хозяева жизни сносят памятники, то живым людям при них уж точно несдобровать…
Он шел к своей остановке, с которой поедет домой, и, как ни старался думать о вещах общих и посторонних, но с каждым шагом его отвлеченные размышления, вызванные памятником Ленину, настойчиво перебивались мыслями о доме, о встрече с женой, и с каждой такой мыслью, у него все больше портилось настроение, а маленький, совсем крохотный огонек тревоги, никогда не затухавший, наверное, весь последний год его жизни, разгорался все сильнее… И сейчас, если чего-то и не хотелось ему больше всего на свете, так это идти домой, где он предстанет перед очами своей супруги… Сегодня же день зарплаты, – день, который жены помнят так же хорошо, как и день свадьбы… День зарплаты, которую снова не выдали… Последний раз он держал в руках «кровно заработанные» пять месяцев назад, половина из которых сразу ушла на погашение долгов, взятых им под зарплату… Подумав, что сейчас ему снова придется предстать перед супругой с пустыми карманами, он с тоской огляделся по сторонам, словно искал, что могло бы воспрепятствовать его приходу домой… И вновь он подумал, что неплохо бы выпить, чтобы хоть как-то снять напряжение, а еще лучше – напиться до «синего дыму», чтобы было, что называется, «все равно» и чтобы на вопросы супруги о деньгах можно было, заикаясь и с трудом шевеля языком, говорить: «Деньги? К-к-какие и…щё д-деньги? У м-м-меня их-х-х… х-нет… Не д-д-дали, с-с-суки…». Но дома был Димка, его сын, с которым они были большими друзьями и который, как казалось Николаю, понимал его… У каждого должен быть хоть один человек, который понимает его… Во всяком случае, когда Николай, видя, как Димка смотрит в магазине на какую-нибудь игрушку, говорил ему, что, мол, прости, брат, нет у меня пока денег, чтобы ее купить, Димка смотрел на него грустными глазами и с какой-то особой детской мудростью, но совсем по-взрослому, говорил: «Да ладно, у меня другие игрушки есть…». Видеть эту грусть в глазах сына Николаю с каждым месяцем, с каждой неделей и с каждым днем становилось все горше и невыносимей…
И совсем другое – его супруга: красивая, властная и, вроде бы, умная женщина, она не обладала и малой толикой сыновней мудрости… Ей не было никакого дела до причин, по которым ее муж не приносит домой деньги в дни аванса и получки. Она их требовала, называла его тряпкой, лохом и размазней, и уже полгода спала в другой комнате, а последние полтора-два месяца, все чаще ночевала, по ее словам, у какой-то своей старой подруги. Николай переживал, но, чтобы избежать скандала в присутствии сына, никогда не задавал ей «лишних» вопросов… Зачем, если и так было уже понятно, что Храм, в котором хранилось их взаимное чувство, давно опустел… И опустел из-за банальной причины: он не мог заработать деньги для семьи… Работа, за которую раньше ему платили очень хорошие деньги, видимо, стала никому не нужна, потому что теперь за нее платили, во-первых, гроши, а, во-вторых, от случая к случаю… Никакие доводы его супруга не воспринимала как оправдательные…
Вот и сегодня, в день зарплаты, у него тоже не было денег… Совсем не было. Это означало, что он сегодня снова будет тряпкой и лохом, а может и кем-нибудь еще – в зависимости от того, кем представит его фантазия супруги…
Не глядя по сторонам, он перешел по светофору проезжую часть улицы Каляева и, опустив голову, зашагал в сторону остановки троллейбуса на главной улице Приокска – Первомайском проспекте.
Уже на подходе к проспекту – до него оставалось шагов тридцать – его окликнули:
– Николай! Таврогин!? Ты, что ли? – с удивлением произнес какой-то знакомый голос.
Николай, погруженный в неприятные мысли о встрече с супругой, точно возвращенный из глубокого сна, с недоумением огляделся по сторонам… Он не увидел никого, кто мог бы произнести его имя и фамилию. «Глюки, что ли? Послышалось…», – тихо произнес он.
– Таврогин! Ты что, друзей не узнаешь? – снова раздался голос.
Теперь Николай услышал, что голос донесся из припаркованной рядом с обочиной белой «шестерки» и это был голос Лаврова… И действительно: из окна водительской двери на него смотрел Лавров Сашка …
– Ну-у? И что ты смотришь? Садись давай, – весело сказал Лавров. – Что как не родной? Давай-давай!
Николай, возвращенный из неприятного будущего в проблемное настоящее, с удивлением смотрел на улыбающегося Лаврова. Не принять предложение и не сесть в машину было бы некорректно, неправильно и могло быть истолковано Сашкой, как нежелание общаться, как оскорбление… Сашка, работавший с Николаем на одном заводе, в отделе программного обеспечения, всего пять месяцев как уволился со своей должности и ушел с завода… И вот… Николай хорошо помнил, что никакой машины у Лаврова никогда не было… Он обошел спереди «шестерку» и сел на пассажирское место.
– Здорово, Сань! Не ожидал увидеть тебя, – сказал Николай. – Думал, что ты… что ты уже… свой хрен без соли доедаешь… А ты…
– Да ладно! Какой еще хрен? Да все в порядке! Все хип- хоп! А ты что такой?
– Какой?
– Мрачный! Хоть отпевай. Что, опять зарплату не дали?
– Не дали… А ты откуда знаешь?
– А что тут знать-то? Идет Колюнюшка не весел, головушку повесил… в день зарплаты… Что тут знать-то, Коля?! Я еще не забыл, что двадцать второе число – день пролетария… который теперь всегда пролетает… Сейчас никому зарплату не дают! Это, брат, политика, это один способов создания среднего класса в России! Выживают сильнейшие, предприимчивые и умные! Все остальные от выборов до выборов Родине лишние!
– Да ладно тебе, Сань… Тебе бы все побалагурить… А тут, действительно, хоть вешайся. Шестой месяц задержка…
– Шестой? Коль, это уже не задержка, а сам понимаешь что, – сочувственно сказал Лавров. – А я вот ушел от этих волков, – Лавров кивнув в сторону завода, – и чувствую себя отлично, – почти как… «Хопёр-Инвест», «Тибет» и «Властилина», – пропел Лавров названия фирм на мотив «А вот вчера мы хоронили двух марксистов…». – Я сам на себя работаю, Коля, и ни на кого больше. Ни за крышу пока не плачу, ни налоги… Вот видишь, машину купил, – Лавров легонько стукнул раскрытыми ладонями по рулю. – Да, не новая, но и не старая! – Он любовно погладил руль ладонями. – И это только начало… Я ж всего пять месяцев как сам кручусь… Тут купил подешевле, там продал подороже. Сейчас возможностей столько, что грех не воспользоваться ими… Все связи между предприятиями нарушены, заводы стоят, а те, которые работают, ищут все: от дверной ручки до металлопроката… Покупай, продавай – и будешь в шоколаде!
Николай слушал Лаврова и удивлялся. Удивлялся тому, как вот этот парень, работавший в заводском отделе, весьма далеком от реальности, смог так быстро сориентироваться в жизненных процессах… И ведь его риск оправдался: если уж он купил машину, то сделал это точно не на последние деньги…
– А ты чем торгуешь? – спросил Николай.
– У меня не очень доходные товары, – уклончиво ответил Лавров.
– Ну, хорошо, а какие тогда самые доходные? – спросил Николай.
Лавров хохотнул и ответил:
– Самые доходные сейчас товары – это Родина и совесть.
– Да? – усмехнулся Николай. – И что, хорошо идут?
– Это надо у больших чиновников в Москве спросить. Там главная торговая площадка.
– До тех чиновников далеко – не спросишь. Ну, а ты, все-таки, ты-то чем торгуешь? – спросил Николай.
– Я ж говорю: всем, что можно по дешевке купить и быстро подороже продать.
– Это и есть бизнес?
– Ну да!
– Какой же это бизнес? Это спекуляция…
– Это у коммунистов была спекуляция, а сейчас это – бизнес!
– И у старушек, которые вдоль тротуаров торгуют, у них тоже – бизнес?
– Не заводись, Таврогин! Что ты – завидуешь, что ли?
– Ничуть. Чему завидовать?
– Ну как? Тому, что мы сами по себе, а ты зависишь от других…
– А ты не зависишь?
– Ну, почему же… Я тоже зависим – от президента, от ментов, налоговой инспекции, бандитов, но больше все- таки от самого себя…
– Ну и компанию ты себе выбрал. Я бы всех их, кроме тебя, конечно, к стенке поставил, – усмехнулся Николай.
– Да брось ты! Нормальная компания. Когда работаешь на себя, другой компании быть не может. Это у тебя – начальники, и ты зависишь от них, а на до мной начальства нет, – есть определенные зависимости, но в целом, я свободный человек.
– А как же ты от президента-то зависишь? Не высоко ли берешь?
– Не, не высоко, в самый раз! Я тут недавно обнаружил, что президент для нас сейчас главнее Бога. Его указы напрямую касаются моей жизни, потому что я свободный товарищ.
– Не совсем понял, но…
– А что тут понимать-то, – перебил Лавров. – Президент – это царь, вождь, император, а их указы всегда касаются только свободных людей…
– Ах вон как!… Значит, я раб, что ли, выходит?
– Ну, не в прямом смысле, конечно. Просто степень свободы у нас разная, и выбор действий у меня шире. Я вот о чем.
– Теперь понятно. Значит, президент у вас, свободных, даже выше самого Бога.
– Конечно выше.
– Лавров, я хоть и неверующий, но твои слова тянут на богохульство. Слово такое слыхал?
– Какое ж это богохульство? Бог – он за всех, а президент… он на нашей стороне! На стороне торгующих, ворующих и таким образом свободно наживающих капитал!
– Что, и на стороне ворующих?
– И на стороне ворующих. Но не явно же – ворующих! Понимаешь? Он управляет, так сказать, прикрывая глаза на дела своих, – Лавров хохотнул. – Ну, а те нас, торгующих, не трогают. Все как всегда в России. В СССР торговать, как сейчас, не разрешали, – так все помаленьку воровали. А сейчас торговать разрешили законом: иди и торгуй – как хочешь, так и торгуй!
– Разрешили торговать законом? – со смехом переспросил Николай. – И что, хорошо расходится?
– Да не цепляйся ты к словам! Я имел ввиду: законодательно разрешили!
– Не-не, ты объясни мне: если есть такие бизнесмены, которые Родиной и совестью торгуют, то должны быть среди вас и такие бизнесмены, которые и законами торгуют, – не унимался Николай. Лавров, сидевший обхватив руками руль своего автомобиля, почему-то раздражал его, и Николаю хотелось побольнее его «укусить».
Лавров внимательно посмотрел на Николая.
– А сам ты об этом, конечно, не знаешь? – спросил Лавров.
– Не знаю. Я, например, только сейчас от тебя узнал, что у вас Родина и совесть – самые ходовые товары.
Лавров помолчал. Усмехнулся.
– У вас, у нас… Таврогин, ты на меня-то за что бочку катишь? Я не министр иностранных дел, не председатель Госкомимущества и не депутат Госдумы.
– А при чем здесь эти господа?
– Таврогин, ты меня удивляешь… Включи голову, подумай. А насчет законов я тебя, так уж и быть, просвещу: в Госдуме – главная торговая площадка законами. Надо объяснять дальше или сам поймешь?
– Да понял уже: кто больше даст, закон того и примут.
– Ну, как-то так. И еще пойми: демократии без торговли законами не бывает. Если в главном законодательном органе государства не торгуют законами, то в таком государстве нет демократии – в ней либо деспотия или тоталитарный режим, типа какой-нибудь разновидности коммунизма.
– Значит, в России при царе и большевиках законами не торговали?
– Нет, Таврогин, тогда не торговали, потому что демократии в нынешнем виде не было…
Николай помолчал, потом уничижительно-издевательским тоном сказал:
– Да, Лавров, умный ты человек. Много знаешь, почти все понимаешь, не то что мы – лохи…
Лавров то ли не обратил внимания на то, каким тоном были сказаны эти слова, то ли умышленно не заметил, и спокойно спросил:




