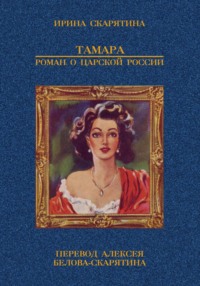Полная версия
Небесный Путь в Россию. Дневник Военкора
Когда мы снова наверху, я мельком вижу город, маяк и большую лагуну Лагоса, а за ней – Атлантический океан. Теперь мы сворачиваем вглубь Африки и летим на северо-восток над густыми джунглями, которые не редеют до самого Кано. По дороге мы видим пробивающую свой путь сквозь заросли реку Нигер.
Где-то здесь знаменитый авиатор, капитан Ролли Инман, потерпел крушение, однако выжил, чтобы поведать о тех событиях. Именно так он описывает свой "самый свежий триллер", едва не положивший конец его карьере:
"Мы благополучно добрались до Натала, но в ту же ночь правый мотор стал плеваться и бурчать всю дорогу над Атлантикой. Я несколько раз решал повернуть назад, но при каждой попытке всё чудесным образом становилось хорошо, и я опять летел в Африку. Мы нормально дотянули до Золотого Берега, где они осмотрели судно, но не смогли найти никаких проблем, поэтому мы отбыли в Хартум и летели примерно три часа. Таким образом, мы продвинулись вглубь суши где-то миль на 60050. И были на высоте порядка 11 000 футов51, когда правый двигатель окончательно сдох. Поскольку эти корабли с горючкой для трансатлантического перелёта весят 36 000 фунтов52, и по всем нормам 27 000 фунтов53 – это предел общей загрузки, наша скорость снижения, что бы мы ни пытались предпринять, составляла около тысячи футов в минуту54.
Меня чуть не хватила кондрашка, пока нас несло над сплошными джунглями, где единственным открытым местом был узкий берег реки Нигер, которого мы теперь держались. Несмотря ни на что, я, широко открыв левый двигатель, врубил его на полную мощность. Но всё равно не выходило удержать высоту. Тогда мы сбросили все баки бомбоотсека, и я велел штурману и радисту прыгать, так как понял, что мы разобьёмся. Поскольку это был лишь второй перелёт в их жизни и они не успели толком освоить парашют, то непростительно долго медлили, решив прыгать лишь тогда, когда мы уже спустились слишком низко. Прорезав сквозь пальмы просеку длиной в четверть мили55, мы наконец коснулись земли на открытом месте, поросшем бамбуком высотой в семь футов56, и чуток соскользнули с берега в реку, убив при этом крокодила.
Стоило нам остановиться, как корабль был целиком охвачен пламенем. Второй пилот, паренёк по имени Расс Ховард, и я немедленно вылезли через аварийный люк, получив лишь пару мелких порезов на лице. Штурман по фамилии Кристи и радист по фамилии Вандевер сами выбраться не смогли. Мы, рванув назад, вытащили их. С Кристи чуть не сняло скальп, а у Вандевера горела одежда, и он получил серьёзные внутренние повреждения. Мы оттащили Вана и вместе рухнули в грязь под береговым бугром, так как с каждым всполохом начали взрываться пулемётные боеприпасы, меча во все стороны пули.
Вандевер был очень плох, так как его обувь практически сгорела, обожгло кожу ниже колен, и были сломаны три ребра. Мы пролежали так около часа, прежде чем заметили туземцев, подсматривающих за нами из-за деревьев. Мы жестами показали им подойти, и вскоре их вождь и дюжина самых смелых решились на это. Приблизившись, они упали на колени и принялись, прикладывая руки ко рту, повторять снова и снова 'салю салю'. Позже мы узнали, что это был их способ приветствовать кого-либо, кто считался ими намного выше по статусу, означая, что они готовы ему служить. Они были насмерть напуганы, поскольку впервые в своей жизни узрели самолёт, а мы, покрытые грязью и кровью, выглядели как сущие черти.
Разумеется, они не понимали ни бельмеса по-английски, но мы знаками показали, будто несём кого-то на носилках, и те, живо притащив травяную циновку и уложив на неё Вана, понесли над головами к небольшому скоплению травяных хижин, где они обитали примерно в миле57 от места падения. Начисто выметя одну из них и устелив её травяными циновками, чтобы мы могли лечь, они устроили нас с максимально возможным комфортом. Мы потеряли всё, кроме одежды, которая на нас была. Съестное, медикаменты, оружие, москитные сетки, надувные матрасы и всё остальное, включая и мой шикарный фотоаппарат, сгорело вместе с судном. Карты тоже сгорели, и мы имели лишь смутное представление о нашем местоположении, думая однако, что находимся не слишком далеко от города под названием Кадуна. Произнеся несколько раз 'Кадуна', мы указали в разные стороны. В итоге все туземцы, тоже повторяя 'Кадуна', ткнули пальцем в одном направлении, поэтому мы решили, что там она и должна находиться. Они не могли объяснить нам, насколько далеко, так как понятия не имели о милях. Ховард, взяв местную лошадь и одного из парней в качестве проводника, отправился в Кадуну. Оказалось, что до неё было 60 миль58. Поэтому ему пришлось туда добираться весь тот день и всю ночь. Поездка чуть не сгубила лошадь, так как та никак не могла угнаться за бегущим впереди проводником.
Кадуна – это британский военный гарнизон, где имеется небольшой госпиталь. Там снарядили два Брен-транспортёра59 со всем необходимым, включая пару врачей, и послали их за нами. Получилось доехать на транспортёрах только до точки, расположенной в двадцати милях60 от нас, и остаток пути им пришлось пройти пешком. Они добрались около полуночи, и к тому времени мы уже были в отчаянии, покрытые тысячами комариных укусов, не решившиеся есть туземную пищу, а потому пьющие лишь кипячёную тёплую речную воду. А бедному старине Вану так и вообще пришлось хуже всех. Врачи, положив того на носилки, пронесли его всю дорогу до транспортёров. И к следующей ночи, уже затемно, наша жалкая компания добралась до гарнизона, где британцы отнеслись к нам по-королевски.
Нам с Ховардом зашили порезы на голове, и мы, прежде чем отправиться домой, пробыли там всего три дня. А два других парня до сих пор там, и трудно сказать, когда им наконец позволят уехать".
В Кано мы прибываем в сумерках. Быстро темнеет, и идёт мелкий дождь, что, оказывается, очень необычно для этого времени года. Меня снова отделяют от моих спутников и на этот раз отправляют в женский компаунд, как его тут называют. Я оказываюсь совсем одна, если не считать двух пожилых дам-миссионерок, которые, похоже, заразились какой-то ужасной африканской простудой.
Сидя на крытом крылечке крошечного домика, в котором они остановились, те яростно чихают, тяжело дышат и жалобно смотрят на меня слезящимися глазами. Их носы пылают, а щёки распухли. Один взгляд на них, и я исчезаю в противоположном направлении. Простуды подобного рода, в такое время и в таком забытом Богом месте определённо следует избегать. Однако, прежде чем удрать, я предлагаю им немного аспирина, хинина и таблеток от простуды, от которых они отказываются, печально заявляя, что перепробовали всё, что есть на белом свете, но пока ничто не помогает.
Комплекс состоит из рядов компактных домиков, окружающих длинное низкое главное здание в центре, содержащее просторную и унылую приёмную с печально разбросанной кучкой древних газет, столовую, что выглядит чуть более жизнерадостной, и кухню, которую я, не видя, определяю по запаху.
Мой собственный домишко стоит на самом краю лагеря или компаунда – как бы он там официально ни назывался – и выглядит по-особенному мрачно и тоскливо. Над входом кто-то написал карандашом следующее: "Это и есть тот самый 'Хат-Сат Роулсон на риллерах'61, да помогут ангелы тем, кто будет тут спать".
На коньке низкой крыши сидит немалых размеров стервятник, периодически издавая звук, похожий на крик бедствия, и зловеще взмахивая крыльями. Я хлопаю в ладоши, крича ему "кыш!", и даже бросаю маленькие камешки и палочки, которые попадают аккурат в него, но без каких-либо видимых результатов. Он продолжает сидеть там, как символ дурного предзнаменования, которым в сущности и является, заставляя меня содрогаться всякий раз, когда я бросаю взгляд на его нескладную фигуру. Я понимаю, что бесполезно кидать что-либо в его сторону, поскольку, хотя мои ботинок и калоша попали ему точно в грудь, он не сдвинулся с места и, вероятно, хохочет во всё горло, когда мне приходится шарить в их поисках в темноте.
Группа аборигенов, увязавшихся за мной, пытается продать мне свои товары – в основном бусы и маленькие предметы, сделанные из дерева и кожи. Однако им не удаётся соблазнить меня заняться покупками в таком месте и в такой час, и я становлюсь столь же невосприимчивой к их приставаниям, как стервятник к моим снарядам.
Внутри Хат-Сата я обнаруживаю тесную комнату с кроватью, комодом и плетёным креслом, а по соседству – крошечную ванную, где не течёт вода. Мрачно оглядевшись по сторонам, я торопливо выхожу наружу в своём плаще и найденных калошах и начинаю расхаживать взад-вперёд по мокрой дороге перед главным зданием, тогда как аборигены следуют за мной, как хор за солисткой в опере. Я чувствую, что в любой момент могу разразиться арией на манер примадонны, дабы музыкально сообщить миру, что я думаю о моём первом вечере в Кано.
Но вскоре аборигены исчезают, и теперь в поле моего зрения нет ни одной живой души. Единственные звуки, которые долетают до моих чутких ушей, – это чих и сипение несчастных миссионерок, редкие крики моего стервятника, всё так же сидящего на крыше Хат-Сата, да нудный стук дождевых капель.
"Ты идиотка, – гневно кляну я себя. – Наиполнейшая идиотка из всех идиотов на свете. Только взгляни, во что ты вляпалась! 'О, это будет так волнующе, о, это будет так увлекательно!'" (С горечью передразниваю я свой собственный голос, произносивший сию чушь ещё дома перед отъездом). "'Волнующе, увлекательно' – подумать только! … Всё, что тебе суждено, моя жалкая глупышка, – это подхватить какую-нибудь ужасную африканскую хворь, быть заклёванной до смерти стервятником или обворованной туземцами и никогда больше не увидеть ни Америки, ни России".
Вот так я и шагаю – туда-сюда, туда-сюда, – пытаясь скоротать мучительно тянущиеся минуты. Я не имею ни малейшего представления, сколько сейчас времени, так как мои часы остановились, но полагаю, что где-то около десяти вечера. Внезапно в главном здании загорается свет, и вскоре сквозь туман начинают долетать призывные запахи готовящейся пищи. Затем я слышу шаги, за которыми следует луч фонарика, и через секунду появляется пара белых мужчин. Они представляются. Один – американец, другой – англичанин, оба штатские, дислоцированные в Кано. Я так и не узнаю, почему они приходят поужинать именно в этот женский компаунд, но, поскольку я и они – единственные белые люди в столовой, мы садимся вместе за маленьким столиком в углу.
Я задаюсь вопросом, как питаются бедные чихающие миссионерки, и делаю вывод, что их, наверное, кормят, соблюдая условия карантина.
После ужина я иду в свой Хат-Сат в сопровождении двух джентльменов, каждый из которых вышагивает с фонариком в одной руке и моим локтем в другой. Увы, стервятник всё ещё сидит на крыше, но моим спутникам удаётся изгнать его странными криками и длинным шестом, подобранным в траве. Совершив столь галантный подвиг, они пожимают мне руку и желают спокойной ночи, добавляя: "Конечно, если вы сможете это вынести, что довольно непросто сделать, пока не приспособишься", – а затем исчезают в темноте. Но не успевают они уйти, как стервятник объявляется вновь и в довершение ко всему где-то поблизости начинает выть собака, а меж деревьев опять возникают тёмные тени туземцев, шмыгающих тут и там рядом с моим пристанищем.
15 августа
После бессонной ночи – из-за расхаживающего по крыше, бьющего крыльями и орущего стервятника, воющей собаки и слоняющихся вокруг, тихо перешёптывающихся туземцев – мне звонят перед самым рассветом, веля срочно явиться к завтраку в главное здание в центре компаунда. Поскольку нет воды, чтобы наполнить выглядящую в остальном суперсовременно ванну, я поспешно одеваюсь и, захватив свою маленькую дорожную сумку, бегу по дороге. Темень – хоть глаз выколи, и электрический свет горит лишь на кухне и в столовой, где тот стол, за коим я сидела намедни, нынче накрыт для меня одной. К моему ужасу завтрак вновь обилен: яичница и кофе, хлеб с маслом и фрукты. Я никогда в жизни не видала столь грандиозных завтраков, как во время своего перелёта через Южную Америку и Африку.
Сияющий и заботливый официант-туземец советует мне плотно поесть, так как, вполне возможно, мне больше ничего не светит до позднего вечера в Хартуме. Но, как и всегда, я не в состоянии есть эти блюда, имеющие столь своеобразный вкус, да ещё и в такую безбожную рань, поэтому, вызвав в нём шок непонимания, просто выпиваю обжигающий кофе и крошу несколько тостов. Но, когда я даю ему чаевые, он снова начинает сиять, говоря, что сам съест мой завтрак, молясь о моём здоровье.
Вскоре за мной заскакивает фургон, и мы мчимся как сумасшедшие в аэропорт. Всю ночь шёл весьма сильный дождь, и поле выглядит мокрым. Поэтому совершенно не вызывает удивления весть, что вылет всё-таки задерживается и мы можем вернуться в свои постели и спать до тех пор, пока нас снова не вызовут. Единственное, что нас изумляет, – это почему нужно было в первую очередь слать за нами, а не проверять поле. Военные смеются и шутят, будучи в полной уверенности, что мы застряли в Кано ещё минимум на сутки. Они возвращаются в свой лагерь, надеясь, что им выдадут второй завтрак, тогда как меня снова везут по едва различимым улицам Кано к моему женскому компаунду и Хат-Сату, который я была так счастлива покинуть, думая, что навсегда. У меня возникает странное чувство, когда я вижу кровать, всё ещё хранящую отпечаток моего тела, – беспокойное ложе, с которым я надеялась проститься навеки. Но за время моего краткого отсутствия произошло и несколько приятных изменений: исчез стервятник, замолкла собака и больше не слышен шёпот местных за стенами этой халупы.
Ложась в постель, я вспоминаю о старом русском суеверии, заключающемся в том, что "возвращаться в начале пути – плохая примета", и мне интересно, означает ли это, что с нами случится что-то ужасное в тот день, когда мы наконец полетим дальше. Я вытягиваюсь на кровати полностью одетой и едва проваливаюсь в сон, как раздаётся стук в дверь и за ней обнаруживается тот же водитель фургона, в волнении умоляющий поторопиться, поскольку пришёл приказ вылетать немедленно. И мы снова мчимся по быстро оживающим улицам.
Кано – это восхитительный старый город-крепость, настолько древний, что он, как мне говорят, даже упоминается в Библии (хотя я подозреваю, что они путают его с Каной Галилейской). Перед хижинами из красноватой глины резвятся в грязевых лужах чёрные как смоль совершенно голые детишки, и их тела блестят, как отполированные. Некоторые из них – просто образцы совершенного телосложения, в то время как у других – огромные животы и ненормально тонкие ручки и ножки. Их матери, закутанные в разноцветные домотканые саронги (или как их там ещё называют), похожие на библейские погребальные саваны, уже склонились над деревянными бадьями для стирки и колотят дубинками по находящемуся там белью. А мужчины, некоторые из которых наги, если не считать скудной набедренной повязки, иные же в ниспадающих одеждах (которые кажутся на расстоянии белоснежными, но при ближайшем рассмотрении таковыми не являются), неторопливо слоняются взад-вперёд по улицам. Кое-где можно увидеть лежащих без движения людей очень жалкого вида, и водитель говорит мне, что у них либо сонная болезнь – паралич, либо проказа. Но никто, кажется, не обращает на них никакого внимания, и те продолжают лежать там без помощи и присмотра. Кроме того, есть те, кто был проклят колдунами Джу-Джу и оставлен умирать в одиночестве в тех самых местах, где их поразила магия. Поскольку им запрещено двигаться и никто не осмеливается их покормить, они выглядят как скелеты, скрюченные и изогнутые до невероятности. На их страшных лицах живы только огромные, жалобные глаза. Один бедняга с широко расставленными руками и ногами выглядит точь-в-точь как паук; у другого остались лишь туловище и голова, да и то покрытые гноящимися язвами. Как же должен быть слеп тот, кто идеализирует Африку!
Тяжело нагруженные маленькие ослики прокладывают свой путь среди американских военных грузовиков, джипов и фургонов, заполнивших главную улицу. Я наспех покупаю миниатюрную резную деревянную фигурку туземки с младенцем на спине, склонившейся над стиральной лоханью, и крохотную подушечку из красной и зелёной кожи – фирменный сувенир Кано. Эти вещи суют мне через открытое окно нашего фургона, пока мы стоим на перекрёстке, однако покупать что-либо ещё нет времени. Через несколько минут я снова сажусь в наш самолёт, тот самый, что доставил нас в Кано предыдущим вечером, – "Щебетунью".
Все мы разделяем мнение, что просто ужасно не иметь возможности хотя бы ненадолго задержаться для знакомства с очаровательными африканскими городами, но после недолгого обсуждения соглашаемся, что всё-таки это совсем не обзорная поездка и основная идея состоит в том, чтобы добраться как можно быстрее до наших пунктов назначения в зоне боевых действий. Тем не менее мучительно осознавать невозможность более глубокого познания Африки, особенно когда думаешь, что, вероятно, никогда больше не полетишь этим же маршрутом. Все ребята накупили в Кано подарков для своих семей и рассчитывают отослать их домой при первой же возможности. Поскольку Кано славится своими изделиями из кожи, наш самолет становится похож на восточный базар, когда каждый из военных начинает показывать, что он приобрёл. Они хвалят армейский лагерь, в котором ночевали, и с большим сочувствием слушают скорбный рассказ о моих ночных приключениях.
Кано – Хартум
62
Мы отбываем с восходом солнца, взлетая, по всей видимости, без особых проблем, хотя взлётно-посадочная полоса всё ещё влажная и плюющаяся брызгами из-под шасси при разгоне. Несколько боевых пилотов летят с нами в качестве пассажиров, держа путь в Северную Африку, и во время взлёта выглядят непривычно тихими и напряжёнными. Сев вместе в одном ряду, они, кажется, следят за каждым движением самолёта. Но стоит тому оторваться от земли, они как один расслабляются и, с радостными возгласами широким взмахом расстегнув ремни и сблизив головы, начинают говорить все разом.
"О чём речь?" – вопрошаю я, выказывая свойственную мне любознательность, и те отвечают: "О, да просто кучка технических тонкостей – досужий трёп, ну, вы знаете, о том, как прошёл взлёт".
С тех пор как я покинула Нью-Йорк, я стала реагировать на всё более настороженно, подобно тому, как ведут себя лётчики, путешествующие в качестве пассажиров, ведь те знают о происходящем гораздо больше, чем большинство из нас. Во время взлётов и посадок есть определённые моменты, неизменно превращающие их в молчаливых бдительных мужчин. Они знают, о чём идёт речь. Им известны все детали.
Через некоторое время мы примерно на полчаса садимся в Майдугури63. Местную взлётно-посадочную полосу обрамляют травянистые обочины, и мне говорят, что после сильного дождя ею нельзя пользоваться по крайней мере час. Поскольку прошлой ночью непрерывно лил дождь, я предполагаю, что именно поэтому мы не вылетели из Кано в первый раз, когда нас вызвали до рассвета, а должны были ждать, пока этот следующий пункт нашей остановки не подсохнет.
Тут ужасно жарко (кто-то сообщает нам о 140°64), и, задыхаясь и сбившись в кучу, как стадо овец под деревом, мы стоим в тени огромного крыла нашего самолёта.
Снова набрав высоту, мы принимаемся рассматривать озеро Чад, лежащее к северо-западу от Эль-Генейны65 – очередной остановки, но уже в англо-египетском Судане. А также видим Форт Лами66 на некотором отдалении от нашего маршрута, находящийся во Французской Экваториальной Африке – безусловно, ещё одной опасной зоне. Неожиданно из аэропорта Лами взмывает несколько самолётов, которые некоторое время следуют за нами. Сначала мы думаем, что это преследующие нас вражеские истребители, но вскоре те уходят в другом направлении, и снова становится спокойно. Как бы то ни было, они подарили нам несколько захватывающих дух минут, поскольку мы, услышав, что Форт Лами недавно подвергся нацистской бомбардировке, решили, что, возможно, немцы вернулись опять, дабы на этот раз поохотиться за нами.
Поднимается пыльная дымка, а когда мы летим над саванной, то тут, то там видны клубы дыма от многочисленных травяных пожаров. Местность на всём пути от Кано довольно ровная, но при подлёте к Эль-Генейне меняется, становясь более пересечённой, а также появляются высокие и лысые горы. Мы спускаемся в Эль-Генейну во второй половине дня и проходим под палящим солнцем небольшое расстояние до закрытой веранды, где нам по традиции дают кока-колу и бутерброды. Сейчас с нами много молодых солдат, и при виде колы те радостно улюлюкают.
Один из мужчин в аэропорту спешит выступить для меня (по-прежнему единственной женщины в группе) гостеприимным хозяином и даже приносит мокрую тряпку, которую заботливо повязывает мне на лоб, говоря: "Вы должны быть осторожны. Вы теперь в Судане".
Мы разговариваем, и выясняется, что он родом из Филадельфии, тоже являющейся на протяжении многих лет моим домом. Он спешит поведать мне всё о своём тамошнем жилье, своей семье и вообще о любимом городе, продолжая повторять: "на Каштановой улице … на Ореховой улице … на стадионе Франклина … у Ванамейкера67", – очевидно, вне себя от радости пообщаться с кем-то, кто знает эти места так же хорошо, как он сам. Он определённо очень сильно тоскует по дому и радостно хихикает каждый раз, когда я упоминаю очередное название чего-либо в Филадельфии. И ему явно очень жаль, что мне нужно уходить, когда приходит время возвращаться с остальными на "Щебетунью".
Одни солдатики принимаются читать карманные издания детективных рассказов, другие, растянувшись на полу, мгновенно засыпают. Менее удачливые, для которых на полу не нашлось места, маются на невыносимых сиденьях, уперев локти в колени и уткнувшись лицом в ладони – пытаясь таким образом уснуть. Я тоже сижу в одном из этих "ковшей" меж двух бойцов и время от времени ловлю себя на том, что клюю носом и кренюсь то вправо, то влево, когда на несколько мгновений мной овладевает дремота. В конце концов я погружаюсь в глубокий сон и, проснувшись через какое-то время, обнаруживаю себя лежащей на коленях того мо́лодца, что справа. Должно быть, он совсем не шевелился, боясь меня потревожить, а когда я, смутившись, благодарю его за доброту, он отвечает: "Всё окей, сестрёнка. Хоть вы и одна из нас, но всё же вы женщина, о которой не грех и позаботиться". Я прихожу в абсолютный восторг от этой фразы – "одна из нас", тут же разместив её в ряду наилучших комплиментов в моей жизни.
Теперь мы движемся по так называемому "лётному коридору" (недалеко от Эль-Фашира в англо-египетском Судане) – самому безопасному здесь маршруту шириной около десяти миль68. Вдали виднеется гряда гор с двумя высокими вершинами, затем река и кусочек зелени, похожий на оазис в пустыне. Как же тяжело лететь сегодня из-за висящей в воздухе песчаной пыли и безжалостно палящего солнца.
Джонни-Пончики69 начинают петь, сначала тихо, потом всё громче и громче, пока уже не орут во весь голос. Постепенно я дружусь со всеми ними, потихоньку передвигаясь по салону и пересаживаясь с одного сиденья на другое. Вскоре я обнаруживаю, что больше всего их волнуют разговоры о доме, и благодарю свою судьбу за многочисленные поездки по всей Америке в рамках своих лекционных туров в течение последних двенадцати лет. Ведь проводя те лекции, я познала Соединённые Штаты намного лучше, чем большинство американцев, которые там родились и выросли. В девяти случаях из десяти я, к своему большому удовольствию, обнаруживаю, что знаю города, о которых говорят ребята, – их собственные родные города. Их радует, когда я говорю, что бывала там, и они тут же начинают рассказывать мне о своих семьях и отчем доме.
"Вы помните нашу главную улицу? – в волнении спрашивают они. – Так вот," (здесь описания, конечно же, разнятся) "наш дом третий справа, коль вы свернули у кинотеатра, – ну, вы знаете, тот белый каркасный, что позади лужайки".
И с нетерпением ждут моего ответа, что, разумеется, я его помню, эдакую типичную американскую постройку, что похожи, как две капли воды, куда ни приедешь. А после вопят, и хохочут, и хлопают себя по коленям и меня по плечам, крича своим товарищам: "Представляешь? Она знает, где я живу! Она видела мой дом … а может, и моих родных!" Затем переходят к делу, доставая свои бумажники, чтобы показать мне фотографии семей, оставшихся на родине.
Благодаря этому, а также некоторой заботе о тех немногих, кого укачивает, часы проходят быстрее, и впервые с тех пор, как я уехала, я занята делом и оттого счастлива. Я даже забываю смотреть в иллюминатор на африканские пейзажи, настолько я поглощена этим парящим высоко в небе маленьким кусочком Америки, несомненной частью которого я являюсь в новообретённой роли "матери" для всех этих мальчиков. Кроме тех путешествий по стране, мне пригождаются и полученные когда-то медицинские знания, к тому же я запоминаю имена и адреса, честно обещая парням связаться с их родными, когда вернусь назад.
У всех у них один и тот же встревоженный взгляд – взгляд пареньков из мирной жизни, впервые покинувших свой дом. Несмотря на их весёлость и желание казаться опытными, бывалыми вояками, в их глазах тем не менее безошибочно угадываются вопросы, присущие любому "маленькому мальчику": "Куда меня несёт? Что со мной будет? Вернусь ли я домой?" И моё сердце болит за них, словно это мои собственные дети.