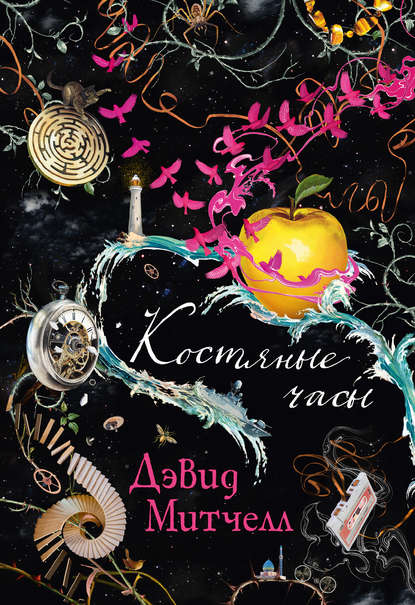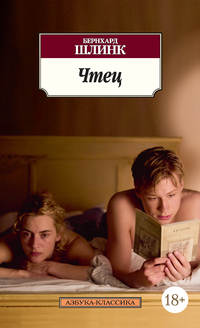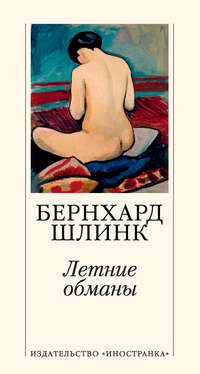Полная версия
Внучка
Я как-нибудь продержалась бы на плаву, ничего не ожидая и потому не боясь разочарований, даже от своей дочери. С объединением ничего бы не изменилось. Да и что могло измениться? Я по-прежнему жила бы вне и против мира, упорно топая вперед и чертыхаясь себе под нос. Обрадовалась бы я тому, что алкоголь стал лучше? Или уже не заметила бы этого?
Я рада, что не осталась. Рада, что уехала. Я не хочу ни одной из этих непрожитых жизней. Но я не могу от них избавиться. Мои непрожитые, как и прожитые жизни всегда со мной. Они печальны, и я несу эту печаль жизни с чувством вины, печаль жизни в нише, печаль жизни вне и против мира.
Источник моей печали – ГДР. Восторг перед новой эрой, надежда на новую жизнь и нового человека, былая готовность к действию и к самопожертвованию… Пусть от начала ничего не осталось, но оно было. Пусть ничего не осталось от попыток развивать страну, несмотря на систему и вопреки системе, от уверенности, что социализм и свобода неотделимы друг от друга и что будущее за ними, – это было, и это была реальность, добрая реальность как антипод злой реальности реального социализма. Ее исчезновение наполняет меня печалью, хотя я и знаю, что добрая реальность могла существовать лишь как антипод злой реальности и без нее должна была исчезнуть.
Когда живешь в стране со злым режимом, то надеешься на перемены, и однажды эти перемены наступают. Злой режим сменяется добрым. Если ты был против этого, теперь можно быть за. Если тебе пришлось отправиться в изгнание, теперь ты можешь вернуться. Эта страна будет и для тех, кто уехал, и для тех, кто остался, это будет страна, о которой они мечтали. ГДР никогда не будет страной, о которой мечтали. Ее больше нет. Те, что остались, не могут больше радоваться за нее, те, что уехали, не могут больше в нее вернуться. Их изгнание не будет иметь конца. Отсюда эта пустота. И страна, и мечта утрачены навсегда.
Меня печалит не невосполнимость утраты. Меня печалит пустота. Пустота, боль, пустота, боль…
* * *Январь. Субботняя прогулка к плотине Квитцдорф. С утра была мягкая погода, к обеду похолодало, и мы развели костер. Когда появился Лео, мы подумали, что сейчас будет скандал. Но он рассмеялся. И посоветовал в следующий раз получить разрешение на разведение огня, а когда будем уходить, как следует залить костер и все убрать. Сказал, что пришел вовсе не для того, чтобы контролировать нас; просто хотел узнать, как мы поживаем. Мы его первая студенческая бригада. Он всего лишь год как секретарь районного комитета. Потом он подсел к костру. Ел и пил и пел с нами.
Интересно, он и в самом деле намеренно подошел ко мне, как потом мне сказал? Или это все же была случайность? И он просто решил пройтись, размять ноги, когда я села у воды, в стороне от компании? Сначала он остановился рядом, потом присел на корточки, предложил мне сигарету и, щелкнув зажигалкой, дал мне прикурить. Я хорошо запомнила, как он встряхнул пачку, чтобы выскочили две сигареты; одну взяла я, вторую он вытащил губами.
У костра мы говорили о собаках, и он продолжил эту тему.
– У моего брата была собака, помесь овчарки с фокстерьером, жутко некрасивый, но милейший и преданнейший пес. Настоящий товарищ. А товарищ – это ведь значит, что у него такие же права, как у тебя, верно? И мы иногда шли в лесу налево, а не направо, потому что Като хотел налево, и покорно смотрели, как он плавает в вонючем болоте, зная, что потом придется его мыть, а это, прямо скажем, не самое наше любимое занятие. И все же мы распоряжались его жизнью. Когда ему хотелось гулять, а у нас не было желания тащиться на улицу, ему приходилось сидеть дома. Когда ему нужно было изучить все «записки» на деревьях и столбах, а нам нужно было торопиться, мы тащили его за собой на поводке. Мы решали, что ему есть. А потом мой брат решил, что его нужно усыпить. Я бы не смог иметь собаку. Иметь товарища и распоряжаться его жизнью…
– А разве секретарь районного комитета не похож в этом плане на собачника? Ведь его подчиненные и граждане – тоже в какой-то мере товарищи, а он распоряжается их жизнью.
Он рассмеялся, и мне понравился его смех. Идущий не из горла, а из живота. Он сел рядом со мной на землю.
– Я надеюсь, что я их увлекаю. Я говорю с ними. Я их убеждаю.
– А если их не удается убедить?
– Тогда их жизнью распоряжаюсь не я, а партия.
– А подчиненные и граждане – собаки…
– Когда я тороплюсь и тащу собаку на поводке, я думаю о себе. Партия думает не о себе. Она думает о нас.
Он говорил это каким-то особенным, серьезным и в то же время приветливым тоном, не вызывающим сомнений в его искренности. Мне было немного холодно. Я зябко поежилась, и он положил мне руку на плечо, как бы желая согреть. Ненавязчиво, ненахально. К тому же он сразу сказал:
– Идемте к огню.
Но я продолжала сидеть. И даже прислонилась к нему. Именно так мне хотелось, чтобы меня любили – как равноправного товарища.
Тогда я в него и влюбилась.
* * *То, что от себя никуда не скроешься, что приходится всегда и везде носить с собой свое «я», я знала. Но я не знала, что приходится всегда и везде носить с собой других.
Бабушка. Как она сидела в нашей гостиной, так она сидит и в моей голове. В кресле, с открытыми глазами и сложенными на коленях руками; ноги и живот укрыты пледом; ни книги, ни радио, ни телевизор ей были не нужны; и всегда во всеоружии каких-нибудь злых замечаний или комментариев.
Мать. Зажатая, запуганная, воспитывающая своих трех дочерей в той же строгости, в какой воспитывал ее отец, – суровые увещевания, угрозы, упреки; любая мелочь – прекрасный повод для гневной проповеди.
Гизела. Которая всегда все делала правильно, выбрала правильную профессию, правильного мужа, родила правильных детей, мальчика и девочку. Которая после развода потеряла почву под ногами и которая неустанно заклинала меня никому и ничему не верить.
Хельга. Отгородившаяся от всех – от бабушки, от матери, от Гизелы и от меня – и на примере своей собственной жизни показавшая мне, что, если хочешь сохранить себя как личность, нужно наглухо закрыться.
Они не остались где-то позади, как наша общая квартира и фото отца на комоде. Они уехали вместе со мной и продолжают меня мучить – бабушкино злопыхательство, ругань матери, ожесточенность Гизелы, пример Хельги. Они со мной, хотя бабушка умерла вскоре после моего бегства, и матери тоже давно уже нет в живых. Если бы я сама ожесточилась, это были бы ростки ожесточения Гизелы. Но я не ожесточилась. Я впала в глубокое уныние. Пример Хельги не пошел мне на пользу: я слишком усердно ему следовала.
Как сбросить с себя это бремя чужих жизней? Решительно жить своей собственной жизнью. Может, я недостаточно решительно жила своей собственной жизнью?
Потому что и бабушка, и мать, и ГДР, и ССНМ учили меня угождать другим? Потому что я не научилась угождать самой себе, искать свое счастье? Но я освободилась от того, чему меня учили. Я начала искать свое счастье. За счет дочери, за счет Каспара. Я предала их и бросила на произвол судьбы, предоставила Каспару одному тащить наше общее ярмо – магазин, занялась тем, что мне было по душе, поехала в Индию, потом пошла на курсы ювелиров, потом поваров и в конце концов начала писать. Когда пишешь, совсем не думаешь о том, как бы угодить другим. Думаешь только о себе. Нельзя писать для других – для читателей, или критиков, или издателей, для матери или бабушки. Пишешь для себя. Поэтому у меня ничего не получается с романом? Потому что другие не отстают от меня и продолжают меня мучить? Потому что я все же не смогла освободиться от того, чему меня научили? Потому что я до сих пор так и не научилась этому «для себя»?
Поэтому я и должна писать роман. Потому что должна научиться этому «для себя». И еще я должна бросить пить. Когда я пью, у меня такое чувство, как будто я пью для себя, как будто я уже – у себя. Как будто завтра или прямо сейчас я сяду за стол – и роман сам хлынет из меня, а может, этого вообще не понадобится, потому что я уже – у себя.
* * *Интересно, нашла бы я кого-нибудь, кто помог бы мне избавиться от ребенка? Или я сама смогла бы это сделать? Пока такая возможность существовала, мне это не приходило в голову.
Вернее, приходило, но Лео не хотел об этом и слышать. Ему нужна она, говорил он, нужен ребенок; нужно только подождать. Они с женой давно уже чужие люди. Оба готовы к разводу. Но из-за его высокого положения развод должен быть безупречным, без копания в грязном белье, без риска, что его обвинят в непростительно легкомысленном отношении к браку. Если он сейчас бросит жену и сойдется со мной, это будет в глазах партии и судьи поступком, противоречащим моральным принципам строителя социализма. Он взял мое лицо в ладони, поцеловал меня и улыбнулся.
– Они не понимают, насколько это для нас серьезно. Я и сам не знал, что такая любовь вообще существует.
Что лучше – слабый Лео, который не способен постоять за свою любовь, или фальшивый Лео, который затеял со мной некую игру? Когда он сказал мне, что не может развестись с женой, – сейчас, когда она больна раком груди и справедливо упрекнула бы его, что он бросает ее в тяжелую минуту, он, как мне показалось, был в таком отчаянии, что я принялась утешать его. Он приехал в Берлин на какое-то заседание, мы встретились в кафе-мороженом, а потом сидели на скамейке в парке Монбижу, и он наконец заговорил об этом. Поскольку в кафе и по пути в парк он был в хорошем настроении и только на скамейке вдруг помрачнел, я отнеслась к его сообщению философски. Я подумала: либо его жене сделают операцию, либо она умрет от рака. Нам просто придется набраться терпения и подождать. Это, конечно, не повод для веселья, но и не трагедия.
Уже через неделю он снова приехал в Берлин. Просто чтобы увидеть меня, и я обрадовалась этому и выпросила у Ингрид ключ от ее квартиры до вечера. Я встретила его на Восточном вокзале, мы поехали на Александерплац, прогулялись до Красной ратуши и пообедали в ресторанчике, расположенном в полуподвальном этаже. Я не спрашивала о том, что нас ждет, а он был таким веселым, что я подумала: он явно приехал с хорошими новостями и сам рано или поздно все расскажет. Мы пошли в квартиру Ингрид, и только в постели, когда он сказал, что мне не следует курить, ведь я жду ребенка, я наконец спросила, как нам быть дальше.
– Ты можешь ни о чем не беспокоиться. Я сам все организую.
– Что организуешь?
– Аборт делать уже поздно, ты не найдешь врача, который бы взялся за это на такой поздней стадии, и домашние средства тоже уже не помогут. Ты будешь рожать. В крайнем случае я возьму ребенка.
– Ты?
Я ничего не понимала. Я не понимала смысл сказанного, не понимала его вдруг изменившийся тон, его странную позу. Он сидел рядом на кровати, как совершенно чужой человек, и говорил со мной, как совершенно чужой.
– Даже не знаю, как тебе это сказать, Биргит… То, о чем мы с тобой мечтали, – утопия. Партия не поймет и не простит этого, а Ирма… Мы с ней отдалились друг от друга, но она всегда была хорошей женой и была бы счастлива иметь детей и испытать радость материнства, и я не могу причинить ей такую боль – быть счастливым с тобой, построить полноценную семью. Это все равно что отнять у нее ребенка, о котором она так долго мечтала.
– Ты говоришь о моем ребенке?
Я вдруг почувствовала, что после его слов рухнуло, развалилось на куски что-то, во что я верила и что радостно предвкушала. Но я еще не понимала, что именно рухнуло, как рухнуло и что лежит под обломками. Он говорит о моем ребенке? Кто и у кого его отнимает? Что происходит с ним и с его женой? Что ему нужно от меня? Хочет ли он продолжения наших отношений, или это наша последняя встреча?
– Я позабочусь о тебе. Ты уже не можешь избавиться от ребенка. Ты должна рожать. Но тебе нужно закончить учебу, начать работать, сделать хорошую карьеру, и ребенок тебе сейчас совсем ни к чему. Мы с Ирмой возьмем его. Мы будем ему хорошими родителями. Я говорил с Ирмой. Она согласна.
– Ты хочешь отдать моего ребенка своей жене?
– Я думаю, я сумею уговорить Ирму, чтобы ты изредка могла его навещать. Сейчас мне трудно заводить этот разговор, ты должна ее понять: ее переполняет обида, ревность. Но когда появится ребенок, все будет иначе.
Я покачала головой. Потом меня охватила нервная дрожь, я дрожала всем телом – от возмущения, от отвращения, от омерзения. Меня тошнило от Лео, от его лысины, от его интриг. Меня тошнило от его предложения, и от его жены, и от мысли о том, что мой ребенок мог бы жить у этой парочки. Меня тошнило от себя самой. С этим человеком я хотела связать свою судьбу. Этого человека я любила.
У меня даже не хватило силы выдворить его из квартиры. Я молча оделась под его причитания – в чем дело, что случилось, напрасно я так себя веду, чтó он такого сказал, ведь в его предложении нет ничего оскорбительного – и ушла. Я оделась быстрее его и, промчавшись по лестнице вниз, спряталась во дворе. Я слышала, как он меня звал, что-то кричал мне вслед, спеша за мной, потом щелкнул замок на двери подъезда, и когда я через какое-то время вышла на улицу, его уже не было.
Он не мог мне позвонить, потому что у нас не было телефона. Он написал мне письмо, мол, я неправильно его поняла, он ведь просто хотел мне помочь, нам нужно встретиться и объясниться, он любит меня, нам не суждено жить нашей любовью так, как мы мечтали, но мы можем жить ею, как прежде, он попытается сделать мне квартиру. Я не ответила ни на одно из его писем, а когда он подкараулил меня у выхода из университета, я молча, гордясь своей выдержкой, прошла мимо с таким отсутствующим и неприступным видом, что через несколько шагов, после нескольких повисших в воздухе реплик он отстал.
Он был прав: делать аборт было уже поздно. Все врачи, к которым меня посылали подруги, отказались. Прыганье со стола и чай из можжевельника, болотного багульника и якобеи не помогли. Ковырять себя вязальным спицами я не смогла. О поправках в закон, облегчающих аборты, еще только говорили, их приняли лишь через несколько лет.
Какое-то время я была близка к отчаянию. Тем более что тошнота и рвота мучили меня сильнее, чем я это представляла себе по рассказам подруг, имевших детей. Я даже задумалась, не принять ли его мерзкое предложение: Лео организовал бы квалифицированную медицинскую помощь, безопасные роды и все юридические процедуры, связанные с передачей родительских прав. Но потом вдруг как-то неожиданно, за субботу-воскресенье, наступила весна. И когда я в понедельник ехала в университет – под голубым небом и молодой листвой лип на Фридрихштрассе, – все мои страхи и сомнения как ветром сдуло. Сияло солнце, вместо запаха угля, стоявшего над городом всю зиму, в воздухе разливался аромат свежего весеннего утра, и было так тепло, что я сняла куртку и повесила ее на сумку. Я справлюсь. Я со всем этим разберусь – с беременностью, с родами, с учебой, с работой. И даже если мне придется отдать ребенка в чужие руки, я сделаю все, чтобы он не достался Лео. И сообщу ему, что родила его, но отдала не ему.
* * *Часто ли влюбляются беременные женщины? Сначала меня мучили угрызения совести. Ведь мои чувства должны принадлежать ребенку, который растет во мне? Не обделяю ли я его?
Но как я чувствовала себя как женщина! Я всегда была довольна своим телом, насколько женщина вообще может быть довольна своим телом. Телом как чем-то принадлежащим мне. Теперь я была своим телом. Мои формы стали мягче, груди увеличились, волосы приобрели особый блеск, лицо светилось. Я с удовольствием смотрела на себя в зеркале и радовалась, когда мужчины смотрели на меня. А они смотрели на меня и не могли отвести глаз. Они вожделели меня. Я была воплощением жизни.
В мае моя беременность была незаметна. Она и потом еще долго оставалась незаметной. Не только потому, что я так одевалась, а еще и потому, что у меня был маленький живот. Я всегда занималась спортом, мышцы живота у меня были крепкими и эластичными. И ела я не больше, чем обычно. Определенную роль, возможно, сыграло и оттеснение беременности на периферию сознания. Когда живот все же стал заметен, начались каникулы. Я поехала к Пауле на Балтийское море и вернулась уже, когда все было позади.
Но об этом я пока писать не хочу. Я хочу писать о том, как я влюбилась. Я была беременна; после любви к Лео и отвращения к нему я чувствовала себя выжженной пустыней, я не могла себе представить, что мне еще когда-нибудь понравится мужчина и я смогу влюбиться. Я наслаждалась этим чувством – что мужчины вожделеют меня. Но это была холодная радость. Если бы я и подпустила к себе кого-нибудь, то только для того, чтобы сделать ему больно.
В мае, на Троицу, был Слет немецкой молодежи. Пропаганды – хоть отбавляй: шествия колонн строевым шагом, процессии со знаменами, показательные выступления гимнастов, танцы, митинги с воззваниями и торжественными обещаниями и приветствия делегаций. Но была и молодежная радиостанция ДТ 64 с бит-музыкой и – впервые в ГДР – «Битлз», и народ танцевал на улицах и площадях. Из Западного Берлина пришли сотни студентов, которым было очень интересно пообщаться с нами, как и нам с ними. Кто-то пришел, чтобы поговорить о политике, о Берлинской стене, об объединении, свободе передвижения и свободе выборов, и мы как члены ССНМ доказали свою идеологическую твердость. Западные гости хотели знать, как мы живем, что нас интересует, как мы общаемся, что делаем во время каникул, как относимся к политике и кем хотим стать. Они задавали нам вопросы, которые мы и сами себе задавали, и это быстро сближало нас. В то же время наши ответы волновали их больше, чем нас, и поэтому мы тоже были взволнованы. Мы знакомились и вместе бродили по городу, сидели на Бебельплац, и в парке Монбижу, и на берегу Шпрее, говорили, танцевали и были очарованы друг другом. Это было острое, пряное чувство – сознание того, что ты в своей синей рубашке ССНМ вызываешь восторженное удивление и вожделение западногерманских студентов.
Каспара я встретила на второй день утром. Хельмут, мой секретарь ССНМ, велел мне явиться на Бебельплац для участия в дискуссиях. Он не без основания предполагал, что члены КХДС[12] захотят вступить здесь, перед Университетом имени Гумбольдта, в полемику со студентами ГДР. Так что мне пришлось обосновывать необходимость «антифашистского оборонительного вала» для защиты от переманивания кадров, подрывной и диверсионной деятельности, шпионажа и саботажа со стороны Запада, разъяснять важность мирного сосуществования как предпосылки объединения Германии, говорить о свободе выборов в ГДР. Каспар стоял, слушал, а потом вдруг вмешался в разговор.
– Зачем вы вообще говорите друг с другом? – спросил он удивленно. – Вы ведь уже всё знаете – что вы скажете в следующую минуту и что вам ответят. А если кто-то окажется не таким красноречивым, как его собеседник… – Он посмотрел на меня. – Или собеседница… Что это изменит?
Все растерянно уставились на него. Но тут же продолжили дискуссию, словно он ничего не говорил. Каспар еще немного постоял, как бы не желая слишком демонстративно уходить, а потом пошел дальше. Я проводила его взглядом. Он был в джинсах и рубашке; рукава наброшенного на плечи пуловера были завязаны узлом на груди. Он шел выпрямившись, небрежной походкой. Мне понравилась его походка и то, как он смотрел на меня и что он отметил мое красноречие.
Потом я еще раз увидела его на Александерплац. У меня был талон на питание, который надо было предъявить у полевой кухни. Он не знал, что нужен талон, и встал в длинную очередь, а когда женщина с поварешкой объяснила ему, что без талона он ничего не получит, у него был такой разочарованный вид, что я не выдержала и попросила женщину дать ему порцию супа в виде исключения. Он поблагодарил ее, потом меня и пошел за мной с миской на площадь к Дому учителя, где сидело и ело уже много народу. Он стоял, как бы выбирая место, где устроиться, и я видела, что он медлит не потому, что ищет более интересных соседей, а потому что не хочет навязывать мне свое общество. Потом он все же сел рядом со мной, а когда подошли другие, он, потеснившись, придвинулся ко мне и по-свойски мне улыбнулся. Таков уж он был. Он никому не хотел навязывать свое общество, но, встретив ответное внимание, быстро находил с этим человеком общий язык и привязывался к нему.
– У вас просто перерыв или вы уже закончили работу?
– Вы имеете в виду дискуссию на Бебельплац?
– Да. Это ведь работа. И для КХДС, и для ССНМ. Полемика, которая ничего не меняет… Но вы молодец. Я с удовольствием вас слушал.
– Я не просто так говорила – я верю в то, что говорю.
– О, я совсем не хотел вас обидеть! – произнес он извиняющимся тоном, поставив миску на землю и подняв обе руки. – Разумеется, вы верите в то, что говорите. И другие тоже верят в то, что говорят. Но мне кажется, дискуссии ничего не дают, если не говорить о том, почему ты веришь в то, что говоришь. И на что при этом надеешься, чего боишься, кто ты есть с этим мнением и кем бы ты был без него… Вы понимаете, что я хочу сказать?
– Вы имеете в виду мечты людей?
– И их тоже. Не политические мечты, а личные.
Я молча работала ложкой, задумавшись о том, можно ли вообще отделить одно от другого, вспомнила о своей печальной истории с Лео. Каспар тоже снова принялся за свой суп.
– А у вас есть личные мечты? – спросила я наконец.
Он рассмеялся.
– Есть. Сидеть, например, вот как сейчас, и говорить не о социализме и капитализме, а просто беседовать и обедать в приятной компании.
– А на каком факультете вы учитесь? Кстати, обращение на «вы» для вас принципиально важно? У нас здесь все студенты друг с другом на «ты».
Для него это не было принципиально важно. Когда он представился, я подумала, может, он стесняется своего имени и потому предпочитает вежливую форму обращения. Но он тут же рассказал о трех волхвах, одного из которых звали Каспар, и о том, что он с детства привык и защищать свое имя, и гордиться им. Изучал он германистику и историю.
– Я люблю книги восемнадцатого и девятнадцатого веков, которые сегодня никто не читает, например, таких авторов, как Карл Филипп Мориц или Фридрих Теодор Фишер. Я немного не вписываюсь в нашу эпоху.
– Поэтому и мечтаешь так, как будто политики вообще не существует. Мы не можем просто беседовать и обедать в приятной компании, пока вы отказываетесь от мирного сосуществования.
Он улыбнулся, и я прочла в его глазах: «Но мы же беседуем и обедаем вместе».
– Мы, в сущности, одно целое. Мы говорим на одном языке, и если тебе не по душе Мориц и Фишер, которые, может быть, не настолько приятны для читателя, насколько интересны, то уж Фонтане, или Дёблин, или Франк тебе наверняка нравятся. Ты на каком факультете?
Я тоже хотела изучать германистику, но мне выпал экономический факультет, и после двух семестров марксизма-ленинизма я начала изучать социалистический учет и бухгалтерию народных предприятий. Я много читала современную литературу, но Каспар был прав: мне нравились и Франк, и Дёблин, и Фонтане.
– А как насчет поэзии? Ты любишь стихи?
Он посмотрел на меня, понял, что я люблю стихи, просиял и начал декламировать:
Синь-лазурь весенних волнВновь сквозь ветры лентой вьется,Дух знакомый, сладкий льетсяПо земле, предчувствий полн.И фиалки видят сон:Скоро сбросят снега крышу.– Чуешь дальний тихий арфы звон?О, Весна! Ты здесь!Тебя я слышу![13]Его не смущали удивленно-насмешливые взгляды окружающих, он был весь поглощен стихотворением – и мной. Декламируя, он не сводил с меня глаз, он не просто читал – он дарил мне это стихотворение, а вместе с ним – себя. Когда мы встали и пошли, он взял меня за руку, и я не отняла ее.
* * *С полудня следующего дня и до конца слета мы почти не расставались. Я больше не показывалась на глаза Хельмуту и не принимала участия в диспутах. Мы с Каспаром бродили по городу, слушали выступления музыкальных групп, смотрели театрализованные представления, танцевали. Увидев группу гэдээровских и западногерманских студентов, одни – в синих рубашках, другие – в джинсах, мы присоединялись к ним и за несколько дней завели множество интересных знакомств. Один вечер мы провели на квартире у Ингрид.
За этим вечером последовали другие. Чаще всего мы встречались у Ингрид, иногда ходили в театр или в кино, потом в пивную. Обычно нас было человек десять, иногда больше, иногда меньше. Среди них две парочки, остальные просто товарищи. Мы говорили обо всем на свете, от любви до политики, обсуждали книги, которые они приносили с собой из Западного Берлина, и наши книги, которые мы давали им. Мы читали вслух любимые стихи и слушали любимую музыку. Благодаря пластинкам, которые приносил Штефан, я познакомилась с джазом, пластинки Маттиаса открыли мне Бенна[14], которого у нас не печатали, а Вестфаль так читал Гейне, что у меня сердце колотилось как бешеное.
Прочитав «Немного Южного моря» Канта, «След камней» Нойтша и «Описание одного лета» Якобса, наши западные друзья спросили нас, встречали ли мы когда-нибудь таких коммунистов, какими они предстают в книгах – преданных партии и с нерушимой верой в груди, но при этом не узколобых, прямых и честных, строгих к другим и к себе и всегда готовых выручить в беде, скорых на суровую критику, но и щедрых на поддержку и помощь, не помешанных на карьере, не жаждущих чинов и постов, свободных от тщеславия? Мы долго думали. На предприятиях, где мы работали, нам такие не попадались; большинство рабочих, с которыми мы там имели дело, были толковыми и надежными тружениками, но они думали о чести рабочего и о заработной плате, а не о партии, попытки которой руководить ими вызывали у них добродушную или злую иронию. Наши учителя были либо узколобыми фанатиками, либо честными и здравомыслящими людьми, держащими по отношению к партии осторожную дистанцию. У некоторых из нас были отцы и матери, состоящие в СЕПГ. И хотя с политической точки зрения они уважали своих родителей, но все же не могли не видеть слишком явных противоречий между преданностью партии и верностью профессии, с одной стороны, и дружескими и родственными связями – с другой, чтобы считать их идеальными коммунистами. Нет, мы не могли назвать примеры, которых от нас ждали.