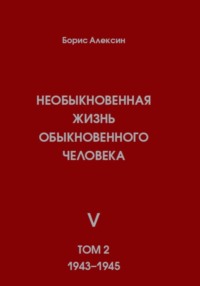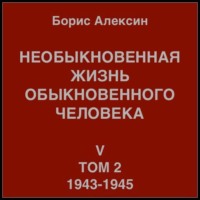полная версия
полная версияНеобыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 2, том 1
– Хорошо, Марья Павловна, я сейчас вместе с Федей работать буду, мы нескоро управимся. А я хочу вас попросить, – смущаясь, добавил он, – купите, пожалуйста, бутылку водки, деньги вон на окне лежат. Это Игнатий Петрович просил, говорил, что лесника угостить надо.
– Нет, Борис, давайте уговоримся, уж если вы себя по отчеству называть не велите, так и меня не надо, – она на секунду задумалась, а затем, легко улыбнувшись, сказала, – зовите меня тёткой Марьей, ладно?
Борис мысленно усмехнулся: «Ну вот и ещё одна родственница появилась», – но вслух ничего не сказал, а только согласно кивнул головой.
– Вот ведь, хороший человек Игнатий Петрович, а ни одного дела без выпивки сделать не может! Моего Николая тоже на это сманивает. Ну да у меня на этот счёт не очень-то! Ладно уж, куплю этой горилки, пущай пьют. Всё равно Колю я из этой компании вытащу. Да, а сами то вы пьёте?
Борис даже испугался.
– Нет, что вы! Я её и не пробовал, не хочу. Да мне и нельзя, я ведь комсомолец!
– Комсомолец?! И в Бога не верите?
– Да, и в Бога не верю теперь.
– А раньше, значит, верили?
– Глупый был, вот и верил!
– Так что же, по-вашему, все верующие глупые? А я вот тоже верю, что же, и я глупая? – уже обиженно спросила Марья.
Борис немного растерялся. Он был ещё слишком молодой атеист и, хотя уже и состоял в обществе «воинствующих безбожников», однако вести дискуссии на религиозные темы ему не приходилось.
– Я не говорю, что все глупые, я про себя сказал. Ну а Бога всё-таки нет! И попы про него много врут, а сами делают совсем не так, как в Законе Божьем написано, уж это-то я знаю!
– Ну попы – это не Бог. Наш вон батюшка тоже и пьянствует, и дерётся, и как матушку похоронил, ни одну молодую бабу в селе в покое не оставляет. А как иконы-то вам, не мешают? – показала она на висящие в углу несколько довольно хороших икон. Борис улыбнулся.
– Да нет, если я им не мешаю, так они мне и подавно. А у вас в селе есть комсомольцы?
– Да, есть, конечно. Вам о них новый дружок расскажет. Только он, кажется, водочку-то не отталкивает. Когда его папаша с вашим начальником договаривались, здесь же у нас выпивали, он тоже за столом сидел, свою рюмку не отодвигал. Ну да это не моё дело, я это так, к слову. Ну, пойду, а то заболталась. Так смотрите, не уходите! – крикнула она уже из двери, ведущей в сени.
Почти сейчас же после ухода Марьи вернулся Фёдор Сердеев. Он нёс ещё почти совсем новую, довольно большую этажерку. Её поставили в свободном углу комнаты и сложили на неё в строгом порядке все бумаги, разложенные Борисом в разных местах. На одной из полок уместились и личные книги, и тетради Бориса.
После этого сели писать договоры, а их, по образцу, найденному Борисом на столе, нужно было написать штук 10, ведь каждому артельщику нужно дать копию, копию послать в контору, и один экземпляр оставить себе. Первый же экземпляр, который написал Фёдор, показал, что это его дело: у него оказался такой красивый и разборчивый почерк, что Борису с ним тягаться было не под силу. Решили так: Борис будет подготавливать расчёты, чтобы вечером можно было с артельщиками (как говорил Дмитриев, их придётся собрать сегодня же) договариваться о конкретном количестве стоек, которые каждый из них должен будет заготовить и вывести.
По договору, участок должен был поставить до 1 января 1925 года не менее 75 000 кубошаку стоек. Когда Борис перевёл это в количество стоек, взяв для примера средние их размеры по толщине и по длине (они все должны быть одинаковыми – 6 шаку, около двух метров), то у него получилось, что к этому времени нужно будет иметь на складе не менее 100 000 штук стоек. Также понадобится около ста вагонов, лучше платформ. Следует, начиная с 1 января, получать не менее чем 5–6 вагонов ежедневно (большее количество не мог вместить тупик станции Новонежино). Да и грузчики-китайцы, о найме которых Дмитриев договорился с одним китайским подрядчиком ещё в Шкотове, и которые должны были к середине декабря приехать в Новонежино, с большим количеством не справились бы.
Предполагалось, что в будущем 1925 году, в январе месяце будет заготовлено столько же, как и в феврале, и в марте. Таким образом, на весну, когда вывозка будет затруднена из-за паводка и распутицы, останется совсем немного, и с полученным заданием участок справится.
Для выполнения намеченного необходимо было, чтобы работало не менее 30 подвод ежедневно, чтобы каждая из них привозила не менее 35–40 стоек, и чтобы каждая успевала за день сделать не менее трёх ездок.
Расчёты, как и переписка договоров, заняли порядочное время, и они только что успели закончить свою работу, как явилась Марья. Она быстро разогрела обед, и они втроём отлично пообедали. Затем Борис и Фёдор отправились на станцию, чтобы осмотреть участок, который отводился им под склад. Отведение участка начальник станции поручил одному из их своих помощников – Лукъяненко, с которым, кстати сказать, и Борис, и Фёдор имели потом много столкновений и неприятностей. Объяснялись они тем, что у того был брат, однолеток Феди, которого он пытался пристроить на работу в этом же участке Дальлеса, но ничего не вышло. Сперва ему дорогу перешёл сам начальник стации, подсунув своего сынка, а затем появился ещё новый, никому не известный Алёшкин. А работа в Дальлесе была выгодной, не очень трудной и, самое главное, жалование там даже у помощника десятника было значительно выше, чем у кого-либо из служащих села или станции.
По дороге на станцию Федька рассказал своему новому приятелю о том, что в Новонежине есть комсомольская ячейка, что секретарем в ней – заведующий избой-читальней, недавно вернувшийся из Красной армии, Хужий Колька, что в ячейке 8 человек, из них две учительницы, с которыми он, Фёдор, хорошо знаком, даже дружит, и может познакомить с ними и Бориса. Учительниц этих звать одну – Харитина Сачёк, а другую – Полина Медведь.
Услышав это, Борис громко расхохотался. Фёдор подумал, что приятель не верит в его дружбу с учительницами, обиделся и рассерженно заявил:
– Не хочешь знакомиться, ну и не надо! А чего хохотать-то? Одна из них со мной даже в очень большой дружбе, так что ты это имей ввиду и не вздумай за ней ухлёстывать, понял?
Сквозь смех Борис спросил:
– Так это которая же такая особенная?
– Поля Медведь, – уже совсем сердито ответил Фёдор.
Борис вспомнил, что эту Полю он уже не раз целовал после проводов из клуба и готов был рассмеяться ещё громче, но вовремя одумался. Если, как мы знаем, он после своих неудачных романов с Зоей, Наташей и Шуркой какое-то время относился ко всем девушкам и женщинам чуть ли не с нескрываемым презрением, то после знакомства с Асей и в особенности после того, как он увидел Катю Пашкевич, у него возникло какое-то новое отношение к некоторым из них. Кажется, он начал понимать, что для каждого из парней может найтись действительно такая девушка, о которой нельзя никогда сказать и даже подумать плохо. Он сдержался и, успокаивая покрасневшего и отвернувшегося Фёдора, сказал:
– Да не сердись ты! Я рассмеялся только потому, что обеих этих учительниц я уже давно знаю: полтора года тому назад они меня в комсомол принимали, а ты меня с ними знакомить собираешься!
– Правда? – радостно воскликнул Федя.
– Ну конечно! Хочешь, сегодня же вечером пойдём к ним, и они тебе это сами подтвердят?
– Хорошо, обязательно пойдём!
Тем временем ребята подошли к станции. Взглянув на неё, Алёшкин удивился: здание станции, так же, как и окружавшие её постройки, как две капли воды походили на здания шкотовской станции. Было совершенно очевидно, что все они строились по абсолютно одинаковым образцам. Разница была только в том, что в Новонежине начальник станции жил в помещении самой станции, а в отдельном домике, стоявшем в некотором отдалении от перрона, жил его помощник Лукъяненко, о котором мы уже упоминали. В Шкотове в отдельном домике жил начальник станции Лозицкий, да водокачка стояла на противоположной от станции стороне, а здесь они находились на одной.
Здание вокзала, если так можно было назвать небольшое станционное здание станции Новонежино, состояло из маленькой комнаты-ожидальни с двумя скамейками у стен и окошечком кассы, комнаты дежурного по станции и двух квартир.
Когда Борис и Фёдор вошли в сени дома, то услышали довольно хорошую игру на балалайке, которой аккомпанировала гитара. Кто-то, видимо, любивший музыку, с выражением играл довольно грустную, но приятную, незнакомую Боре песенку.
Заметив, что приятель прислушивается к доносящейся музыке, Фёдор сказал:
– Это сёстры. Вообще-то у нас вся семья музыкальная. Даже папа – и тот с нами играет, он любит скрипку. А я – так на всём, что у нас в доме есть, бренчу и очень люблю это занятие. А ты умеешь на чём-нибудь играть?
– Я немного играю на рояле, да недавно на балалайке «Подгорную» и вальс выучил, – ответил Борис.
– Вот здорово! Мы, значит, целый оркестр устроим, будем в школе на вечерах выступать! – воскликнул Фёдор.
Они вошли в комнату.
Посредине большой квадратной комнаты стоял овальный стол, накрытый какой-то толстой цветастой скатертью, у стен стояли мягкие стулья с высокими спинками и три кресла, на одной из стен висели огромные часы, на другой – написанная маслом картина, изображавшая морское сражение. В углу находился какой-то ящик, напоминавший по виду пианино, а другой угол занимал большой старинный угловой диван. На нём сидели две девочки, обе со светлыми, как лён, волосами и большими голубыми глазами. Старшей было лет 14, она держала в руках гитару с большим шёлковым красным бантом на грифе. У этой девочки, вернее, уже девушки, на коленях лежала перекинутая через плечо толстая коса с пушистым вьющимся концом. У второй, ещё совсем девочки лет 11, в руках была старая, но, очевидно, очень хорошая балалайка. Обе они взглянули на вошедших, и Боре сразу же бросилась в глаза заметная разница в характере обеих. Если в глазах старшей виднелась какая-то задумчивость и как бы рассеянность, по которой можно было судить, что характер у неё ласковый, меланхоличный, то у младшей мелькали озорные огоньки, и губы, кажется, вот-вот готовы были расплыться в приветливую лукавую улыбку.
Когда молодые люди вошли, девочки только что закончили играть свою песенку и приготовились начинать новую. Приход ребят этому помешал. Фёдор весело воскликнул:
– Ну, чего замолчали? Вот мы сейчас вчетвером сыграем. Вон у нас фисгармония стоит, ведь это тот же рояль. С тех пор, как мамы не стало, так она и молчит, никто у нас играть на ней не выучился. Я помаленьку одним пальцем немножко тюкаю, но это не то. Сейчас мы тебя проверим! Давайте, девчата, все вместе что-нибудь сыграем? Я мандолину возьму, – и он снял висевшую около одного из окон мандолину, – ты, Лида, на гитаре, ты, – он показал на младшую, – на балалайке, а Борис нам аккомпанировать на фисгармонии будет. Иди, Борис, садись! – и, пододвигая стул к стоявшему в углу комнаты ящику, он тянул туда же и Бориса.
– Ну и ветрогон же ты, Федька, совсем никакого порядку не знаешь! Ты хоть бы сперва познакомил нас со своим новым товарищем, а то не успел войти, как сразу за музыку!
Фёдор засмеялся:
– Конечно, наша Лида, как всегда, в роли наставницы. Ну да уж ладно, знакомьтесь! Вот эта, – и Фёдор, взяв старшую девушку, с церемонным поклоном подвёл её к Борису, – моя старшая сестра Лида. Она у нас теперь за хозяйку дома, и потому главная хранительница всяких приличий и порядка в доме. Между прочим, на следующем собрании мы её в комсомол принимать собираемся. Да, Борис, ты не вздумай за ней ухаживать, а то Васька Лукъяненко, есть тут у нас такой, ноги переломает.
При последних словах брата Лида густо покраснела, гневно выдернула свою руку из Фединой и сердито крикнула:
– Ну, Федька, и трепач ты невероятный! Нужен мне твой Васька, как прошлогодний снег! Ты, наверно, обо всех по себе судишь: как ты за своей Медведихой по всему селу бегаешь, так думаешь, что и другие…
При этом замечании сестры пришла очередь смутиться Феде. Он отвернулся, чтобы скрыть покрасневшее лицо и что-то невнятно пробормотал, затем быстро схватил за руку прыгавшую вокруг них смеющуюся младшую девчушку, для которой такие ссоры между старшими, видно, были не в диковинку и порядком забавляли её. Подтолкнув эту живую, весёлую толстушку к Борису, Фёдор сказал:
– А это наша младшая, Клава. Она пока, кажется, только и умеет, что хохотать, да вот разве ещё на балалайке тренькать. А это мой новый начальник – Борис Алёшкин. Он десятник Дальлеса, а я его помощник.
Девочки по очереди протянули Борису руку, а он, стараясь рассеять охватившую всех неловкость, попросил:
– Федя, покажи-ка мне фисгармонию. Я ведь не только не играл на этом инструменте, но даже и не видел его никогда, так что на меня в оркестре ты рановато рассчитывать начал.
Когда они подошли к инструменту, и Фёдор поднял его крышку, Борис увидел клавиатуру, такую же, как на рояле, сверху неё было несколько штук каких-то круглых ручек, а внизу две доски, там, где у рояля находились педали. Борис попробовал нажать на клавишу, но никакого звука не получилось.
Федя пододвинул второй стул и начал ногами нажимать на доски, послышалось какое-то шипение, и когда на этот раз он нажал на клавишу, раздался приятный, тягучий звук, напоминавший звук гармонии, но такой же чистый, как у рояля.
Через несколько минут Борис овладел нехитрой техникой качания воздушного насоса, а затем довольно удачно исполнил одну из своих любимых пьес – «Неаполитанскую песенку» Чайковского. Хотя он не прикасался к клавишам уже несколько лет, сыграл он довольно бойко и без грубых ошибок.
– Ну вот, – радостно воскликнул Федя, – а ты говорил, не получится! Давайте-ка теперь вместе что-нибудь? Вот, давайте сыграем вальс «Над волнами», вы обе его знаете, я тоже, а Борису нужно только несколько аккордов для аккомпанемента выучить, сейчас мы их подберём.
И он в несколько минут подобрал необходимые аккорды для обеих рук, а Борису потребовалось столько же времени, чтобы запомнить их чередование.
Вскоре раздались приятные звуки мелодичного вальса, достаточно согласно исполненного вновь сформированным оркестром.
При повторении вальса, потребованном дирижёром – должность, которую все беспрекословно предоставили Феде, открылась дверь, соединявшая квартиру Сердеевых с комнатой дежурного по станции, и в ней показался низенький, очень полный человек, одетый в поношенную железнодорожную куртку, чёрные брюки, заправленные в старые валенки. Ему можно было дать лет 55. Он был совершенно лыс, и только по самым краям головы серебрилась реденькая щёточка коротких седых волос. Такая же щетина покрывала его подбородок и щёки – брился он нечасто. Глазки на его круглом румяном лице казались такими маленькими, что просто удивительно было, что он ещё что-то может видеть. На полных ярко-красных губах его довольно большого рта ласково играла добродушная улыбка, как-то по-особому оживлявшая лицо.
Это был Макар Макарович Сердеев. Только бросив на него взгляд, Борис сразу понял, на кого так похожа Клава; остальные дети, видимо, более походили на мать.
Увидев весёлую капеллу, а надо сказать, что музыкальные упражнения новоявленного оркестра сопровождались шутками и смехом, вошедший рассмеялся:
– Вот это здорово, – воскликнул он, – настоящий оркестр! Ну а как Коля с Митей приедут, да ещё и Оля появится, так у нас тут и оркестр, и своя певица будет, мы настоящие концерты задавать будем! Придётся и мне со своей скрипкой к вам присоединяться.
Но Фёдор, вероятно, вспомнивший что-то, вдруг внезапно прервал игру, конечно, замолчали и остальные.
– Папа, а ведь мы к тебе по делу шли, да вот девчонки нас с толку сбили музыкой своей! Познакомься, пожалуйста, это мой новый начальник, Борис Яковлевич Алёшкин, здесь у нас теперь будет два десятника, и я ещё помощник. Мы шли, чтобы насчёт площадки под склад узнать, а то Лукъяненко опять подался в Романовку, а нам нужно к вечеру уже её место и границы знать.
– Что-то уж больно молод твой начальник-то, да и не много ли над тобой начальников? – шутливо заметил Макар Макарович.
– Да он шутит, – сказал Борис, – какой я ему начальник? Мы оба помощники Игнатия Петровича. А вот осмотреть площадку, да прикинуть, сколько на ней можно уместить нашего леса, нам действительно нужно. А то вернётся наш настоящий начальник, и будет нам нагоняй.
– Это хорошо, что вы о деле заботитесь. Пойдёмте в дежурку.
У стола телеграфиста в комнате дежурного по станции сидел высокий черноволосый человек лет 45.
– Николай Иванович, – обратился к нему Сердеев, – пройдите с ребятами к тупику и отмерьте им площадку под лесной склад в тех же размерах, что и в прошлом году выделяли. Забейте по углам колышки, затем сосчитаем площадь, а вечером с Дмитриевым договор на аренду заключим. Да, что-то ваш начальник мне заявку на вагоны не даёт, опоздаем передать её в управление дороги, тогда повертимся. Что он, всё ещё никак рассчитать не может? – обернулся Макар Макарович к ребятам.
– Мы уже подсчитали, вечером он, наверно, её вам даст, – ответил Борис.
– И что же получилось? – с интересом спросил Сердеев.
– Да выходит, что на декабрь нам нужно будет 100 вагонов, а на январь ещё больше.
– Ого! – воскликнул Макар Макарович. – Так это наша станция-то чуть ли не в узловые выскочит! Вы что, весь лес около села вырубить хотите?
Ребятам, конечно, польстило такое удивление взрослого человека, и Федя с нескрываемой гордостью за значительность своего дела сказал:
– Ну, весь – не весь, а почистим его основательно.
– А чем гордиться-то? – сокрушённо заметил Макар Макарович. – Вырубить лес недолго, а вот когда он снова вырастет? Ну да ладно, это не моё дело… Так идите, Николай Иванович, я тут у аппарата за Вас побуду.
Тот молча поднялся из-за стола, на котором стоял телеграфный аппарат, и довольно мрачно сказал:
– Вы идите к тупику, а я возьму топор, колышки и подойду.
Пока ребята шли к месту, предназначенному для лесного склада, находившемуся от здания станции на расстоянии около полукилометра, Фёдор рассказал Борису, что этот мрачный человек – старший помощник его отца, Николай Иванович Смородинцев – живёт в другой квартире этого же дома. У него есть жена и дочка лет двенадцати. Он очень хорошо знает железнодорожное дело и когда трезвый, то отлично справляется со своими обязанностями. Но, к несчастью, он страдает запоями, и когда бывает пьян, то становится настоящим зверем, тогда от него все разбегаются.
– Папа уже несколько раз собирался его уволить, но отзывал назад свои представления по просьбе жены Смородинцева, которую очень уважает. А она, больная, во время этих запоев всю тяжесть характера мужа принимает на себя. Дочку свою она отправляет к нам. А он там чёрт знает чего вытворяет: бьёт её, ломает мебель, а раз чуть не поджёг всю станцию. Справиться с ним в это время только один человек умеет, есть тут у нас механик на водокачке, немец Фишер, так вот только он и может во время запоя Николая Ивановича утихомирить.
За разговорами они незаметно подошли к тупику, а почти вслед за ними подошёл и Смородинцев. Он держал большой молоток, 4 заструганных колышка и рулетку.
Через полчаса площадка была замерена, ограничена колышками. Она имела форму неправильного четырёхугольника. Боря старательно записал длину каждой стороны в метрах и саженях, чтобы потом вычислить площадь склада. В двух мерах нужно было измерять потому, что для отчёта в Дальлесе требовалось указывать размеры склада в квадратных метрах, а расчётные таблицы на железной дороге ещё оставались в квадратных саженях. Ребятам пришлось порядком помучиться, пока они сумели правильно определить арендуемую площадь и сумму платы за неё, которую должен был участок вносить ежеквартально.
В конце концов эту работу сделали, правда, при помощи Макара Макаровича, давшего ценные советы. Ведь, помимо разнобоя мер, расчёт затруднялся и неправильными формами площадки. Полученные цифры вписали в бланки типографского договора и, когда уже было совсем темно, оба торжественно явились в «контору» – в дом Нечипуренко, так, оказывается, была фамилия Бориного хозяина, где застали уже вернувшихся из леса Игнатия Петровича, лесника и Николая, сидевших за обильно уставленным столом с бутылкой посередине.
По всему было видно, что отвод участка прошёл вполне хорошо, и что обе стороны остались довольны. Теперь они скрепляли свой успех.
Увидев входящих ребят, Дмитриев поднялся из-за стола, и стало очевидным, что бутылка, стоявшая на столе, была уже не первой, потому что настроение его, а также и нетвёрдость походки, свидетельствовали о более значительном количестве выпитого. Об этом же говорило и сильно раскрасневшееся лицо Николая, сердитый взгляд и воркотня Марьи и мрачно-меланхоличное настроение лесника.
Обняв своих юных помощников за плечи, возвышаясь над ними чуть ли не на две головы, подвыпивший Дмитриев сказал:
– А вот и мои помощнички явились! Бумаги все разобрали, порядок в моей канцелярии навели, бланки договоров подготовили, молодцы! А как площадь под склад – обмерили? – Борис молча протянул ему подготовленный договор с железной дорогой на аренду склада, оба экземпляра его уже были подписаны начальником станции.
– Э, да вы уже и договор заполнили! Совсем молодцы! Ну да, наверно, там вас Макар Макарович надул здорово? Площадь-то сами считали, или он со своими помощниками, а?
– Конечно сами, – обиженно ответил Алёшкин.
– Ну то-то, а то если им поверить, так они такого насчитают, что в два раза больше положенного платить придётся. Я эту железную дорогу знаю! Все железнодорожники только и думают, чтобы нас на чём-нибудь объегорить. Ты не обижайся, Федя, это у них к профессия такая… И у твоего батьки тоже, хотя он мужик и хороший. Ну что же, ребята, давайте, садитесь за стол, заслужили! Николай, налей-ка им по маленькой. Сегодня уже работать больше не будем, пусть выпьют.
Борис, а вслед за ним и Фёдор, категорически отказались и от ужина и, конечно, от выпивки, чем, кажется, не особенно огорчили и самого Дмитриева, и лесника.
– Ну, не хотите, как хотите. Мы и сами выпьем, – благодушно заявил Дмитриев, снова усаживаясь за стол. – Поди, к девкам тянет? Дело молодое! Что ж, идите. Да смотрите, чтобы вам здешние парни ног не переломали. Пораньше возвращайтесь, завтра с утра работы много.
Борис и Фёдор, воспользовавшись разрешением, шмыгнули в сени, где их и догнала Марья:
– Борис, – сказала она, – я в кухне на столе молока в кринке оставлю и хлеб ручником прикрою. Придёшь – поужинаешь, дверь запирать не буду. Ну, идите! Да смотрите, верно, в драку с нашими парнями не ввязывайтесь, а то тут есть отчаянные…
– Да мы в школу пойдём, – заметил Фёдор.
Глава двенадцатая
Минут через пятнадцать они уже стояли около маленького рубленого домика, выходящего тремя сторонами во двор школы, а одной на улицу. Заглянув в светящиеся окна, выходившие на улицу и завешенные довольно плотными занавесками, Фёдор, видимо, хорошо знакомый с обычаями живущих в нём, сказал:
– Обе дома, что-то пишут. Пойдём! Сейчас мы им спектакль устроим: я зайду один, а ты позже появишься, идёт?
Борис согласился.
Ребята зашли во двор школы, Фёдор поднялся на крыльцо домика и скрылся в сенях, затем зашёл в комнату, где жили учительницы, потому что вскоре оттуда раздались весёлые голоса, смех. Вскоре всё стихло. На улице и в школьном дворе тоже стояла тишина, только где-то далеко на окраине негромко пели девчата, да иногда в соседних дворах лениво лаяли собаки.
Тем временем Борис осмотрелся вокруг. Он уже знал, что школа находилась в самом центре села, что рядом с ней стояла сейчас тёмная и мрачная большая кирпичная церковь с высокой колокольней, а от неё в обе стороны тянулась главная, самая большая и широкая улица села. От неё в разных направлениях ответвлялись узенькие и кривые переулки.
Несмотря на то, что это село, как и большинство сёл и деревень России, строилось без всякого плана и порядка, Новонежино всё-таки, по сравнению со Шкотовым, имело более упорядоченный вид. Ведь Шкотово располагалось на нескольких сопках разной высоты, и положение улиц зависело от их скатов, а Новонежино лежало в широкой долине, на совершенно ровном месте, вдоль маленькой речушки. С одной стороны сопки начинались от села версты за три, а с другой они начинались примерно сразу за железнодорожной станцией.
Продолжая осматривать двор школы, почти прямо против себя Борис увидел большое одноэтажное здание школы. Из-за него выглядывал домик поменьше, он служил квартирой для двух семейных учителей: Герасименко и Александровичей.
В противоположном углу двора стояла маленькая избушка – обиталище древней сторожихи и уборщицы школы, жившей здесь ещё тогда, когда эта школа считалась церковно-приходской и находилась в ведении священника. А в домике, около которого он сейчас стоял, и в котором только что скрылся Федя, размещался один из классов школы, все они в основном здании уже не помещались, и жили две девушки учительницы – Харитина Сачёк и Полина Медведь.