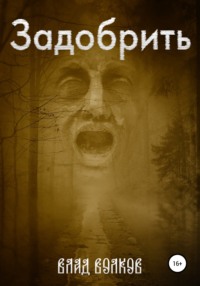Полная версия
Анфиса. Гнев Империи
– Устроят-устроят! Мы с ребятами видели, как они всё готовят. Зонтики от солнца ставят на столы для карт, костяшек и борьбы на руках… – тараторила девочка с явным убеждением. – Просто волшебно!
– Лишь бы не для танцев на столах, – фыркнула бонна.
Тем временем чёрная кошка тоже уже пришла сюда на людские голоса, решив, что валяться на солнышке в оставшейся незаправленной кровати Анфисы ей не слишком удобно, на ровной поверхности одеяла и покрывала было бы куда комфортней. А потому, в надежде, что что-нибудь вкусненького перепадёт, заявилась в столовую, запрыгнув на лавочку у ароматной кадки.
– Буба! Буба! Бубастис! – ворчала на неё старушка. – Ну, куда? Ну, куда ты! – оттаскивала она кадку от любопытной, всё обнюхивающей и топорщащей свои длиннющие белые усы кошки. – Я тут масло взбивала из молока, а она уже нос суёт. Лучше б мышей ловила, хоть бы раз принесла, ленивая туша!
– Так налей ей в блюдце, – просил Альберт, и Августа полезла рукой на полочку с глиняной бурой посудой.
– Котёнка ж нам её мать подарила? Лет семь назад, верно я всё помню? – уточняла у сына старушка. – Не впала ещё в маразм совсем?
– Помнится, да, – отвечал нунций, поглядывая на Бубу.
– Так ты мамин подарок! – нагнулась, поглаживая кошку, Анфиса. – Пап, расскажешь о маме что-нибудь?
– Ох, принцесса. Волосы у неё огненные были, как у тебя, я ж рассказывал тысячу раз. Если бы ты больше читала не о животных, а о военном деле, могла бы знать такое понятие, как «карательный отряд». Вот она была воительницей, которая его возглавляла.
– Унимала мятежи? Наказывала волхвов-безбожников? – любопытствовала девочка.
– Первое, вторым занимаются инквизиторы, – ответил ей Альберт.
– Бабушку зовут Августа, тебя – Альберт, меня – Анфиса, маму тоже звали как-то на «А»? – интересовалась дочь у отца.
– Нет, родная, это просто совпадение, – усмехнулся тот, поглаживая её по волосам.
– Сейчас я накрою на стол и такому гостю, – улыбалась Кетли под вежливый кивок священнослужителя.
– В сенях вещи ненужные собрала: побитые горшки, корзинки с дырой или сломанной ручкой, старые изношенные лапти, тряпьё и всё прочее. Отнесёшь сжечь в очищающий костёр на ярмарку, – велела старушка сыну.
– Там столб. обложенный хворостом, поставили, – тем временем продолжала девочка, – с колесом и черепом коня. Будут костры и игры, танцы разные.
– Не рано тебе ещё о танцах думать? – усмехнулся Альберт.
– Так не обязательно же с парнем каким, можно и одной, и в хороводе, – порозовела девочка.
– То «пляски», а «танец» – это когда пара танцует, – поучал отец. – Летнее солнцестояние – не церковный праздник, народ его справляет как бы… по старым обычаям, втихаря, без дозволения, хоть и на широкую ногу. Самый длинный день в году как-никак, не может простой народ не гулять в такое время. К тому же между сезоном посева и сбором как раз время расслабиться немного. Потому вот странствия архиепископа в этот год как-то накладываются на это дело, чтобы совсем язычества какого не было.
– Язычники – безбожники! И приносят в жертву детей! – содрогалась с ненавистью Анфиса.
– Вот господин Магнус и проследит, чтобы никаких чёрных обрядов не было. Ну, ты, если поела, беги поиграй, мы с господином Лукьяном поговорим, – бросил Альберт взор своих янтарного оттенка глаз на усатого мужчину с зачёсанными назад пепельно-серыми прядями.
– Анфиса, ты не доела, – заметила ей бонна.
– Я наелась! – бросила та, весело постукивая ярко-розовыми босоножками по дощатому полу в прихожей и выбегая на улицу.
Играть и гулять она, разумеется, не побежала. Но не потому, что гувернантка велела никуда не уходить с участка мадам Августы, её бабушки, а потому что надо было обогнуть дом и пристроиться возле ближайшего к столу окошка, чтобы подслушать разговор.
Она погладила пасущегося на привязи молодого бычка Кади, помахала взрослым рогатым обитателям коровника, аккуратно проходя мимо. Девочка заметила, что на ворота уже без её участия повесили стебли крапивы и зеркальца защитным ритуалом. А в том году она тоже со всем этим помогала, правда, изрядно обожгла руки кусачей травой.
Девочка приблизилась вновь к дому бабули, пролезая мимо двух больших бочек с неё ростом, в которые по стокам стекала дождевая вода. Взор Анфисы упал на кое-как воткнутые в наличники, ставни и подоконник кухонные вилки – один из местных праздничных обрядов на защиту от проникновения всякой нечистой силы.
По взору маленькой чародейки было понятно, что она сильно расстроена. А в мыслях только и вертелось, что это Нана с Кетли небось воткнули с утра пораньше ещё до того, как её разбудить. А ей поучаствовать не позволили, не то сочтя слишком слабой, не то просто не позволяя напрягаться. А ведь дочь нунция любила участвовать во всяких таких ритуалах. А теперь оставалось лишь с любопытством затаиться снаружи, у окна, чуть заглядывая внутрь и вникая во всё, что происходило сейчас за столом.
– Привёз ещё вот, – достал Альберт какой-то томик в твёрдом переплёте, – конфискованную книгу запретных знаний. Пусть уж не в библиотеке какой хранится, а здесь, чтобы уж точно никто до неё не добрался, – встал и положил мужчина том на книжную полку возле кулинарных сборников с разными рецептами.
– Главное теперь не спутать и не сварить зелий оттуда, – посмеялась гувернантка.
Анфиса проследила, куда это папа ставит книженцию. Очень уж хотелось посмотреть, что там такого запретного, но вряд ли бы ей это удалось. На кухне либо бабушка, либо её помощница. Ночью нос туда не сунешь, да и не почитать в темноте. А если выявить момент, когда вдруг нет никого, то кто знает – надолго ли. Вечно Нана заявится или кто ещё вернётся в дом да застукает за чтением. Потому приходилось расстаться со своими желаниями и сдерживать любопытство.
– Так что насчёт моей девочки? – повернулся Альберт к всё ещё сидевшему за столом чародею.
– Нет, господин нунций, не возьмусь я с ней возиться… Талант есть, но не то чтобы большой. Не знаю, куда его ей применить. Стихийных чар маловато, а боевой маг из такой хрупкой и хлипкой слабачки, увы, не получится, – развёл тот руками.
– Слабачки?! Слабачки?! – возмущалась шёпотом, едва не срываясь на крик под накатившие слёзы, Анфиса снаружи.
– Вы тоже не высшего класса чародей, – хмыкнул недовольно отец девочки. – Могли бы обучить её рунным гаданиям, картам тарота…
– Господин нунций, для таких вещей нужен дар предвидения. Я несколько раз проверял её карточным тестом, она угадала два символа из двенадцати за сеанс. Мне думается, это случайность. Не мудрено отгадать волну, квадрат или треугольник, когда самих символов всего-ничего. Я бы усовершенствовал систему проверок, чтобы отбирать самых достойных в ряды имперских чародеев, но к делу это сейчас отношения не имеет, – поднялся мужчина из-за стола.
– Прям вообще никак? Вы уже седьмой маг, который от неё отказывается. Бедная Анфиса, отказ убьёт её! – восклицал Альберт, надавливая на жалость.
– Её убьёт очередной приступ, она ни бегать, ни отжиматься не умеет. Руки слабые, хотя на дерево залезть и способна, так как лёгкая. Ветром сдует. Ей бы мяса побольше, что ль, кушать… Даже не знаю. Не увидел в ней такого зерна, чтобы браться его взрастить, – с сожалением ответил Лукьян.
– Мясо, блин, ещё бы рыбу сказал! Фи! – свирепела за окошком Анфиса.
– Я могу заплатить! Хотя бы приютите её на время, создайте видимость, – просил её отец.
– Господин нунций, я понимаю ваше положение, но я так не работаю. Пусть я не пятой гильдии чародей, но, я думаю, вы поняли, что я за честный отбор и за талантливых чародеев, которые будут в качестве белых боевых магов защищать свою родину, – откланялся чародей, подняв с лавки свой посох со спиральной позолотой и красным овальным камнем без граней, охваченном сеткой драгоценных металлов с мелкими самоцветами.
– «Господин нунций», «господин нунций», вот заладили! Все знают, что я один из вестников Его Высокопреосвященства! Архиепископ вот-вот сам нагрянет, потому я и здесь, – негодовал Альберт. – Приехал пораньше, думал, мы с вами всё подпишем, выпьем, а вы…
– Увы, – развёл тот руками.
– Провал… – рухнула на траву, усевшись, расстроенная девочка.
– А ну марш из моего дома! И смотрите, как бы вам этот отказ не аукнулся, а то ещё не сможете никуда сами примкнуть или протолкнуть в законы эту свою более строгую систему! – корча в недовольной гримасе лицо, прогонял гостя молодой Альберт Крэшнер.
– Попросите какого-нибудь самоучку, – напоследок предложил Лукьян, но вряд ли оттого, что был напуган угрозами, скорее стерпев их и просто по доброте душевной. – Понимаете, от её магии никакого толку. Империи нужны те, кто разгонят или призовут дождь, угомонят мертвецов, сожгут вражеские катапульты огнём или молниями. Сейчас друидам-то пристроиться некуда. А она… ни рыба ни мясо, уж простите.
– Я и не рыба, и не мясо, – фыркала под окном Анфиса. – Я… благородный гриб, может! Или сырок! Крепкий орешек! Вишенка на торте! На кой мне быть рыбой или мясом, я не как все! И не слабачка вовсе! – ломала она высокие стебли сорняков под окном, пока не обожглась крапивой и не зажмурилась, сверкая рыже-голубой аурой, сдерживая стон.
III
Когда по звуку шагов стало ясно, что Лукьян покинул столовую, отправившись к себе дособирать вещи, заплаканная Анфиса помчалась прочь, не желая сейчас ещё раз выслушивать про этот отказ её обучать от отца и ещё более не желая никаких утешений.
Казалось, если её обнимут, на душе станет лишь горше и больнее, слёзы совсем обратятся водопадом истерики и никакой праздник уже не спасёт. Но на ярмарку она тоже не шла, бежала подальше от суеты на лесную опушку, где раньше собирала землянику и грибы-лисички, но сейчас уже не было ни того, ни другого.
Лишь девичьи слёзы капали на широкие зелёные листья и сочную траву прилеска среди первых цветущих кустарников. В гневе девчонка сломала одну из веток, яростно обдирая с неё мелкие листики, и, взяв в левую руку, принялась, как саблей, колотить этой розгой всё подряд – те же кусты, широкие листья лопухов, оставляя в тех прорези, белые одуванчики, опадавшие, толком не разлетаясь своими воздушными семенами.
Когда-то одна тонкая ветка, заехав ей по лицу, рассекла девочке бровь так, что там образовался не зарастающий и поныне след. И с тех пор она будто бы была в обиде на растения и природу, вот так избивая сорняки, жадно вгрызаясь в овощи и обожая сжигать ветки в кострах.
– Слабачка! Слабачка! Я ему покажу! Гриф носатый! Что он себе позволяет?! Я ему покажу слабачку! – плакала Анфиса, вымещая злость на молчаливых растениях, лупя по борщевику, получая ожоги, но плача от боли душевной, а не от вспыхивающих и саднящих на коже волдырей.
Затем она отбросила тонкий прут и упала на траву, пытаясь отжаться, несмотря на покраснения кожи и жгучий зуд. Локти тряслись, но один раз выпрямиться у неё получилось. Второй раз уже это было похоже на пытку. Прижавшись к траве, изнемогая от напряжения, вбирая всю волю и злобу, направив ту в мышцы, ей почти удалось отжаться, но потом кольнуло в груди и она завалилась на бок, хватаясь за ленту банта на платье под шеей.
Казалось, что организм потерял способность дышать. От волнения девчонку накрыл новый приступ. Он и так подкатывал вчера перед сном, так как она сильно нервничала, опасаясь случившегося отказа от нового наставника, и вот самое страшное произошло. Точнее, нет, теперь Анфиса уверяла себя, что ещё страшнее вот так умереть, лёжа калачиком, не будучи способной ни выдохнуть, ни вдохнуть.
В голове вспомнились сегодняшние слова Наны – вдох– выдох, будто в ушах снова звенел её неприятный голос. Но это помогло. Хотя бы носом сквозь маленькие ноздри она смогла сейчас дышать, кое-как успокаиваясь. Прошло какое-то время, прежде чем она поднялась с парой травинок и листиков в красно-рыжих волосах, приходя в норму.
Внутри всё равно все болело от обиды. И даже как всё это выместить, она не знала. Бить лопухи, конечно, помогало слегка, но должной разрядки всё равно не давало. Она опять зажгла синие огоньки на кончиках пальцев и попыталась подпалить ту ветку, что сорвала. Сырой прут лишь слегка дымился, отказываясь воспламеняться.
– Да что же это… У меня вообще ничего не выходит?! – всхлипнула от новой волны разочарования и презрения к себе Анфиса. – Не орех, а слабачка… – бросила она сама себе. – Дура, неумеха, балда! – ругала себя девочка. – И что теперь?! И кем я буду? Обузой для папочки? Позором семьи? Вот поэтому-то меня мать и бросила. Я просто никуда не гожусь… Лучше б сдохла при рождении, – пнула она камень в слезах, а вкруг зашелестел сильный оглушительный ветер.
Деревья перешёптывались листвой, склоняясь под могуществом природных сил. Мелкие зверюшки разбегались подальше, завидев человека в колыхающемся ярком платье. Мелкая сухая листва и обломки палочек забегали по траве, гонимые потоком в сторону леса.
Раздался лай маленького рыжего пса с белой грудкой и пушистым, почти беличьим хвостом, изогнутым полумесяцем. Взлохмаченный и озорной, он подбежал к девочке, весело гавкая и высовывая язык, клянча что-то вкусное, а заодно как бы упрашивая с ним поиграть.
– Ты чего? Ты кто? Потерялся? Из деревни сбежал? М? – спрашивала она у весёлого щенка. – Я говорила «слабачка», а не «собачка», ты откуда вообще? Поиграть с тобой? М? Хоть тебе эта палка пригодится, – взяла опять девочка прут, который ещё не унесло ветром, и швырнула прочь, но собака за ним не последовала.
– Что? Нет? Не будешь со мной играть? И тебе даром не нужна? Провал… Ну, и ладно. Не очень-то и хотелось… У меня зато кошка дома живёт. А сушёного мяса или чего-то такого у меня с собой нет, нечем тебя угостить, извини, – говорила Анфиса.
– Чего разрыдалась-то? – преобразилась морда пса в нечто среднее между собакой и бородатым мужчиной, перепугав девочку, плюхнувшуюся на траву.
– Ах! Мистер Флориан? Это вы? – сидя, разглядывала девчушка это диковинное создание.
– Оленя тащил, тонкий голосок услышал со всхлипами. Думал, ребёнок заблудился, попал в беду, дай, думаю, выведу, обратился щеночком, чтобы, не дай боги, большой собаки не испугались, а тут ты воюешь с крапивой да лопухами, тю… – проговорил пёс с человекоподобным ликом.
– Оленя? Это как же? – не представляла она.
– Да вот так, – разрастался её знакомый, оборачиваясь в ещё более грозную помесь животных. – Мощь медведя, когти росомахи, ярость пумы, выносливость рыси! – обращался он в нечто лохматое, крупное, оставляя при этом в медвежье-кошачьей морде ещё и людские черты старика-бородача, после чего помчался в лес.
Девочка последовала за ним, ничего не боясь, ведь этого друида-отшельника она знала. Он жил в лесной землянке, местными считался нелюдимым и юродивым, а она, когда ходила с лукошком по ягоды и по грибы, несколько раз его встречала: они разговаривали и Анфиса не сочла его сколь-либо опасным.
Сейчас, неглубоко зайдя в лес, она наблюдала, как лохматое бурое нечто, опираясь на задние лапы, передними, не без помощи клыков, тащит рогатого зверя в сторону своего укрытия. Вид окровавленной души и остекленевших глаз убитого животного вызывал в ней куда больше тревоги, чем неописуемый зверочеловек, чьей жертвой и стал грациозный олень.
– Фи… – скривила губки Анфиса, глядя на окровавленную тушу со следами громадных когтей на груди и шее.
– Идём, помажу твои ожоги. Это ж борщевик проклятый. Молодые побеги – вкуснейшее, что может быть в твоём супе, но взрослое растение в солнечный день – просто бич всей деревни. Напасти страшней не представить, – заявил Флориан, оборачиваясь человеком и хватая накидку из шкуры, чтобы прикрыться.
– Не так уж и болит, – обманывала девочка, сама не зная зачем, просто лишь бы оспорить, хотя больше всего на свете как раз сейчас и хотелось, чтобы это жжение наконец прекратилось.
Бородатый старик вскоре показался из землянки, вынося ступку с мазью и принимаясь обрабатывать кожу на руках Анфисы, приговаривая друидические заговоры, взывая к духам трав и природы. Жжение прекращалось, намазанные участки кожи давали желаемую прохладу, и вокруг воцарился травяной аромат.
– Мыльник, подорожник, лаванда, облепиховое масло… все пальцы исколол, как же я эту ягоду не люблю добывать… – проговорил Флориан.
Это был дедуля поджарый и суховатый. Не тощий и немощный, а довольно сильный, но уже великовозрастный, когда только магическая сила его друидических способностей и перевоплощения в животных поддерживали в нём хорошую форму.
– Травы не захотят мне помогать, – насупилась и пристыдилась девчонка в розовом платьице. – Я их вон розгой лупила почём зря на опушке… А они мне бровь рассекли в детстве…
– Трава не злопамятна. Она живёт и растёт, чтобы выполнить свою функцию, – объяснял отшельник-друид, вынимая листву из своих длинных косм. – Ягоды нужны, чтобы их съедали, цветы тоже питают насекомых, распускаются, чтобы их опыляли. Стебли и листья тянутся на виду, чтобы собирали и помогали им отдать свою целебную силу. А иначе что? Зачахнет, засохнет, помрёт и сгниёт. Так хоть в мази и настойки пойдёт. Даже вечнозелёная хвоя на деле осыпается. Ты ж обращала внимание, сколько в ельниках и в бору её всегда под ногами, земли не видно, одни высохшие иголки.
– Угу… – нехотя кивнула девочка. – А у меня тогда что за функция? От меня опять отказались, не берёт в ученицы ни один чародей, – пожаловалась она.
– Ничего, не везёт в учёбе – повезёт в любви, может, замуж возьмут, – посмеивался Флориан.
– Не хочу я женихов никаких, фи! – отдёрнула Анфиса намазанные руки. – В столицу хотела, в Селестию, в Академию.
– Раскатала губу, – всё улыбался друид. – Разучивай теперь губозакатывательное заклинание.
– Может, хоть вы чему обучите? – с надеждой в зелёных глазах и жалобным выражением личика поглядела она на старика.
– Э, нет, куда мне. Ты ж во всяких собак и белок не обращаешься. Что я тебе подскажу? Рецепты мазей? Ну, носи сюда тетрадь, принесу кадку старого пня, будешь записывать на нём, – предлагал Флориан.
– Травницей типа быть… Целительницей? – кривя губы, произнесла девочка сама себе, размышляя, а вовсе не уточняя это у собеседника.
– Построишь себе шалаш, станешь главной лесной ведьмой, будешь собирать себе сатиров и лешачих на шабаш! – хохотал друид.
– Нет, как-то не привлекает, – нервно хихикнула девочка, оглядывая всё вокруг.
– Зря-зря, Кернунн за природой приглядывает, чтобы всё кругом силой своей наполнялось, – разводил старик руками, любуясь окружением.
– Кернунн языческий бог, Творец за лесами и полями присматривает, – недовольно фыркнула Анфиса.
– Пусть так, – усмехнулся друид, – Ты ступай, неприятное зрелище будет, когда я ножи и топор достану, начав оленя себе впрок разделывать. Приходи лучше под вечер, огонь разведу, мясо пожарю. Оленину любишь вообще? – спросил Флориан.
– Ну, она нечасто у нас на столе, – ответила Анфиса.
– У вас-то там козы, коровы да овцы. Человек, как начал фермы строить, охотиться позабыл. А я сам себе еду добываю, – гордо заявлял друид.
– Жалко оленя… такой красивый, – поглядела на труп животного девочка.
– Он и при жизни был благородным зверем, и посмертно стал благородным мясом. Ничего страшного, законы природы, – пожал плечами старик. – Главное, убивать ради еды, а не для развлечения.
В голове девочки отчего-то краткой фантазией разыгрались смертельные схватки осуждённых, о которых упоминала бабушка и которые так любила смотреть её мать. С одной стороны, там убивали именно для развлечения публики. С другой же, если копнуть глубже, у бойцов не было выбора, они боролись за себя и свою жизнь, пока в живых не оставался кто-то один, которому прощали все преступления и вручали грамоту о свободе. Правда, найти работу такой человек мог разве что палачом, мясником или каким-нибудь мелким подмастерьем плотника, камнетёса, кузнеца – на тяжёлый труд. Мог, конечно, и землепашцем стать где-нибудь на отшибе.
– Ничего страшного?! Разве смерть – это не страшно? Разве это не худшее, что вообще с нами может случиться?! – теперь Анфиса вспоминала скорее свой последний приступ с жутким опасением умереть прямо на прилеске.
– Смерть – это не страх, не зло, не какой-то там враг всего живого. Это лишь время, свершение событий, – философски отвечал ей друид. – Ты вон мясо ешь? Птицу ешь? Рыбу ешь?
– Рыбу нет, фи! – замотала головой девочка.
– Родители, значит, едят, – махнул Флориан. – А мясо ж от убийства животных нам достаётся. Окорок, бёдра, крылышки, рёбрышки – это всё смерть, разве ж плохо? Разве ж не вкусно? Котлеты, небось, любишь поджаристые, а я тут такого не готовлю.
– Сосиски люблю из мясного, – сообщила ему Анфиса.
– Вот. Сосиски, колбасы, солонина, сушёное мясо – это всё убийство животных, ловля птиц, ловля рыбы. Крючки, силки, топором голову тюк! Хе-хе! – усмехался друид. – Яйца в тесто – это лишение жизни гусёнка или цыплёнка. А меха, а кожа, что ты носишь и одеваешь! Шубы и шапки зимой! Пушнину добывают, убивая кроликов, енотов, лис. Подушки и перина, на которых, небось, спишь, – это ощипанные перед готовкой птицы. Разве что овечью шерсть стригут, и она вновь нарастает. Но их тоже не лишь для одной шерсти разводят, уж баранину-то наверняка пробовала. Смерть повсюду, в ней нет ничего ни страшного, ни плохого. Собака вроде у тебя была, ты как-то рассказывала.
– Кошка, – напомнила девочка.
– Тоже хищница. Мышей ловит, птиц, чтобы ими питаться да в хозяйстве помогает. А собаки сторожат и получают свою кость. Иногда выслеживают тех же лисиц на охоте, – рассказывал старик.
– А мыши вот едят зерно, – заметила ему девочка.
– Ха! Скажешь тоже! Мыши ещё поедают жучков, червячков, сороконожек, всяких насекомых. Могут и мелкую лягушку сожрать. А жучки-паучки друг друга едят, а не только нектар да растения. Циклы жизни и смерти нас окружают, такова природа! Всё взаимосвязано, всё питает и насыщает друг друга! Ты видишь в смерти лишь трагедию, но что-то не похоже, чтобы ты оплакивала коров и свиней, чьё мясо поедаешь.
– Жуть! Я даже никогда о таком не задумывалась, – погрустнела Анфиса.
– День умирает, чтобы возродиться после ночи. Луна умирает, чтобы вновь засиять серпом и наливаться с каждым днём своей силой. Умирают поселения, чтобы на их месте возникли новые города. Умирают горы, становясь холмами, низинами, долами и даже озёрами. Трава питает тлю, тля жуков, жуки крыс, крысы сов, совы соболей, соболи, умерев, питают почву, где вновь прорастает сочная трава для тли. Это круг жизни, девочка. Нет никакого смысла бояться смерти. Олень умер, чтобы у нас были мясо и шкуры. Таков смысл охоты.
– Но ведь так можно истребить всю красоту! – воспротивилась девочка, ещё раз взглянув на мёртвого благородного оленя.
– Красота ведь не только в оленях. Она в озёрах и горах, в музыке и хороводах, в праздниках и обрядах, в снеге и радуге. Сезоны охоты позволяют не истреблять молодняк, чтобы звери плодились. А если их вдруг станет слишком много, съедят всю листву и ягоды, всё вокруг будет в одних оленях, как же другие животные? Ты подумай! Сам лес вымрет, как и луга, где нечего станет есть леммингам да сусликам. Круг жизни – большой набор пересекающихся и вертящихся рядом друг с другом циклов-колёс. Насекомые в своём маленьком мирке, древесные ящерицы, подземные кроты, жизнь в кронах деревьев, птицы, еноты, белки… Леса переходят в горы, горы в низины, необъятный мир полон красок и красоты! От птичьего пения до причудливых узоров на коже змеи. Главное, открыть глаза и начать видеть всю эту красоту.
Анфиса огляделась вокруг: шёпот крон, перестукивание кустарников, порхающие, что-то там щебечущие птички, стрекочущие кузнечики, жужжащие жуки, журчащий ручей вдали и прочие звуки леса. Несмотря на мертвеца-оленя, всё вокруг и вправду било жизненной силой. Ей показалось, что это и есть та самая «медитация», о которой она слышала от учителей в разговорах. Нечто, позволяющее познать единение с миром вокруг и подпитаться от него внутренней живительной силой.
На душе стало как-то теплее, хотя принимать такие откровения и точку взгляда о смерти она не спешила, всё ещё страшась её, а не принимая как должное. Но пришло время ей задуматься, как же на стол попадают котлеты, стейки, запеченный язык, все те кусочки, что попадаются в супе или в пирогах.
Смерть, как выяснялось в потоке нахлынувших умозаключений, преследовала буквально повсюду. Даже разбитое яйцо в яичницу – убийство ещё нерождённого цыплёнка, о чём до этого момента Анфиса никогда не задумывалась. Жизнь и смерть шли по миру рука об руку в тесных страстных объятиях и переплетениях. Вспомнился символ с дайконской ярмарки, где внутри круга было две одинаковые капли: чёрная и белая, но внутри чёрной было белое пятнышко, словно глаз головастика, а внутри белой такой же, соответственно, чёрное.
– Я, пожалуй, пойду, – слетело с девичьих губ.