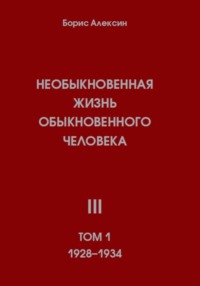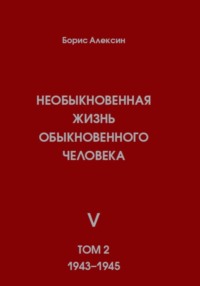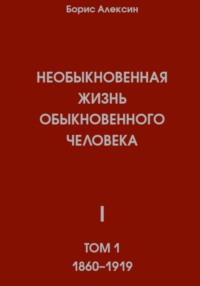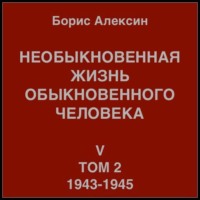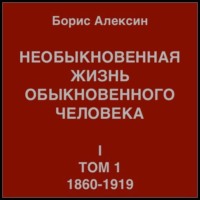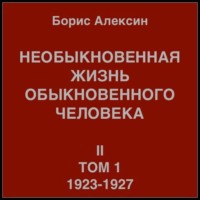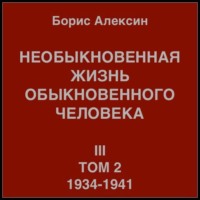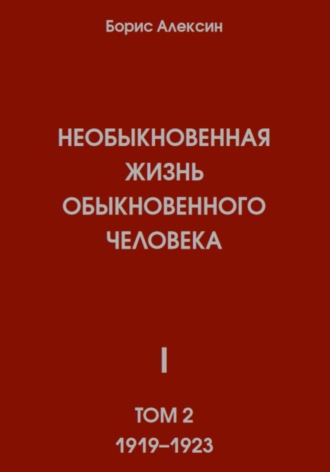 полная версия
полная версияНеобыкновенная жизнь обыкновенного человека. Книга 1. Том 2
Так как от динамо провода были проведены в гостиную, где торжественно водрузили лампочку, чему, кстати сказать, все обрадовались, то всякий перерыв в свете сразу обнаруживался. Вначале это приписывали неисправности проводки или лампочки, но когда однажды во время такого перерыва Янина Владимировна зашла в комнату и увидела своих сорванцов, катающихся по полу, она убедилась, что этим электрикам доверять нельзя и вернулась к керосиновому освещению. Кроме того, наступила весна, дни удлинились, и надобность в искусственном освещении отпала.
Мокша вскрылась на второй день Пасхи. Быстро взломался лёд и пошёл вниз, затем так же быстро стала прибывать вода. В этом году река разлилась очень сильно, затопило не только дома, стоявшие около моста, но и почти всю базарную площадь, лавки, торговые ряды и даже дома, стоявшие вокруг площади. Многим жителям пришлось переселяться к родственникам или знакомым, жившим в верхней части города, нижние дома оказались в воде. Пострадала от этого наводнения и Неаскина – дом её хозяйки тоже затопило. Хозяйка выехала к своим родственникам куда-то на Напольную улицу. Елену Болеславовну приютили Армаши, отведя ей и Жене одну из комнат в своей и без того небольшой квартирке. Свой переезд при наводнении эта беспечная женщина обставила так, что увезла свою и Женину одежду и немного посуды. Мебель же, перевезённую в своё время из квартиры Марии Александровны, оставила, не подумав о том, чтобы её сохранить, хотя хозяйка и предлагала ей вывезти всё вместе со своей обстановкой. В результате вся мебель, в большинстве старинная, резная, точёная, отделанная красными деревом, после наводнения пришла в полную негодность.
Поселившись в квартире Армашей, Елена Болеславовна быстро обжилась и стала считать отведённую ей комнату чуть ли не собственностью. Ей было очень удобно: имевшаяся у Армашей прислуга обслуживала и новую жиличку, последней это ничего не стоило. Женя тоже была всегда под присмотром, и мать могла не беспокоиться за неё, если ей приходилось работать по вечерам. Очень часто обе они пользовались и питанием у своих хозяев.
Наводнение уже давно кончилось, все жители вернулись в свои дома, вернулась и хозяйка Неаскиной. Она привела в порядок дом, комнату своей квартирантки и даже по возможности просушила, вычистила и при помощи знакомого столяра отремонтировала брошенную той мебель, а Елена жила себе да жила у Армашей, и даже не думала переезжать в свою квартиру.
Маргарита Макаровна со свойственной ей деликатностью и особым расположением к семье Марии Александровны Пигуты не осмеливалась требовать выезда жилички, хотя та всё более и более начинала стеснять их семью, и если и роптала на чересчур уж бесцеремонную знакомую, то очень робко, и, главным образом, беседуя с членами своей семьи.
От одного из них, а именно от Володи, о затруднительном положении Армашей узнал Борис. Он считал свою тётку главной причиной болезни, а затем и смерти его любимой бабуси. Он помнил, как во время их совместной жизни тётя Лёля постоянно обижала и его, и бабусю несправедливыми упрёками, а иногда и просто бранью. Не мог он забыть также и того, что она, единственный родной ему человек в Темникове после смерти бабуси, не только не позаботилась о нём, а наоборот, хотела его лишить даже той новой семьи, которую он нашёл у Стасевичей. Ведь именно она предлагала Янине Владимировне отдать Борю в приют.
Он, конечно, возмутился её нахальством.
– Видишь, пустили её как добрую, на время несчастья, а она поселилась как в своём доме, заняла папину комнату, тому теперь и заниматься негде, да ещё и командует всеми, а от этой Женьки прямо житья нет, – жаловался Володя своему приятелю.
Выслушав сетования своего друга, Борис со свойственной его возрасту непосредственностью решил помочь Армашам, а так как дерзости ему было не занимать, то однажды, будучи у Володи, когда в гостиной вместе со всеми взрослыми сидела и его тётка, а ребята играли в какую-то игру на полу, он вдруг совершенно неожиданно и как будто наивно спросил:
– Тётя Лёля, а почему ты не уезжаешь к себе домой? Разве ты не видишь, что нам из-за тебя теперь с Володей на полу играть приходится? Ведь все уже давно переехали. Или тебе нравится в чужой квартире жить?
Вопрос мальчишки прозвучал так неожиданно и был поставлен так прямо, что произвёл впечатление разорвавшейся бомбы.
Несколько мгновений все ошеломлённо молчали, и когда, опомнившись, Маргарита Макаровна попыталась что-то сказать, чтобы смягчить жёсткость и прямоту вопроса, Елена Болеславовна, позеленев от злости, прервала её:
– Не успокаивай меня, Маргарита, этот негодный мальчишка всегда мне устроит какую-нибудь пакость! Скажи, пожалуйста, тебе-то какое дело, что я здесь живу? – обратилась она к Боре. – Чего ты свой длинный нос суёшь не в свои дела? Или тебя попросили заступником быть? Не беспокойся, уеду хоть завтра!
Тут уж не выдержал и Володя Армаш, он вскочил с пола, запрыгал, захлопал в ладоши и весело закричал:
– Завтра?! Вот хорошо-то! Пожалуйста, переезжайте, мы будем очень рады!
И хотя Алексей Владимирович и Маргарита Макаровна сердито зашикали на сына, было уже поздно. Разгневанная и обиженная Неаскина вскочила со стула, схватила за руку моментально заревевшую Женьку и скрылась в отведённой ей комнате. Некоторое время слышались её торопливые шаги, шум швыряемых вещей и рёв Жени, потом всё стихло. Маргарита Макаровна хотела было пойти за ней, чтобы извиниться за выходку Бори и сына и успокоить её, но Алексей Владимирович удержал.
– Устами младенца глаголет истина. Немножко грубо, но справедливо.
На следующий день после этого происшествия Елена Болеславовна оставила квартиру Армашей. Для перевозки вещей ей пришлось попросить помощи у Стасевичей. Боря запряг Рыжего в телегу, помог погрузить нехитрые пожитки и, так как на телеге ещё оставалось место, милостиво разрешил сесть и Женьке.
Об этом случае Маргарита Макаровна сочла своим долгом рассказать Стасевичам, но так как те не очень-то любили Елену Болеславовну, то только посмеялись над очередной Борькиной выходкой.
Вскоре после того, как начала спадать вода в Мокше, а река входить в берега, в Темников впервые за всю историю его существования приплыл настоящий пароход. Это было чрезвычайное событие.
Маленький буксирный пароходик поднялся вверх по Оке, по Цне и, наконец, по Мокше. Он притянул в Темников очень большую, по понятиям жителей городка, баржу, нагруженную керосином в железных бочках, постным маслом, мануфактурой, сахаром, гвоздями, кожей и многими другими товарами.
Прибытие парохода для Темникова – событие совершенно необыкновенное. На берегу реки, где наскоро были сооружены деревянные помостки, изображавшие пристань, не обращая внимания на непролазную грязь, целыми днями толпился народ и, конечно, в первую очередь, мальчишки. Среди последних Борис Алёшкин был одним из самых уважаемых лиц: он не только видел большие пароходы, но даже и не один раз плавал на них. Он с видом заправского специалиста объяснял окружавшим его товарищам назначение различных видимых частей парохода.
После выгрузки на баржу и пароход погрузили привезённые с кирпичного завода кирпичи и много мешков муки, хранившейся в одном из сараев на базаре.
Прибытие и стоянка парохода Боре, кроме почёта, принесла немало и огорчений. Среди его слушателей имелись скептики, которые не только не верили тому, что он плавал на пароходе, но даже и тому, что он когда-нибудь видел их раньше. Конечно, правоту ему приходилось доказывать и словами, и путём физического воздействия. Такой способ доказательства не всегда кончался благополучно: скептики, объединившись, бросались на Борю, его сторонники защищали приятеля, начиналась всеобщая драка, которую приходилось разнимать взрослым. Впрочем, это не мешало спорщикам через несколько минут собраться вновь и обсуждать все достоинства и недостатки нового для них сооружения с прежним пылом.
Однако всё на свете проходит, и часто быстрее, чем мы этого хотим.
У Бори только что начали налаживаться связи с одним матросом, который даже разрешил мальчику побывать на палубе буксира, чем высоко поднял его авторитет в глазах товарищей, но всё вдруг внезапно оборвалось.
Придя в одно прекрасное утро на берег Мокши, все увидели, что ни парохода, ни баржи нет. Самое обидное было то, что все прозевали момент отплытия, а посмотреть его очень хотелось. Пароход уплыл, но, как оказалось, он всё же запоздал: вода в Мокше «уплыла» ещё быстрее. Через некоторое время стало известно, что и пароход, и баржа застряли где-то у впадения Мокши в Цну, и чтобы их вызволить, пришлось большую часть грузов разгружать, а затем грузить снова. Видимо, это и послужило поводом для того, что больше в Темников пароходы не приходили.
В это же лето в семье Стасевичей произошло ещё одно небольшое, но почему-то врезавшееся в память Алёшкина событие.
Собираясь выезжать из Темникова, Стасевичи понемногу начали ликвидировать своё хозяйство: распродали почти всю пасеку, сократили посадку овощей в огородах, перестали сеять злаки. Всё это привело к тому, что с начала летних каникул у ребят появилось много свободного времени, которое они по-прежнему проводили в лесничестве. Много бродили по лесу, купались в озере и даже умудрились починить одну из брошенных монахами лодок и покататься на ней. Найдя в сарае около озера старые рыбацкие сети и починив их при помощи суровых ниток, выпрошенных у Арины, они соорудили небольшой бредень.
С 1918 года в озере рыбу никто не ловил, поэтому её развелось так много, что Юра с Борей не только до отвала наедались ухи, самими приготовленной, но иногда и по целому ведру приносили домой.
Время текло незаметно, и ребята уже с грустью подумывали о том, когда осенью им придётся опять садиться за школьную парту. Их чудесное времяпрепровождение оказалось прерванным раньше, чем они предполагали. В один из вечеров Арина передала им распоряжение Иосифа Альфонсовича о немедленном возвращении в город. Они уже подумали, что пришло долгожданное разрешение на выезд в Польшу, но оказалось не так.
Когда они пешком (Рыжий был в Темникове) пришли в город, то Стасевич сказал:
– Вот что, ребята, с завтрашнего дня вам придётся в течение недели пасти коров.
– Что?!! Пасти скот? – искренне возмутились оба. – Да мы, что, пастухи?!! Среди людей, которые окружали Борю и Юру, слово «пастух» считалось если не бранным словом, то, во всяком случае, признаком глупости, нерадивости и лености. Их возмущение было велико: своим поведением, своим отношением ко всякой поручаемой им работе они не могли заслужить звание лентяев и лодырей. За что же вдруг такое оскорбление?
Иосиф Альфонсович и сам понимал состояние ребят, но у него другого выхода не было, ведь не самому же ему идти пасти стадо! Сперва он подробно разъяснил ребятам, почему им приходится выполнять эту, может быть, неприятную, но уж вовсе не такую унизительную работу, как о ней говорят, а затем строго приказал пораньше лечь спать, так как завтра нужно было вставать с рассветом.
А дело было в следующем: ребята, жившие в лесу последние полтора месяца, не знали, что за это время такая должность, как городской пастух, решением исполкома была отменена. Постановили, что все, кто имеет скот, должны пасти его сами. Пусть, мол, эти полубуржуйчики (так называли некоторые исполкомовцы владельцев коров и коз) сами пасут свой скот. Нечего эксплуатировать и угнетать трудящихся, то есть пастухов!
С нашей современной точки зрения это утверждение можно назвать более чем наивными, но в те годы подобных решений и действий было достаточно, и не только по вопросу о пастухах.
После этого постановления по районам города прошли собрания владельцев скота, на которых решили, что каждый должен отдежурить сам или привлечь кого-либо из членов семьи по неделе в качестве пастухов. Время каникулярное – в большинстве семей работу возложили на школьников старших классов.
Вечером ребята, которых сменяли Боря и Юра, принесли им два длинных пастушьих кнута и рассказали, куда гоняют стадо с Бучумовской и прилегающих к ней улиц.
В половину пятого следующего дня, когда ещё было совсем темно, Луша разбудила ребят, накормила их пшённой кашей с молоком, дала по большому ломтю хлеба и куску варёного мяса и отправила в путь. Похлопывая кнутами, взяв с собой для помощи Рекса (старого сеттера, жившего у Стасевичей в Темникове), пошли по улице. Услышав мычание коровы Стасевичей, которую ребята гнали перед собой, и хлопанье кнута, заспанные хозяйки открывали ворота и выгоняли на улицу козу или корову. Если же кто-то задерживался, то мальчишки громко стучали кнутовищами в ворота и кричали:
– Эгей, стадо проспите!
Часов около шести они собрали всё стадо в конце улицы и погнали его вдоль Мокши, мимо песчаных карьеров и оврагов, в сторону Новосильцевской рощи, большой луг перед которой был отведён под пастбище для этого района города.
Стадо это имело около тридцати голов коров и тёлок и штук пятьдесят коз. Больше всего хлопот доставляли последние: они никак не хотели идти вместе с коровами и щипать ещё не очень вытоптанную траву, а норовили залезть в овраги, чтобы сорвать листья молодых осинок и орешников, росших по краям. Тут на помощь приходил Рекс, который, повинуясь команде пастухов, с громким лаем мчался в овраг и выгонял оттуда непослушную козу.
Первые дни ребята стеснялись своей новой должности, а затем, увидев, что над ними никто не насмехается, а даже как будто бы уважают, перестали.
А эта работа имела и свои прелести: во-первых, они целый день были предоставлены самим себе и могли делать всё, что им заблагорассудится, во-вторых, они получили право командовать большой группой живых существ, пусть даже животных, в-третьих, их должность дала им известный почёт не только дома, где к их возвращению всегда был приготовлен вкусный ужин, но и у всех владельцев скота. Вверяя им иногда единственную свою ценность на целый день, некоторые невольно старались заискивать перед тем, кому она доверялась. И часто вместе с выгоняемой коровой хозяйка выносила молодым пастухам несколько яблок, реп или чего-нибудь другого, прося их получше следить за какой-нибудь Бурёнкой или Пеструшкой.
Да, ещё было и в-четвертых! Ведь Юра и Боря среди мальчишек Бучумовской улицы пользовались особым авторитетом. Об их изобретениях и проказах говорила ребятня всей улицы, и потому, как только они стали пастухами, многие мальчишки их улицы стали их сопровождать. Если попутчики и не выходили вместе с выгоняемым стадом, то уже через два-три часа окружали обоих пастухов большой стайкой, слушая Борины рассказы из прочитанных им книг (а рассказывать он умел хорошо) или рассматривая какое-нибудь новое изделие Юры. Естественно, что такие рассказы и показы даром не проходили: и Юра, и Боря старались извлечь из них пользу, требуя от слушателей и зрителей выполнения большей части черновой пастушьей работы, довольствуясь сами ролью руководителей.
Правда, были свои минусы. Если Юра панически боялся пчёл, то Боря, может быть, только чуть-чуть в меньшей степени боялся коров. Ещё когда он жил в Николо-Берёзовце, как-то при возвращении из школы встретил стадо коров и рогами какой-то шалой коровёнки, которой он чем-то не понравился, был отброшен, наверное, на целую сажень. При этом он отделался лёгким испугом только потому, что упал в довольно большую копну сена. Но с тех пор он к коровам испытывал безотчётный страх. Необходимость управлять ими во время этой пастушеской эпопеи доставалась ему ценой большого напряжения нервов. Он был рад, когда розыски и возвращение в стадо отбившейся коровы мог поручить кому-нибудь другому.
Наконец, пастушья неделя наших героев окончилась, и они об этом даже жалели. После этого важные события в Бориной жизни начали развиваться с такой калейдоскопической быстротой и предполагали быть такими значительными, что он оказался захвачен ими, и всё остальное отодвинулось на второй план.
Закончив пастьбу скота, ребята снова уехали в лес, чтобы в оставшееся до школы время помочь собрать урожай и вновь заняться путешествиями по озеру, но заниматься всем этим им пришлось недолго. Хотя, между прочим, именно в это время Борис впервые взялся за косу, чтобы обкосить несколько лесных полян, так как от основного покоса Стасевич отказался.
Наступил конец августа, когда их снова вызвали в город, на этот раз прислали за ними лошадь. Тут они узнали следующее. Стасевичи получили документы из Польского посольства, дающие им право выезда на родину. Срок действия этого документа истекал первого января 1922 года. Видимо, им давалось время на ликвидацию имевшегося хозяйства. Им предстояло всё распродать, получить в Москве новые польские паспорта и ехать в Польшу. Пока вопрос об этом переезде был ещё где-то вдали, пока он был ещё только вопросом, всё казалось простым и лёгким. А когда всё уже окончательно решилось и потребовало немедленного действия, расставаться со всем нажитым, приобретённым и ехать, в сущности, неизвестно куда, а может быть, и зачем – всё стало неимоверно сложнее и труднее. Иосиф Альфонсович так привык к Темникову, к России, к своему Пуштинскому лесничеству, да что кривить душой – даже и к русской революции, что возвращение на родину, где у него не было никого, его не особенно и прельщало.
Совсем по-другому рассуждала Янина Владимировна: её семья имела довольно солидное поместье около Варшавы, по имеющимся сведениям, продолжала владеть этим поместьем до сих пор. Сестра, жившая в Москве, уже уехала на родину, и ей хотелось как можно скорее последовать её примеру. О будущем она не особенно беспокоилась: как-никак её муж – хороший специалист по ведению лесного и сельского хозяйства, и если уж не сможет поступить на государственную службу, то, во всяком случае, всегда найдёт должность управляющего имением, а может быть, будет хозяйничать в имении матери. Сама она имела диплом врача – очевидно, без практики не останется. Всё ей рисовалось в радужных красках, и она торопила мужа ускорить отъезд.
К сожалению, мы так и не узнали, как встретила панская Польша Стасевичей – выходцев из советской России.
Возникли серьёзные осложнения с Борей: Польское посольство ему в визе отказало категорически, следовательно, его приходилось оставлять в России. Стасевичи как-то не думали, что подобный отказ может последовать со стороны Польши, скорее, они опасались получить его от советского правительства. Случилось наоборот, и к этому они были совсем не готовы. Они уже привыкли считать Борю полноправным членом их семьи и полагали, что в Польшу выедут все вместе. И кто знает, как бы сложилась дальнейшая судьба Бориса Алёшкина, кем бы он стал, если бы действительно вместе со Стасевичами попал в Польшу.
Но… Судьбы человеческие настолько неопределённы и независимы от воли и желания самих людей, они складываются и протекают так причудливо и удивительно, что нет ничего странного, что и судьба этого мальчика сложилась совсем по-другому, чем, может быть, представляли Стасевичи.
Уже всем пора бы, кажется, убедиться, что в жизни встречается так много всяких «но», что просто голову теряешь, как это всё-таки людям удаётся добиться выполнения тех или иных своих желаний. Впрочем, это уже размышления, вернёмся к фактам.
Что же делать с Борей? С собой в Польшу его взять нельзя. Оставить в Темникове? У кого? У его тётки или у Армашей – невозможно. Соглашались взять его Ромашковичи, но те тоже собирались из Темникова уезжать, куда же он тогда денется? Отдать его в приют, вновь открывшийся в Саровском монастыре, что настоятельно советовала Елена Болеславовна, жалко: говорят, что детишки там мрут, как мухи, с голоду и разбегаются от горе-воспитателей.
– Вероятно, придётся отправить его в Кинешму к дяде Мите, он к племяннику относился неплохо. Родной дядя! Ну а его жена – ведь не зверь же она, не съест ребёнка. И если надумают отдать в приют, то пусть уж они делают это сами – всё-таки родные.
– Да, ничего не поделаешь… Придётся так и поступить. Правда, от Дмитрия Болеславовича последний год никаких известий не было, но он, кажется, жив.
Так думали, советовались между собой Стасевичи, Армаш и Неаскина. И вот в первый раз в жизни при решении его судьбы он был опрошен сам. Борис категорически отказался остаться у тёти Лёли, хотя та этого и не предлагала, не захотел он отправляться и в приют, а заявил, что лучше пойдёт на поиски дяди Мити или отца.
Был в Темникове ещё один человек, желавший оставить Борю у себя, это его «третья бабушка» – Анна Никифоровна Шалина, но Стасевичи, зная её бедственное материальное положение, на это предложение не согласились.
В конце концов, решили отправить Бориса Алёшкина в Кинешму. Начались сборы. Прежде всего, его надо было хоть немного одеть. Остатки костюма, сшитого полгода тому назад, были в таком плачевном виде, что в них ещё можно было ходить по Темникову, но выпускать мальчика в них в свет, как выразилась Янина Владимировна, казалось немыслимым.
Пришлось снова его обшивать. В качестве материала использовали старый костюм Иосифа Альфонсовича. Это перешивание решили поручить портному. Был такой старичок в Темникове, некто Еремеич, который мог из любой, даже самой старой вещи что-то ещё «соорудить», как он поговаривал, но он был завален заказами: все готовились к новому учебному году. Пришлось произвести переделку домашними средствами: няня Марья и Луша старались, но сделали работу не очень умело. В результате получился «кустюм», как его называла няня Маня, висевший на его владельце как на вешалке. Одновременно сшили ему и новую пару белья.
Всё это время Борис, как и все члены семьи Стасевичей, болел. В то время в стране свирепствовали самые различные инфекции: все, какие только существуют, тифы, дизентерия, а в некоторых местах и холера. В Темникове, кроме холеры, все эти заболевания имелись, но так получилось, что никто из членов семьи Стасевичей ничем таким не болел. Разве только Варвара Аполлоновна, перенёсшая очень тяжёлую форму дизентерии и долго от неё поправлявшаяся.
Имелось распоряжение, чтобы все люди, совершающие поездки по железной дороге, имели справку о специальных прививках, без этого никому не продавали билеты. И вот всем собиравшимся в путь эти прививки, или, как тогда говорили, уколы, надо было сделать. Хотя Стасевичи уезжали не так скоро, но Иосиф Альфонсович посчитал, что прививки оптом будут дешевле.
Все уколы производились военным фельдшером в специальной амбулатории, находившейся недалеко от дома Ромашковичей. И то ли у этого эскулапа действительно были затруднения с прививочным материалом, то ли он как человек не очень добросовестный, решил сделать из этого побочный источник дохода, но только производил он уколы не всем, кому они были нужны, а только тем, кто мог внести за них некую мзду. А так как без уколов выехать из Темникова куда-либо было невозможно, то и несли ему все. Стасевичам эти прививки обошлись в солидную банку мёда и кадушечку солёных грибов. Лекарь за эту плату «постарался»: вкатил, наверно, каждому такую дозу материала, что все привитые на второй же день свалились с высокой температурой и проболели около десяти дней. Они чувствовали себя так скверно, что уже подумывали отказаться от продолжения прививок, а надо было сделать ещё по два укола. Однако боязнь заражения в дороге пересилила, и пришлось пройти эту экзекуцию до конца.
Удивительно, но следующие уколы были менее болезненны и не вызвали такой сильной реакции, как первый.
Наконец, все получили справки о прививках. Между прочим, злые языки говорили, что этот фельдшер иногда, конечно, за более высокую плату, вообще никаких уколов не делал, а только выдавал справки. Но Янина Владимировна, как врач, в пользу прививок верила и настаивала на их проведении.
Теперь оставалось найти Борису попутчика, с которым он бы смог доехать до Москвы, дойти до квартиры Околовых – родственников Маргариты Макаровны Армаш, которым уже было написано письмо с просьбой посадить мальчика в поезд, отправляющийся в Кинешму, с тем, чтобы дальше он уже добирался сам.
Вскоре попутчик был найден. В Москву к своей внезапно заболевшей матери выезжал учитель пения, Пётр Васильевич Беляев. Лучшего попутчика трудно было и желать: он хорошо знал Борю, так как не только был его учителем, но довольно часто встречался с ним у Стасевичей, которые даже в это трудное время иногда устраивали у себя музыкальные вечера. На них Иосиф Альфонсович пел (у него был хороший тенор), Янина Владимировна и Маргарита Макаровна в четыре руки играли на рояле, а Пётр Васильевич – на скрипке. Играл он очень хорошо, и все любили его слушать. На этих вечерах часто бывали все дети, с удовольствием слушавшие игру взрослых, в числе их и Борис.
26 августа 1921 года, через десять дней после своего четырнадцатилетия, которое, конечно, никто не праздновал, Борис Алёшкин вторично покидал Темников, на этот раз уже навсегда.
С грустью расставался он с семейством Стасевичей, где, несмотря на довольно тяжёлый для его возраста труд, довольно суровое содержание, он был всегда сыт, жил, по его понятиям, свободно, чувствовал себя полноправным членом этой семьи и по-мальчишески был счастлив. Как всякий подросток, он был рад новому путешествию, новой обстановке, которая его ожидала, но при расставании со всеми своими друзьями и их родителями, вышедшими его проводить, он испытывал какую-то непонятную, щемящую сердце боль; в носу почему-то щипало, и глаза заволокло каким-то туманом. А провожали его все: и Стасевичи, и Армаши, и Ромашковичи, и Анна Никифоровна Шалина, и Гуськовы, и многие другие знакомые ребята; не было при его отъезде только двух людей – единственной родной тётки и её дочери.