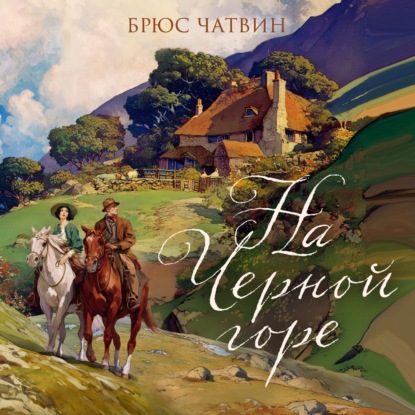Полная версия
Когда наступит тьма

Жауме Кабре
Когда наступит тьма
Маргарите
Мертвецов я уважаю; даже когда они еще живы.
Эммануил РоидисНе так уж это трудно, умирать.
МанфредКлянусь, это был несчастный случай.
Популярное высказывание неизвестного автораJaume Cabré
QUAN ARRIBA LA PENOMBRA
Copyright © Jaume Cabré, 2017
All rights reserved
Перевод с каталанского Александры Гребенниковой
В оформлении переплета и суперобложки использована картина Жана-Франсуа Милле «Смерть и дровосек» (1859).

Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

© А. С. Гребенникова, перевод, 2022
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022 Издательство Иностранка®
Мужчины не плачут
1– Папа, не бросай меня одного.
– Ты не один. Смотри, смотри. Видишь, сколько детей во дворе?
– Я хочу домой.
– Домой нельзя.
– Тогда останься тут со мной.
– Не говори глупостей!
– Папа…
– Ох, ну не плачь же, сука.
– А как же мама?
– Я же сказал тебе, не реви! Запомни навсегда: мужчины не плачут.
– Папа…
– Я в воскресенье приду тебя навестить, хорошо?
– Папа…
– Плакса. Ну, поцелуй меня. Давай же, поцелуй меня, паскуда! Что, не хочешь? Тогда в воскресенье не приду. Сам виноват. И слушайся старших, понял? Чтоб мне не жаловались на твое поведение.
Новые, незнакомые, угрожающие тени; таинственные шорохи и звуки, каких он никогда не слышал по ночам. Кашель незнакомых детей. Широко раскрыв глаза, новичок решил не засыпать, чтобы никакое чудовище, затаившееся во мраке, не застало его врасплох. Пристально глядя во тьму, он завидовал тихому храпу, раздававшемуся неподалеку. И думал, что ночь будет томительно долгой. А главное, зачем же папа… Как же… Пока тени не смешались и он не решился наконец сказать, мама… Мама, что с тобой случилось?
Что за вой! Ужас нового дня застал его врасплох. Он понял, что хоть и боялся, а задремал, так и не сумев защититься от чудовищ. А теперь злобный голос орал ему: «Эй, ты, да, ты, я тебе говорю, ты чего, возомнил себя принцем из третьей палаты? Вставай, пошевеливайся!» Наскоро разгладив простыни, дети молча спешили куда-то с полотенцами и зубными щетками, которых у него не было, и почему же папа не захотел, чтобы я, ведь можно было дома, правда… Да? Эй-ты еще не знал, где туалет. Просто сел на кровать и заплакал. И тут отвратительная рожа орущего надзирателя наклонилась к нему, оказавшись возле самого его носа, и так зверски на него рявкнула, что он в ужасе опрокинулся на постель. Это было жуткое лицо, краснощекое, с выступающими скулами. А от воплей становилось еще страшнее. Потом я узнал, что горлодера зовут Энрик, но он всех заставлял его звать Энрикус. Щеки у него были малиновые, голос резкий и противный, а обязанности состояли в том, чтобы будить ребят, следить за тем, чтобы на переменах никто не прыгал через острый частокол и не напоролся на него, как оливки нанизывают на палочки для мартини, – поди, слыхали, что это такое, а? Еще он чинил громоздкие стиральные машины и обслуживал котлы отопления. Стриг мальчишек налысо. Лапал нас в душе. И скорее всего, заведовал чем-то еще: мы постоянно видели, как он шастает туда и сюда, следя, чтобы ничего от него не ускользнуло. Были там и поварихи, и крестьянин, копавшийся в огороде на задворках. И монахини, молчаливо пролетавшие мимо по коридорам в головных уборах, похожих на крылья чаек, и учившие нас всякой ненужной ерунде, все, кроме сестры Матильды: она единственная смотрела нам прямо в глаза и иногда трепала по щеке, чтобы ты улыбнулся. И учила неграмотных читать. Над ними начальствовала настоятельница с на редкость злобным взглядом. Томас уверял, что именно такие глаза у дьявола.
– А к тебе почему никогда и никто не приходит?
– Не твое дело. Понял?
И больше у меня никто об этом никогда не спрашивал. Мамочка, папа меня не навещает.
– Томас.
– Чего тебе.
– Ты в этом уверен?
– В чем?
– В том, что у настоятельницы взгляд точь-в-точь такой же, как у дьявола.
Триста ребят в главном корпусе. Тридцать мальчишек в третьей палате. Трое друзей: Тони, Тон и Томас; он к ним примкнул. И не решался ни у кого спросить, почему именно мой отец никогда меня не навещает? Ведь он же мог бы меня навестить? У кого это можно узнать? И почему нельзя пожаловаться настоятельнице, что Энрикус пристает ко мне, когда мы в душе?
– Она тебя прямиком пошлет ко всем чертям.
– Я не хочу, чтобы Энрикус меня лапал.
– Потерпишь.
– Стой, стой, стой! – вдруг завопил Эй-ты, немного помолчав.
– Чего ты опять завелся…
– Ведь черти в аду, а ад для мертвых. А я еще жив!
– Тогда она прихлопнет тебя, как муху, а потом уже пошлет к чертям.
– Вот так номер.
Папа, сегодня опять воскресенье. Что же это такое? По воскресеньям ты не приходил еще ни разу, папа. Ты никогда не приходил. Сегодня дядя Тона принес мне пакетик леденцов. Я спрячу их под подушку. Я хочу, чтобы их хватило на много лет, на случай если ты так и не вспомнишь, что пора бы прийти меня навестить. Мама…
Энрикус ухватил его за ухо и выволок на середину коридора, ай-ай-ай, ай-ай-ай, как больно, как больно, как больно, как больно. Ухо покраснело, как помидор, и страшная боль не убывала.
– Эй, ты, дубина, сказано тебе: сладости в постели хранить запрещено! Ты что, не в курсе? А?
– Из шкафчика их у меня утащат.
– Ты что, возомнил, что твои товарищи – воры? Стыд какой! Как ты смеешь?
– Просто у меня как-то раз…
– Здесь воровства быть не может, и не рассказывай мне сказки.
– Но ведь…
– Кто, интересно, их у тебя утащит. Назови имена и фамилии.
– Я их не знаю. Я не знаю, кто у меня ворует.
– Клеветник!
– Я же не знаю…
Энрикус снова крутанул его ухо, наклонился к нему поближе и заорал, я же не знаю, я же не знаю – лишь бы напраслину наговорить на других. Давай-ка тащи сюда свои леденцы.
Некоторые ребята смеялись себе под нос, потому что всегда лучше быть на стороне того, кто выигрывает, а Энрикус выигрывал всегда. Поэтому они и смеялись. Я тоже иногда так делал.
– Мне их подарил… подарила мама.
– Твоя мать леденцов тебе не приносила, болван, это невозможно!
– Приносила!
– Не приносила! Ее нет в живых!
– Очень даже есть!
– Мертвецы никому леденцов не приносят, дубина, а самоубийцы тем более, уяснил, хлюпик? – И повелительно махнул рукой. – Давай сюда леденцы, живо!
На следующий день мы мылись в душе, так как была суббота, и ухо у меня было все еще распухшее, а Энрикус подгонял ребят свистками, чтобы не задерживались, загонял под душ тех, кто не вымылся как следует, мылил какие-то шеи. Он стал меня ощупывать и сказал, если будешь хорошим мальчиком, я больше никогда не буду драть тебя за уши. И я до конца был хорошим мальчиком, но он не вернул мне мамины леденцы. Однако слово свое он сдержал: с того дня он за уши меня уже не драл, зато награждал подзатыльниками, от которых голова болела страшно; просто раскалывалась. А монахини молча пролетали мимо нас по коридорам, даже сестра Матильда, и никто не слышал, как я плачу оттого, что Энрикус меня лапает и бьет, и что же папа ко мне никогда не приходит. И ни за что на свете мне не хотелось встретиться с дьявольским взглядом настоятельницы. А мои друзья, с присущим им тактом, как-то раз, когда рядом никого не было, пихнув друг друга локтем в бок, решили, что пусть лучше Томас задаст мне те вопросы, которых я так страшился.
– Как твоя мать покончила с собой? Э? А когда? Давно? Э? А почему? А ты ее мертвую видел? Она там висела? Или что? Э? И я бросился бежать по еще незнакомому коридору, зажав уши руками, потому что не хотел ничего больше слышать и потому что мне было стыдно перед ними плакать, и так обнаружил котельную, куда, кроме как при авариях, никто никогда не заглядывал, даже крысы. И с тех пор они больше никогда ничего про маму не спрашивали.
Зато я долго не мог понять, почему Энрикус время от времени говорит, по ним тюрьма плачет. Кто-то из ребят постарше, кому было лет десять или даже больше, чуть не лопнул со смеху над моей наивностью и объяснил, что не тюрьме вдруг стало грустно и печально, а это он про нас, Эй-ты, до тебя не доходит? А я сказал, доходит, ладно, да, но сам так и не понял, какое до нас дело этой тюрьме. В тринадцать лет я уже знал, о чем речь, и после не мог не надивиться дальновидности этого громилы, у которого все мы ходили по струночке. А бесшумные монахини и дальше втолковывали бесполезные истины на едва нам понятном кастильском наречии, в классе, где на самом видном месте висел прибитый к кресту Иисус, а по бокам от него – фотографии напомаженных разбойников в парадных мундирах, с каждой стороны по одному.
2В первый раз мы вчетвером задумали убить Энрикуса, начитавшись комиксов про Фантома и Капитана Грома, которые ходили по рукам тайком от монахинь. В то время нам уже знакома была дорога на волю сквозь разбитое окно в обнаруженной мной котельной. Как-то раз мы собрались за яблонями в саду, чуть поодаль от колодца, который служил нам ширмой на случай, если кому-нибудь из приюта заблагорассудится посмотреть в нашу сторону. Мы установили за ним слежку: по субботам и воскресеньям под вечер Энрикус отправлялся тратить деньги; на танцах он тоже время от времени бывал, но по возвращении оттуда вид у него был мрачноватый.
– Стало быть, женщины его не любят, – заключил Томас, самый развитой из нас четверых.
– Все ясно, – солидно ответил я. И все остальные тоже кивнули в знак того, что отлично понимали, о чем речь.
– Это должен быть лучший в мире план.
– Точно.
– Только лучший в мире план – дело нешуточное.
После длительных раздумий мы решили собраться в полночь и отправиться на чердак, где находились комнаты Энрикуса, кухарок и работниц, проживавших в интернате за неимением собственного угла.
– Распахнем дверь одним ударом, накинемся на него и задушим подушкой.
– И воспользуемся эффектом неожиданности, – уточнил Томас. И все четверо впервые в жизни почувствовали, что мы чего-нибудь да стоим.
– И нужно будет замести следы.
– Я бы нарисовал на стене знак Зорро.
– Эй-ты, молоток: спасибо тебе, здорово ты это придумал. Так все подозрения падут не на нас, а на посторонних.
– Ага, на Зорро, – добавил Тони, на которого моя хитроумная стратегия произвела неизгладимое впечатление.
Так мы разрабатывали лучший в мире план. В мельчайших подробностях. Тони прикарманил три десертных ножа на случай, если жертва окажет сопротивление.
– А если начнет бузить, мы ему эту штуку отрежем.
– Какую штуку отрежем? – полюбопытствовал Эй-ты.
– Паяло, пацан.
– Ага, ясно. – Почтительное молчание. – А что это за паяло?
– Пипиську.
– Ага, ясно.
В условленную ночь нас застигло непредвиденное событие: мы легли в постель с широко раскрытыми глазами, твердо решив бодрствовать, однако, когда наконец настала полночь, все четверо спали крепким сном. На следующий день мы решили дать себе еще один шанс и посчитали, что самое разумное – это дождаться, пока сестра Эужения выключит свет и выйдет из палаты номер три, и тут же встать с постели и ждать, стоя у кровати. Как крутые парни.
– Эй-ты! Чего стоишь?
– Ничего.
– Она ведь может вернуться… Ты что, хочешь, чтобы нас отчитали, а?
– Шшшш, не кричи. У меня просто ногу свело, и…
– Хочешь, позову монахиню или Энрикуса?
– Не надо. Мне уже лучше. Спи давай!
– Как скажешь.
И мой сосед, что слева, отвернулся, кажется несколько обиженный. В темноте я разглядел три тени, у которых тоже ногу свело, и впервые в жизни почувствовал себя членом команды. Еще до конца этого не понимая, я начинал любить трех своих друзей.
Ужасно трудно стоя не заснуть, когда до смерти хочется спать. Мы тихонько подошли друг к другу задолго до того, как пробил колокол на часовне, и почти без доводов пришли к выводу, что для нашей затеи не имеет смысла ждать наступления полуночи. Можно все провернуть, например, часов в десять. Нужно только, чтобы враг заснул.
Наша вторая попытка его убить увенчалась успехом. Но при этой, первой, попытке мы были еще слишком зелены, и наша наивность все испортила. Когда пробило десять, мы поднялись по главной лестнице, по стеночке, объятые таким чудовищным испугом, что сердце готово было вырваться у меня из груди. Мы дошли до третьего этажа и в темноте решили большинством голосов, что третья дверь ведет в комнату Энрикуса. Потому что во тьме все выглядит иначе и сразу начинаешь во всем сомневаться.
– Точно?
– Дддда. Или нет?
В это мгновение мы услышали шум и все четверо превратились в рисунок на обоях. Дверь с другой стороны коридора, открывшись, вытошнила пятно света, окрасившее пол, и на него упала тень, когда Энрикус вышел из комнаты, застегивая ремень, оглядываясь и странно высовывая язык. Он сам закрыл дверь, которая тут же погрузилась во мрак, и во тьме стал продвигаться по коридору к третьей комнате, которую мы сторожили. Он тихо, в темноте туда вошел и заперся на ключ. Нас он не заметил, потому что мы все еще были узорами на стенах.
– Поехали: распахиваем дверь и душим его.
– Не выйдет, он не спит. Придется часок подождать.
– Блин, целый час!
– К тому же он на ключ закрылся.
– Точно?
Тут в непосредственной близости от нас раздался шум, и дверь комнаты Энрикуса открылась; лишь слабый свет отделял его от окружающего сумрака.
– Какого черта…
Я никогда так быстро не спускался в темноте по лестнице, как в ту ночь. Мы добежали до палаты номер три за несколько секунд. Не знаю, по какой причине Энрикус не поднял тревогу и не сообщил о происшествии монахиням, но вниз он спустился и зашел в спальню, не включая света, и долго бродил туда-сюда, поглядывая на спящих мальчишек и пытаясь решить, спят ли они на самом деле. Кошмар. Но мы остались в живых. Энрикус тоже. И все мы позволили лету прийти.
3– Тони.
– Чего.
– Почему Томас всегда говорит, что нужно отрезать ему паяло?
– Потому что как-то раз он ему вставил в жопу.
– Ага, ясно.
– Томас постоянно повторяет, что убьет его, если он еще раз так сделает.
– До или после того, как отрежет паяло?
Прошли годы, мы выросли, и в нашей компании установились свои правила. Томасу было достаточно на нас взглянуть, и мы ему повиновались. Эй-ты с каждым днем пользовался все большим авторитетом, потому что разучился бояться раньше, чем Тон и Тони. Сменялись монахини и, ускользая из нашей жизни, даже и не прощались, как будто наша судьба не имела никакого отношения к их существованию. Энрикус был уже немолод и всякий раз взвешивал все за и против перед тем, как привязаться к нам, подросткам с легким пушком над губой и ломающимся голосом. Ему больше нравилось проводить время в душе с малышней. А жизнь нашей компании шла своим чередом. Тон, Тони и Томас, который так много знал. И я, хоть и витал всегда в облаках, чувствовал, что мне нравится жить без страха. Я узнал много нового: Тон научил меня думать о завтрашнем дне. Тони – говорить то, что думаю. А Томас объяснил мне все, что нужно знать о сексе, а в тринадцать лет это единственное, что действительно важно. Но никто еще не сказал мне, что было причиной самоубийства моей матери. Это первое, о чем я спросил бы папу, если бы он пришел, папа, из-за чего мама покончила с собой. Но он все не приходил… Честно говоря, я даже не знал, жив ли он; может быть, и он наложил на себя руки. А еще мне три раза пришлось столкнуться с дьявольским взглядом настоятельницы, все три из-за разной ерунды, связанной с Энрикусом, как будто он был нашим единственным врагом. Наверное, его там держали именно для этой цели, чтобы он сделался главным врагом, а монахини могли пролетать мимо нас по коридорам в мире и покое. Мы заметили, что Энрикус питает слабость к светлоголовым мальчикам, но наши моральные устои не позволяли нам обсуждать это с монахинями или родными, у некоторых имевшимися. Но как-то раз, услышав горький плач светловолосого первоклассника, я решился, ни с кем не советуясь, и прямиком направился к настоятельнице с дьявольским взглядом, который был уже не таким дьявольским, и она вместо приветствия спросила, «что с тобой, сын мой; скажи мне откровенно»; а когда я начал говорить, оборвала меня на полуслове и спросила, зачем ты наговариваешь на взрослого человека? А? А? Эй-ты без страха посмотрел ей в глаза и несколько секунд помедлил. Это молчание пришлось ему весьма по душе. Эй-ты еще не знал, что делает важный шаг в своей жизни. Вместо ответа он решил задать другой вопрос:
– Наговаривать – это значит говорить неправду?
– Это… ну, в общем… означает желать зла… и хотеть причинить вред.
– Ведь это же правда, что Томасу Энрикус в жопу вставил. Два года назад. Под Рождество.
– Как у тебя язык повернулся такое сказать, богохульник!
– Проверьте, на что похож его задний проход, и сами поймете, клевета это или нет. У меня нет никакого желания быть следующей мишенью.
– Не кощунствуй!
– А как это назвать по-другому? Вы же сами меня спросили? – В те дни Эй-ты понял, что неудержим, когда на него накатывает ярость. – Разве я неправильно расслышал «что с тобой, сын мой; скажи мне откровенно»? А? Отлично, я так и сделал. Энрикус, сука, губит эту малышню в душевых, черт вас дери! Поглядите, как ревет мальчишка из первого класса, паскуды! Суки!
Пощечина. Он даже не заметил, как настоятельница встала, чтобы дотянуться до его щеки, и снова села за разделявший их стол, как кобра, которая нападает и прячется, Эй-ты сосчитал до пяти, чтобы успокоиться, как научил его Томас в тот день, когда за колодцем один из старших показал им несколько полезных в жизни приемов дзюдо.
– Сестра Матильда мне бы поверила.
– Сестры Матильды здесь больше нет.
Сколько бы Эй-ты ни считал до пяти, терпение у него уже тогда было короче, чем рукава у жилетки, и начинали пользоваться широкой известностью присущие ему приступы ярости. А потому в тот день, когда настоятельница повторила, чтобы он прекратил клеветать и кощунствовать и что она ничему, ничему из того, что он ей толкует, не верит, Эй-ты все разложил ей по полочкам, особенно напирая на те слова, которые были ей неприятны, как достойный ученик Томаса. Я рассказал ей страшные вещи, чтобы посмотреть, не заставит ли это ее наконец мне поверить. Ведь когда тебе все до лампочки, ты уже ничего не боишься.
В карцер. Будешь сидеть в карцере, пока мы не решим, что с тобой делать.
– За что?
– За то, что ты грубиян, нахал, богохульник и шарлатан.
Это меня преобразило. Эй-ты вошел в карцер, затянутый мерзкой паутиной, не проронив ни слезы, потому что в глубине души знал, что это было только началом войны, в которую он впутался. Ему было слышно, как в интернате кто-то кричал и негодовал, и он молча улыбался, как Берт Ланкастер[1], хоть еще никогда и не видел его в кино. До него доносился шум и топот. И вот в один прекрасный день на смену окрикам Энрикуса и его резкому голосу пришел пронзительный свисток, который Эй-ты сразу же, с первой же минуты, возненавидел. Мне это все преподнесли на блюдечке, когда я вернулся героем в палату номер три. Эй-ты навсегда разучился бояться, потому что с честью выдержал взгляд настоятельницы. Потому-то он и вернулся из крысиного чулана с самодовольной улыбкой, сразившей его приятелей наповал.
– А имя у него есть, у этого типа со свистком? – спросил он, даже не удостоив взглядом тех троих, стоявших вокруг него.
– Игнази, но мы зовем его Игнациус.
– Все ясно. Слушай, Томас, кто такой шарлатан?
– Точно не знаю. Ругательство какое-то.
– Значит, мать настоятельница меня обозвала неприличным словом. Может, укокошим ее за это?
Все четверо расхохотались. Им нравилось снова быть вместе. Но Эй-ты, герой, покоритель бесплодной пустыни, казался выше всех ростом и самым отважным, и Томас понемногу с этим смирился.
Шли дни, наши плечи окрепли, грудь обросла волосами. Эй-ты пережил пару стычек с Игнациусом, что было само по себе неизбежно: тот время от времени виделся с Энрикусом и просил у него совета; а бывший надзиратель, без сомнения, не упускал удобного случая выставить Эй-ты в худшем свете, как ябедника и болтуна. Игнациус взял себе в привычку, по примеру Энрикуса, свистеть из своего свистка Эй-ты в лицо, подойдя к нему поближе, как будто нечаянно. А Эй-ты улыбался и терпел, потому что считал себя выше добра и зла. До того самого дня, когда, улыбаясь, смазал ему кулаком по губам, чтобы загнать свисток в глотку, а дети залились смехом, потому что чувствовали, что Эй-ты теперь главный, и Эй-ты подумал, что все пошло бы отлично, если бы не было того, что было.
Иногда наступало лето, и многих мальчишек на несколько недель забирали домой; в интернате оставались только те из нас, у кого не было никаких, то есть совсем никаких родных. И мне казалось, что я научился не думать ни об отце, ни о матери, вообще ни о ком, даже когда в монастыре было тихо. И так катилось лето за летом.
4Когда все формальности были соблюдены, а монахини угомонились и перестали скользить по лестницам вверх и вниз, заглядывая в папки и собирая бумаги, именно Игнациус распахнул зарешеченные ворота, желая удачи тем из нас, кто с небольшой суммой денег в кармане в качестве прощального подарка уходил во взрослую жизнь, потому что для приюта мы по возрасту уже не подходили, а никто из родственников не согласился забрать нас к себе. Когда подошла моя очередь, вместо того чтобы пожелать мне удачи, как тем троим или четверым, за кем я следовал в тот летний день, Игнациус замялся и прошипел: «Эй-ты, иди в жопу». С деньгами в кармане Эй-ты чувствовал, что непобедим: он подошел к Игнациусу нос к носу и сказал, хочешь, я снова загоню тебе в глотку свисток, паскуда? И спокойно вышел за зарешеченные ворота богоугодного заведения, дававшего ему приют в годы детства и отрочества. Оттого, что он вдруг оказался на улице без всяких средств к существованию, кроме рук в карманах и бумажки с тремя адресами, по которым ему, возможно, нашли бы какую-нибудь работу, ему было ни жарко ни холодно. По дороге на трамвайную остановку мне показалось, что я услышал за спиной шелест монашеского облачения, но я даже не обернулся. Я был у истоков своего славного будущего, и мне хотелось встретиться с ним лицом к лицу.
Дверь не открывали. Возможно, это было даже к лучшему; но он знал, что больше никогда по этой лестнице не поднимется. И на всякий случай нажал на кнопку звонка. Звук раздавался ржавый и пыльный. Он огляделся вокруг, на темную и тихую лестничную клетку, на окна с потускневшими и грязными стеклами в каждом лестничном пролете. Никаких воспоминаний об этом у него не было; как будто он пришел сюда впервые. Он еще раз позвонил в дверь. И на несколько мгновений подумал, а лягу-ка я спать прямо тут, на лестничной клетке, и если он еще жив, то пусть меня разбудит, когда вернется. И тут Эй-ты услышал шарканье еще довольно бодрых шагов, приближавшихся к двери.
– Кто там?
Голос был унылый, почти незнакомый. Вместо ответа он снова нажал на кнопку звонка. Послышалось бренчание засовов и цепочек, и дверь открылась. Свет в квартире был тусклый, а человека, который его удивленно рассматривал, он не узнал.
– Чего тебе?
Он так долго ждал этой минуты, что не знал, какие именно выбрать слова.
– Привет.
Мужчина напряженно вгляделся в непрошеного гостя. Потом вынул из кармана очки и нацепил их. И дальше смотрел на него, не понимая, в чем дело.
– И что? – спросил он, нетерпеливо вздыхая.
– Ты обещал, что будешь навещать меня каждое воскресенье. И за двенадцать лет воскресений прошло немало.
– Да кто ты такой?
– И каждое воскресенье я говорил себе: сегодня, я уверен, он придет и принесет мне сладкой ваты на палочке.
– А, сука, вот ты кто. Ну и вымахал ты.
– Да. Я все думал: у моих одноклассников есть фотографии с родителями, но вот сегодня ко мне придет папа, и мы тоже сфотографируемся. Можно я зайду?
– Ну и как твои дела, – промямлил человек без всякого интереса.
– Каждое воскресенье я ждал, что в это воскресенье ты придешь. И все напрасно. Ты что, работал не покладая рук?
– Да уж на месте не сидел.
– Можно я зайду?
– Не надо. У меня тут все очень…
– Пойдем пообедаем, тут внизу есть ресторан. Мне дали пятьдесят песет…
– Гляди-ка, как тебя балуют.
– Мне их дали, чтобы я нашел работу.