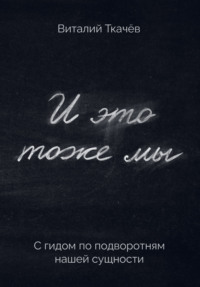Полная версия
Радость наоборот. Стихи для тех, кому сейчас грустно…

Виталий Рудольфович Ткачёв
Радость наоборот. Стихи для тех, кому сейчас грустно…
Моей святой маме, Эльвире Александровне (Вере), посвящается…
© Виталий Ткачёв, 2023


Грусть
От автора
А есть ещё такая версия, —что вымирает в нас поэзия.Глеб ГорбовскийА есть ещё такая версия…Почему кто-то решил, что у поэтических произведений не может быть авторского предисловия? У прозаических произведений может, а у этих нет. Почему кто-то решил, что поэт не должен сам вводить читателя в свои сочинения? Критики, литературоведы и примкнувшие к ним для компании писатели должны, а поэты нет. Возможно, что поэты спят и видят себя не какими-то там игрушечными, потешными, соломенными, надувными, плюшевыми, а только самыми что ни на есть истинными, «настоящими», как завещал им предусмотрительно и заботливо великий философ Сократ в платоновском диалоге «Федон» ещё аж в IV веке до н. э.: «Поэт – если только он хочет быть настоящим поэтом – должен творить мифы, а не рассуждения». Так вот в чём, оказывается, коленкор. Виноваты Сократ с Платоном, ориентированные своими вкусами на образцовое содержание поэм бессмертного и потому наполовину мифологического поэта Гомера. «Настоящие» поэты должны заниматься мифотворчеством, а не писать предисловия, которые по своей сути являются самыми что ни на есть рассуждениями. Надо скрывать свои истинные мысли – тогда ты только лишь получаешь возможность стать поэтом, причём «настоящим» по природе. Такова, видимо, удобная логика духовных потомков философов.
Почему кто-то сказал, что каждый, кто читает стихи, может увидеть или отыскать в них что-то исключительно своё собственное и, более того, даже ту скрытую, завуалированную мысль, которую сам автор ни единым словом и не помышлял запрятывать? При этом все поэты, как один, будто сговорившись, против этого тезиса и не возражают как бы, а зачем? Пиит написал, пиит творение своё всем показал, и потянулся следом за усердно пыхтящим паровозом длинный товарный состав, гружённый переработанными отвалами критики: он хотел передать это, он выражал то, в этом скрыт такой-то смысл, в том – другой, иной, более глубокий, нежели кажется при беглом чтении на первый взгляд. Всегда приятно, когда тебя считают умнее, мудрёнее, глубже, чем ты есть на самом деле в этой поверхностной жизни, пусть на второй, третий или даже четвёртый взгляд по заказу. А почему бы и самому себя после этого таковым, то есть особенным, не посчитать? Ну не признавать же собственноручно и во всеуслышание на самом деле:
Что сам я глупый, глупый поэт[1].Может быть, и правда, со стороны, через дорогу, с противоположного конца, по-есенински[2], виднее, какой всё же ты, поэт, большой, гениальный и эпохальный? Все вокруг вертятся, толкаются, взмахивают пухленькими ручками, тают от восхищения и делают поэту восторг, прямо-таки гоголевская живая картинка из «Ревизора», когда ахающий Бобчинский делится с тёзкой Добчинским впечатлением о своей встрече с Хлестаковым: «Вот это, Петр Иванович, человек-то! Вот оно, что значит человек! В жисть не был в присутствии такой важной персоны, чуть не умер со страху». Поэтому и не стоит поэту ради подобного к себе отношения вылезать из глубокой норы рифмующего работника со своими разумными разъяснениями, разочаровывать, так сказать, одержимых археологов, трудолюбивых копателей его творчества.
Однако в реальности всё не совсем так, скорее всё же совсем не так, и уж точно всё совсем наоборот, поскольку стихотворение по своей сути – это обычный прозрачный аквариум, куда поэт запускает понравившихся ему самому разноцветных рыбок разных видов. Любоваться, следовательно, можно только тем, что в этом резервуаре плавает, и не чем иным. Мифы, как известно из школьной программы зоологии, к животному миру не принадлежат и в наполненных чистой водой аквариумах не водятся никак и никогда сами по себе и даже с помощью поэтов. Рыбы – это образы, а не мифология. Стихотворение ценно именно образами, передающими мысль, а не собственными придумками по поводу отсутствующей в аквариуме живности. Поэт может и должен сам говорить простыми словами о своей поэзии, вернее, о своих сокровенных чувствах, переданных в виде конкретных образов. Ему нечего бояться, если он, конечно, тот самый «настоящий поэт». Такой никогда не будет скрываться за пресловутыми фразами напускателей всяких густых туманов и взбаламученной мути: «Я так вижу» или «Я так чувствую». Лукавство? Да, несомненно. Ибо всегда и у всего, и даже в душе, и даже у художника, есть исток самовыражения, и он его, этот исток, однозначно культивирует, рационально, сознательно ощущает в себе. «Ex nihilo nihil fit»[3] – любил говаривать в свою седую бытность старина Парменид. С тех пор так ничего в этом неоспоримом его утверждении и не поменялось, пусть ты и отправил в воздух замысловатые пузыри или «в небеса запустил ананасом»[4]. Искусство осталось искусством, а не превратилось в словоблудие. Человек – да, изменился, стал словоблудом искусства, а за ним, видимо, подался и доверчивый к своему натуралистическому времени жалкий до попрошайничества художник. Он что, не удачная имитация человека разве?
Когда-то Владимир Маяковский иронично возмущался, что после смерти ему не придётся стоять непосредственно рядом с Александром Пушкиным, поскольку между ними будет расположен (формально по алфавиту) скудный поэт Семён Надсон, которого, чтобы не портил компанию, он предлагал отодвинуть на букву «Ща»:
Чересчур страна моя поэтами нища.Между нами – вот беда — позатесался Надсон.Мы попросим, чтоб его куда-нибудь на Ща![5]Я уж точно (даже в шутку) не буду расстраиваться, что от Пушкина меня будет отделять, скажем, какой-то Николай Рубцов и какой-то там Игорь Северянин. Меня устраивает моё место, никуда и никого двигать и задвигать не будем. Это, скорее, я, недоразумение, «позатесался» между ними и неким поэтом Иосифом Уткиным. Поскольку мы с Владимиром Владимировичем одинаково близки к Пушкину (да что там, всего какие-то два шага, но только с разных сторон!), поэтому, несмотря ни на что, рискну перестать писать только для себя одного единственного, прижимистого и рассудительного в удобный письменный стол (сколько, в конце-то концов, можно, и так уже прошло сорок пять лет!), решительно открыть нижний его вместительный ящик, достать зажмурившиеся от непривычно яркого дневного света застенчивые стихи и представить их на публичный суд, обнажая доселе закутанную в собственные ощущения душу.
Примите исповедь мою:Себя на суд вам отдаю[6].Своими руками храбро даю шанс взыскательным и привередливым критикам после прочтения ехидно написать: «Уж лучше бы он этот ящик и не открывал, избежал бы позора». Написать с нескрываемой надеждой, что под дружным напором пламенной силы их обращающего мои стихотворения в пепел мнения я вернусь к сочинительству в резерв, в запас, себе на память, на сувенир детям, обратно в известный поэтический стол, некогда прославленный почти забытой ныне Софией Парнок:
Ну что же, – в темень, в пустоту.– А проще: в стол, в заветный ящик —Лети, мой стих животворящий[7].Однако поэты – это отнюдь не трясущиеся мелкой дрожью трусы, боящиеся массового позора и тяжёлых эпитетов на свою взлохмаченную рифмами и размерами голову, они исключительно жертвованные герои, в определённом смысле Александры Матросовы, если позволите, отчаянные храбрецы, религиозная совесть, встающая в полный рост, рвущая на груди тельняшку и штурмующая неизвестные редуты и доты вопиющей несправедливости и мировой печали.
Зачем вообще поэты так стремятся раскрыть душу читателю, лечь на амбразуру, давая своё согласие на публикацию? Почему навсегда не запирают созданные стихи на ключ? Не будем здесь рассматривать коммерческий аспект этого вопроса, который довольно скользкий и щепетильный. Продавать рукописи, как известно, это абсолютный бизнес, а поэты отнюдь не бизнесмены. Правда, разоткровенничался как-то один известный любвеобильный поэт, что «Все мы, поэты – торгаши и торгуем…»[8], но торгуем «строфами» за взгляды и поцелуи своих любимых. Это всё же ещё не коммерция, а акт обмена подарками на личной встрече двух восхищений. В противном случае они, думается, уже как бы и не поэты совсем, и ни о какой душе речи быть не может. Не будем также вспоминать о тщеславной и честолюбивой чертах творческих людей, которые позволяют добиться славы и почёта, но на этом пути в горку души, как правило, тоже нет во главе угла, а если и была в самом начале, внизу, то давно зачерствела и стала не способна к самовыражению. Нет, нет, что-то должно быть другое, более духовное, чистое и не такое липкое.
Возможно, причина именно в том, что душа у поэта сама рвётся наружу, под дождь критики, как собака в любую погоду тянет поводок на долгожданную прогулку, задыхаясь от нетерпения и сметая остатки сомнения и самосохранения. Фредерик Шопен был очень замкнутым человеком и старался открыто не демонстрировать свои чувства, но его музыка уже не могла скрыть тонкую и лиричную его душу. Душа сама автоматически открывается, словно волшебная пещера предводителя Али-Бабы словами настырного читателя: «Хочу мыслить!» Да, читать стихи – это значит учиться мыслить, мыслить образно и глубоко. Сокровищница отдаст свои интеллектуальные богатства тем, кто не накормлен, жаден до осознания себя в этом окружающем токсичном мире. И именно это заклинание людей и заставляет поэтов рисковать, выходя в публичное невесомое пространство. Сначала для самых близких, потом, по упомянутому требованию, для знакомых, а дальше – больше, страх уходит, и остаётся желание подвижничества в благородном деле одухотворения. Хочется, чтобы окружали только духовные люди, чтобы все люди зажили этой пьянящей и вдохновляющей на восхождение жизнью. И тогда, может быть, появится на земле новый дивный и добрый мир. Утопия? Нет, конечно. Это мечта. Для этого и идут поэты «в люди» с открытой и ранимой душой. Раньте, секите, тычьте, но испейте, как вампиры, эту духовность ради появления собственной. Поэты – это энергетическая заправка по дороге к себе, к чистоте, к Богу. Душу человека может видеть только Он один, Бог, а, обнажаясь в стихах, поэт позволяет видеть свою душу всем подряд, без разбора, освещая все её многочисленные закоулки с помощью высказанных им обычных слов, и тем самым автоматически делает людей богами. Да-да, не ошиблись, именно ими. Вот почему поэты выставляют оголённую душу на всеобщее обозрение. Они хотят, чтобы все вокруг них были богами, были богатыми, они желают жить исключительно среди богов. Вот такая у них маленькая прихоть, простите их, этих сумасшедших альтруистов, этих бескорыстных чудаков. Люди, читайте стихи, становитесь богами…
Художник Бэзиль Холлуорд отказывался выставлять на всеобщее обозрение портрет Дориана Грея, мотивируя это следующим своим внутренним ощущением: «…я вложил в него слишком много себя самого. <…> Каждый портрет, написанный с чувством, есть, в сущности, портрет художника, а отнюдь не его модели. Модель – это просто случайность. Не её раскрывает на полотне художник, а скорее самого себя. Потому-то я и не выставляю этот портрет, что боюсь, не раскрыл ли я в нем тайну своей собственной души»[9].
Бэзиль настаивал на том, что, создавая прекрасные произведения, в них нельзя вкладывать частицы своей личной жизни, поскольку люди смотрят на искусство как на автобиографию художника, а не как на отвлеченное чувство красоты. Поэтому он и опасался обнажать свою душу перед, как он считал, «пустым и любопытным взором» людей. «Я никогда не подставлю своего сердца под их микроскоп», – убеждённо говорил Бэзиль.
Ещё раньше о подобном писал Василий Жуковский, рассуждая на тему басен Лафонтена: «…вы найдете в них его душу, которая вся изливается перед вами в прелестных чувствах, в простых, для всякого ясных мыслях, без умысла, без искусства; вы слышите милого младенца, исполненного высокой мудрости; научаясь любить его, становитесь сами и лучше и довольнее собственным бытием и нечувствительно находите все вокруг себя прекрасным»[10].
Поэт, если хочет сделать что-то важное в этой жизни, принести хоть какую-то пользу людям (а какую он ещё может?), не должен бояться подставлять свою душу под микроскоп или, как говорил писатель Аркадий Давидович, «тиражировать душу» и становиться «мишенью», наоборот, он должен этого желать больше всего на свете, желать больше собственной жизни, ибо это единственная его возможность помочь людям стать богами. Кто им ещё может в этом помочь? Никто. Поэт может помочь своей открывшейся душой, так сказать освещённой в полумраке потерявшихся улиц «витриной сердца»[11], но люди ими становятся сами. Это должен быть их собственный выбор. Богами становятся не извне и не пинками, богами становятся изнутри самостоятельно, по пульсу кровяного давления. Недостаточно нацепить на голову сверкающий в публику расфуфыренностью нимб (башка даже это стерпит, на то она и бывает зачастую либо пустой, либо чугунной), нимб должен окаймлять затаённую душу внутренним, невидимым, но ослепляющим окружающих слепцов светом. Это мучительный и сложный процесс – найти себе проводника, пастыря (насколько это сродни вере!). Поэт должен быть безмерно счастлив, если его в итоге кто-то выберет таковым (пусть через сто лет, но выберет), если для кого-то, хотя бы всего лишь для одного (а может, только для себя!), смог им оказаться. Тогда точно он нашёл верный путь к самому краю пропасти, где и оставил свои стихи навсегда, которые, как известный литературный нью-йоркский персонаж[12], неустанно ловят в огромную поэтическую авоську маленьких ребятишек, чтобы те не сорвались, заигравшись по вечерам, на полном бегу в бездну. Вдруг, обнажаясь, то есть публикуясь, он поможет пережить кому-то постигшее разочарование и нахлынувшую тоску или легче принять неизбежное, может быть – преодолеть одиночество и даже сделаться счастливым. Ведь чтобы быть счастливым, человек не должен быть один, как говорил тот самый Пифагор в равных на все стороны штанах из Сиракуз: «…ты не можешь быть счастлив один: счастье есть дело двоих»[13], поскольку человек, как утверждал Аристотель, «по природе [существо] общественное»[14]. А остальные в таком случае могут в эту душу даже плевать и злорадствовать, как точно попали и как больно поэту сделали. Ошибаетесь, друзья-снайперы. Попасть-то вы попали, конечно, однако ради появления среди вас ещё одного бога можно потерпеть, утереться и пострадать, ибо это состояние тоже приближает человека к Богу. Видите, насколько процесс взаимообусловленный и взаимовыгодный. Плюйте, больше плюйте, только из мишени для ваших плевков и может вырасти новый добрый мир.
Лиля Брик как-то высказалась, обращаясь к поэту Николаю Глазкову: «Вы не Хлебников, не Маяковский. Вы уже – Глазков»[15]. Поэту тоже хотелось бы, чтобы, прочитав этот сборник, люди смогли сказать аналогичные слова, но только не в его адрес, а в свой собственный: «Я ещё не Христос, я ещё не Святой, но я уже Человек». А сделавшись человеком, человеку можно и попытаться потянуться к богам, ведь, как известно, аппетит приходит во время еды, а не без еды.
Направляйтесь в себя, откопайте себя из завалов смутного времени непредсказуемой молодости и рациональной зрелости, как однажды заметил поэт Евгений Винокуров:
И я пошёл в себя. Как археолог,Я докопался до того пласта…[16]Продирайтесь к себе через чтение, но не через, как писал Стендаль, описание «одежды героев, пейзажа, среди которого они находятся, черт их лиц», чем отличается творчество, скажем, шотландца Вальтера Скотта, а через подход французской мадам Мари-Мадлен де Лафайет «описывать страсти и различные чувства, волнующие их души»[17].
Однако надо иметь в виду, что описания подобных чувств и эмоций должны быть предельно ясными и нести конкретный смысл, ибо, если поэт из своего «бессознательного, идеального, смутного»[18] не выстругает, не изваяет прекрасное и идеальное, которое по определению должно быть понятно и способно восхищать людей либо простотой, либо монументальностью, либо вести их к совершенствованию, значит, это не «настоящий» поэт вовсе, а как бы его суррогат, ремесленник, каменотёс, предприимчивая бездарность, халтурщик, умело маскирующиеся под непризнанный и не понятый никем талант. А талант – он и в Африке, как всем известно, талант. Поэт никогда не должен забывать основополагающие для его творчества строчки всё того же Николая Глазкова:
Чтоб так же, как деревья и трава,Стихи поэта были хороши,Умело надо подбирать слова,А не кичиться сложностью души[19].Предисловие для того и существует, если кто ещё так и не понял, чтобы поведать автору о своих задумках, о своих смыслах, о своих сомнениях. Не стоит приписывать поэту то, чего отродясь не было. Как отмечал английский философ и богослов Вильям Оккам, «многообразие не должно предполагать без необходимости»[20]. Стихи уже сами по себе сущность сложная, о многом говорящая, чтобы добавлять им иной дополнительный смысл. Другими словами, если говорить о любви – то только о ней самой, а не о предполагаемых переживаниях; если писать о грусти – то о ней самой, а не о скрытых взглядах на неё. Может, усложняют восприятие текста те, кто не понимает саму суть стихотворения, истинную сущность мыслей и чувств автора. Вспомнили бунинские строки:
Поэзия темна, в словах невыразима…[21]Вспомнить-то вспомнили, но до конца, полностью, похоже, данный сонет в своё время не успели из-за нетерпения оригинально высказаться дочитать:
Поэзия не в том, совсем не в том, что светПоэзией зовет. Она в моем наследстве.Чем я богаче им, тем больше – я поэт.Ведь так банально и пресно видеть ясно, никто на тебя не бросит заинтересованный взгляд, куда более эффектно для окружающих заметить то, что никто не принял во внимание, даже если это сам автор поэтических строк. Таков парадокс. Но чтобы жить парадоксами, надо научиться быть, например, хотя бы каким-то там коктебельским Максимилианом Волошиным в длинной рубахе, без штанов, «пароходом и человеком»[22], поэтом и художником не больше и не меньше. Сможете? То-то.
Творчество телеологично и ассоциативно в том смысле, что известен предмет монолога души или обсуждения с сознанием (любовь, смерть, тоска, Бог, грусть, страсть и так далее). Поэзия – не поток сознания, не разрыв мыслей. Есть начало, и есть конец повествования. Всегда ясно, зачем творишь и какие образы требуются к конкретной мысли по схожести. Тем более когда сырьё состоит всего из тридцати трёх букв алфавита, которые располагаются известными автору словами. Ни разу не встречаются стихотворения на родном русском языке, состоящие из слов с произвольным расположением букв, то есть абракадабр. Каким лексиконом владею, тем и пользуюсь. Можно придумывать неологизмы целыми вагонетками руды, по примеру Владимира Маяковского или Велимира Хлебникова, но, во-первых, они были такими практически одни на всех и во все времена, а, во-вторых, их неологизмы несли не белиберду, а вполне понятный русскому человеку смысл, гениально инкрустированный в тело, структуру стихотворения. Был, надо сказать, ещё их современник Вадим Шершеневич со своими оригинальными признаниями в любви (где тут ваши тифозно-примитивные неологизмы?!), в основе которых выразительно лежал феерически-концептуальный принцип звука минус образ, когда вместо избитой тысячелетиями фразы «Я тебя люблю, дорогая!» кричать в порыве страсти не словами, а неким вздохом «пинь-пинь-пинь-ти-ти-ти!», который «нежный, как пушок у лебедя под крылом»[23]. Так на то она, понятно, и любовь – штука для «настоящего» поэта далеко не простая, можно сказать – чересчур витиеватая (чего только стоит его не больше и не меньше любовная – да, да, именно любовная – поэма со специфическим названием «Крематорий»!), чтобы главному теоретику имажинизма выражаться, как все смертные, не гении, по-простому:
Мое простое: лзэ-сзэ-сэ-фиоррррр-эй-ва!Осталось придумывать небывалые созвучья…Вот она какая авангардная, как заказывали, буквенная глыба века Серебряного, переформатирующего даже обычное признание в любви в нечеловеческий воздыхательный язык. Но то любовь, тема пока не наша, там можно всё, у нас сейчас совсем другое, человеческое, диванно-приземлённое.
«Отряхните все, что не было земным!»[24]Сегодня мы будем грустить (нет, нет, не по глыбастому веку, нет, будем грустить), однако не Лермонтовым и не Есениным, не их бессмертной грустью:
Как дерево роняет тихо листья,Так я роняю грустные слова[25].Попробуем погрустить моей, смертной. Я оголю её перед вами, «задрав на панели шуршащие юбки стихов»[26]. Грусть не ровная поверхность листа бумаги с некими письменами типографского варианта, не раз и навсегда определённая и неизменяющаяся величина (constants); она каждый раз представляет собою смятую в комочек по-новому в зависимости от настроения и характера бумажку; она не только геометрически многогранна, но изломана и непредсказуема, как вселенная, поскольку душа человека и есть вселенная нашего существования, нашего бесконечного пути в ней. Мы комкаем, сминаем наши души в дороге, тогда-то и приходит грусть, возникает именно в тот момент, когда настаёт время вспоминать уже пережитое или ещё только предстоящее, но не раз всплывавшее и передуманное сердцем, и рыскать, рыскать голодным исхудалым волком по притаившемуся лесу в поисках ответа на вопрос, почему и куда девалась из жизни радость, где этот её «выключатель в шкафу»[27].
Откройте себя, не пугаясь,Загляните на самое дно[28].Погрузимся в свою грусть, по совету Анны Барковой, с головой, только в неё одну, исключительно отсепарированную и сублимированную, и ни во что более острое и едкое, способное помешать привкусами понять себя, перевернуть настроение и подняться из довлеющей пустыни на синайскую гору встречать обновлённый рассвет, если захотим, если не заупрямимся после этого, конечно.
Как дух наш горестный живуч,А сердце жадное лукаво![29]Когда кругом вдруг нет палитры красок, нет многообразия оттенков цвета, как ночью, в темноте, когда задумываешься о своей серо-кошачьей доле, о смысле вечности или о вечном смысле, о Боге и его проявлениях в тебе, то хочется читать, сидя дома, весёлые стихи или грустные, созвучные настроению? Скорее всё-таки вторые, поскольку в них находишь своего особенного собеседника, который будет сопереживать тебе, доверительно поделится своими мыслями и чувствами, поймёт тебя без возражений и своих «пяти копеек» и не будет строить тебе дурацкие хохочущее рожи. На жизнеутверждающие и возбуждённые призывы взять себя в руки в такие часы смотришь как на юродивых, как на придворных шутов, которые беспрестанно и беспричинно смеются над одним им понятной забавностью и нелепостью бытия человека.
Как хочется всё-таки нежного утешения и тёплой жалости к себе, кто-то же должен ласково погладить по растрёпанным настроением волосам, прижать к своему большому пульсирующему почти родительской любовью сердцу и успокоить мягким тембром ритмики стиха. Читайте стихи о печальном, и раскроется великая истина радости земной жизни. Они не дадут грустить тяжело, беспомощной тоской, они научат грустить легко, лирично, в радость. Чистая и нежная грусть снимает даже застывшую и засохшую на душе въедливую (так называемую смертельную) тоску. Тоску даже такой исправительно-лагерной силы, которая была трижды принудительно навязана политико-поэтической рецидивистке Анне Барковой (три приговора на двадцать шесть лет лагерей, из которых отбыла двадцать два года!). Чистая и нежная грусть изгоняет осевшее на кажущейся уже окончательно выцветшей жизни уныние и упирающееся всеми воспоминаниями капризное отчаяние. Она врата в плодоносное умиротворение, она вектор любви и дружбы, она звуки симфонической души, акустика консерватории, прачечная самообслуживания, очищающая от окружающей скверны. Следуйте решительному призыву-лозунгу непримиримого к обстоятельствам и неотступающего с баррикад до последнего Эжена Потье: «Tuer l’ennui!»[30] С тоской шутки плохи, она коварна ядовитыми укусами души и воровством плохо лежащих отрезов жизни: