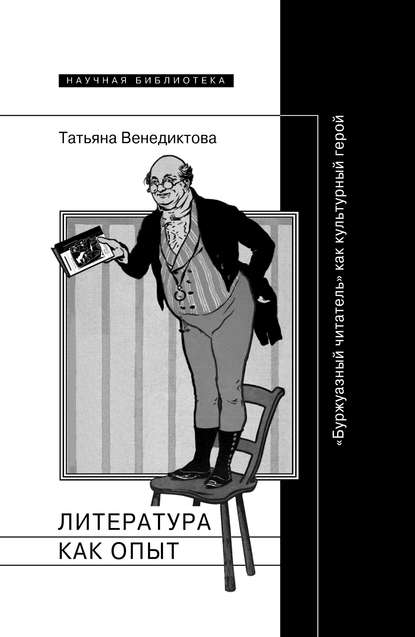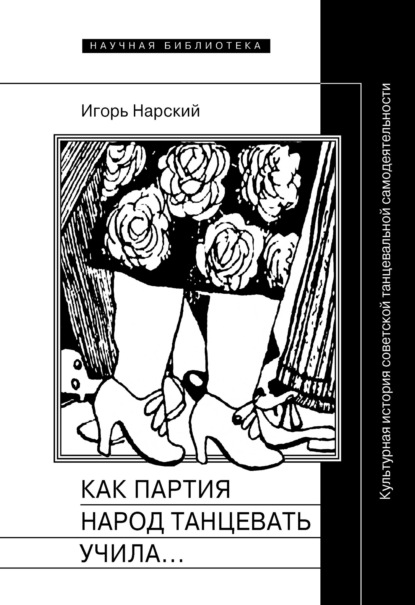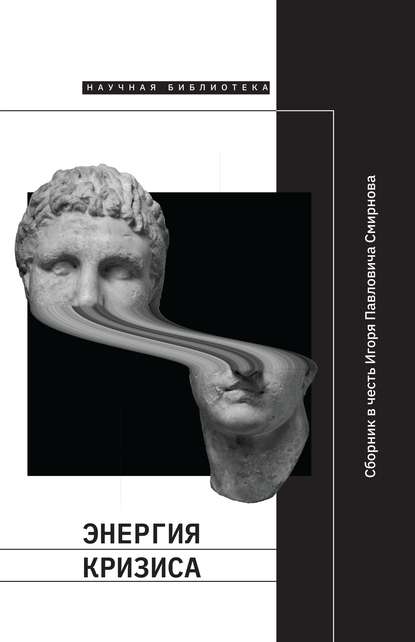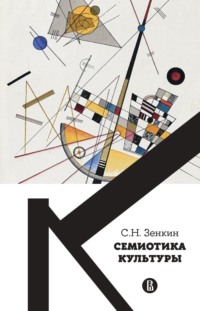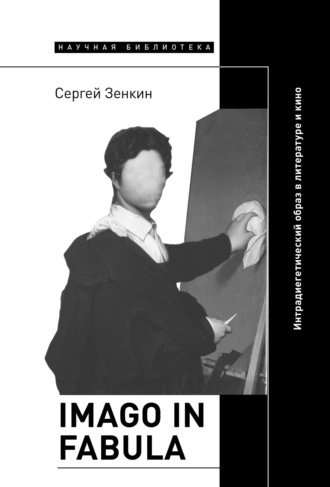
Полная версия
Imago in fabula. Интрадиегетический образ в литературе и кино
«Заразив» человека, злокачественный образ захватывает его место, постепенно вытесняет его из жизни. Маска Неизвестной заменяет для Энтони любимую жену, и, обращаясь к последней, он начинает путать имена: «Ты так красива сегодня, Silen… Беатрис» (глава I, с. 16). Раньше он сочинял для Беатрис стихи, однако перестал это делать после свадьбы, ибо «превратить музу в жену, пусть и долго и верно любимую, значит распрощаться с музой» (глава III, с. 26). После встречи с новой, изваянной Музой он пишет стихотворение «Северный Сфинкс», думая посвятить его жене, но та узнает в нем не себя, а зловещую маску: по ее словам, оно написано «о моем Образе, который ты поставил на мое место» (глава III, с. 29). В финале, чувствуя, что Silencieux изгнала ее из сердца мужа, она кончает с собой, утопившись в пруду – то есть слившись с «предугадавшим» ее образом, повторив легендарную судьбу Неизвестной, утонувшей в Сене[296]. Это слияние на свой лад констатирует Энтони при виде ее мертвого тела; ранее в болезненном бреду он уже принимал ее за Silencieux и раздражался, когда понимал свою ошибку, теперь же он окончательно заменяет ее Образом, она ему больше не нужна. Прецессия симулякров свершилась в его душе – не образ походит на живого человека, а погибшая женщина на маску:
Наутро, когда Беатрис вытащили из пруда с лилиями в волосах[297], Энтони склонился над нею и сказал:
«Очень печально – бедняжка Беатрис – но до чего красивая! Должно быть, это чудно – умереть вот так».
И еще он сказал: «Странно, как она похожа на Silencieux».
И он пошел к себе в лес, с великой безмятежностью в душе. Он утратил Чудо, но она оживала в его песнях. Он утратил Беатрис, но у него оставался ее образ – разве не жила она вечно в Silencieux? (глава XXIII, с. 142).
Смысл случившегося можно толковать по-разному, опять-таки рассматривая его либо «издалека», как абстрактную символическую притчу, доступную лишь пониманию автора, либо «вблизи», в плане той действительности, где живет герой (тот, конечно, бредит, но его бред опирается на некоторые факты, подтвержденные рассказчиком). С точки зрения символических структур, персонажи-двойники в «Поклоннике образа» воплощают собой две ипостаси женщины, как ее представляет себе традиционная культура: с одной стороны, это абсолютно иное мужского воображения, вызывающее желание, но и опаску (Silencieux); с другой стороны, жена и мать, чья «радикальная инаковость» редуцирована, подчинена социальной функции продолжательницы рода (Беатрис)[298]. С такой точки зрения, Silencieux – отрицательное начало в ценностной структуре, зло, одолевшее добро.
Иначе видится дело с точки зрения Энтони: в Silencieux он обрел что-то вроде платоновского эйдоса, чистую сущность своей жены (ее «не то вчерашний, не то сегодняшний – и вечный» лик) и одновременно образ Красоты как таковой, способный заменить несовершенную реальную женщину:
Любить не буквальную возлюбленную, а ее очищенный, безупречный образ – так ведь можно было бы подняться в область любви духовной, не стесненной и не запятнанной землею (глава III, с. 30).
«Лик Вечной Красоты, – сказал Энтони [обращаясь к Silencieux. – С. З.], – отныне и во веки веков для меня есть лишь один лик – твой» (глава XXI, с. 131).
Заменять «буквального» человека явленным в нем божественным абсолютом – общее место в европейской мифологии любви[299]; ему соответствовала и цензура, которой подвергалась телесная эротика в викторианской культуре. «Трагическая сказка» Ле Гальена называется не «Любовник образа», а «Поклонник образа», и ее герой склонен заменять любовное влечение к Неизвестной из Сены религиозным почитанием. Он страстно целует Silencieux, объясняется ей в любви, но и молится ей, словно божеству, и приносит ей в жертву, как языческому идолу, свое дитя. С этой сакральной точки зрения, ее чудесная сила возобладала над «Чудом» живого ребенка.
Автор стремится доказать, что такая эстетическая религия несостоятельна. Одним из литературных источников «Поклонника образа» был, вероятно, сонет Бодлера «Красота» (1857), где предвосхищен ряд его мотивов: прекрасная статуя-кумир, вызывающая грезы (у Бодлера: «О смертный! как мечта из камня, я прекрасна!»), сравнение со Сфинксом («В лазури царствую я сфинксом непостижным»), который грозит гибелью своим обожателям («И грудь моя, что всех погубит чередой»). Однако бодлеровская Красота – зрячая, ее очи отверсты и сияют:
Сиянье вечности в моих глазах бессонных,Где все прекраснее, как в чистых зеркалах[300].У Ле Гальена Муза-Медуза тоже смертоносна, но и слепа, она не распространяет на весь мир сияние своего взора, а скорее поглощает внешний свет – вместе с сознанием своего поклонника, который любуется ее красотой, но зато утрачивает чувство прекрасного в жизни, сам становится эстетически слеп. Встретив на прогулке в осеннем лесу жену и дочь (сам он уже не гуляет с ними!), он набирает девочке вместо цветов поганые грибы – по его словам, «они красивее цветов» (глава VI, с. 44), а у ребенка вызывают испуг и отвращение. Этому тесту на эстетический вкус подвергает отца именно Чудо – маленькая девочка, третий женский персонаж «трагической сказки». Она не отмечена опасной амбивалентностью взрослых женщин, непохожа на молодых и старых ведьм из заколдованного леса, не вовлечена в роковое двойничество Беатрис/Silencieux и нечувствительна к обаянию гипсовой маски, которую в другой главе показывает ей Энтони, предлагая приобщиться к своему культу; пожалуй, и ее последующую гибель можно толковать как месть ревнивой богини. Устами младенца, поясняет автор, глаголет истина:
Чудо была одной из тех девочек, которым словно ведомы все смыслы мироздания, хотя они еще борются с азбукой его незначительных слов (глава VI, с. 41).
Повторяется уже описанный выше эффект: в эпизоде семейной прогулки, где отсутствует Silencieux, повествование выходит на аллегорический уровень, обращаясь к высшим «смыслам мироздания». Сюсюкающе-китчевый стиль, которым написан этот и другие диалоги отца с дочкой, как раз и служит знаком аллегоризма: здесь понарошку, по-детски формулируется обобщенная мораль «трагической сказки». В прерафаэлитском лесу, где заблудился герой Ле Гальена, не растут прекрасные цветы, в нем встречаются только ядовитые грибы и змеи, летают ночные бабочки «с мертвой головой меж крыл» и царствует готический вампир – безглазая «белая дама». Это не многозначительный бодлеровский «лес символов», а скорее лес чудовищ из фольклорных или рыцарских преданий. Своим «образопоклонничеством» Энтони не приблизился к Красоте, а удалился от нее, предавшись ложным, безобразным подобиям.
***Абстрактный, не имеющий устойчивого облика, по-протеевски изменчивый в бесконечных метаморфозах и скрепляемый воедино лишь своим иностранным именем; овеянный сентиментальной легендой о юной утопленнице, но наделенный хитро-двусмысленным лицом; способный заранее «предугадывать» и «заражать» реального человека – таков активный и опасный визуальный образ, обожествляемый героем Ле Гальена. В нем можно усмотреть симптомы кризиса художественной культуры «конца века»: неустойчивое, неосмысленное соотношение (заново пересмотренное авангардом ХX века) между денотативным и коннотативным смыслами визуального объекта, между намеренным произведением искусства и случайной «находкой», между образом и рассказом. Хотя образ здесь опирается на широко известное произведение скульптуры, но его нельзя адекватно увидеть, и рассказ о нем вынужден ходить вокруг да около, разбрасывая уклончивые намеки, повторяя и варьируя неоднозначные ключевые слова, поддерживая неопределенность реальности/аллегории, свойственную символистскому пониманию фантастики. Подобно своему герою, который мечется между инфернально-обольстительной злодейкой и невинными воплощениями семейного счастья (женой и дочерью), рассказ смешивает мистерию с мелодрамой, то сгущается в драматических перипетиях отношений Энтони с Музой, то разжижается в слезливых штампах, описывающих жизнь и смерть его близких. Образ и рассказ обмениваются неопределенностью и сакральной инородностью, и амбивалентный символ Искусства не вырастает, хотя бы путем абстракции, из реальности, а «заражает» эту реальность откуда-то извне, подобно тому как из-за границы явилась в Англию маска неизвестной девушки, якобы утонувшей в Сене.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
Реставратор Магор, в финале разоблачивший авторство Франка, ранее был его сообщником, засвидетельствовавшим подлинность полотна и сбывшим его отцу художника. Они делят с Франком ответственность за поддельный портрет, а заодно и изображенную на нем женщину.
2
Набоков В. В. Собрание сочинений русского периода: В 5 т. Т. 1. СПб.: Симпозиум, 2000. С. 93–94.
3
О творчестве Франка-художника сказано: «Он никогда не говорил об искусстве, охотно пел и пил, и бесчинствовал, но порою нападал на него внезапный сумрак; тогда он не выходил из своей комнаты, никого не впускал […], а потом, словно отдав мучительную дань пороку, снова был весел и прост» (Там же. С. 88), – это мотив из «Египетских ночей» Пушкина, героя которых время от времени одолевала «такая дрянь», то есть поэтическое вдохновение. Другая сцена, «ласковый словесный бой» между красавицей Морийн и старым полковником, любителем живописи («– Если бы я посмел, я покрыл бы вас лаком, а полотно Лучиано отправил бы на чердак. […] – Я бы треснула, – возразила она, – от смеха…» – Там же. С. 91), отсылает сразу к нескольким эпизодам «Портрета Дориана Грея» Оскара Уайльда, где есть и изящная пикировка Дориана с герцогиней Глэдис, и картина, вынесенная на чердак, и шутка живописца, говорящего «герою» только что законченного портрета: «Как только вы высохнете, вас покроют лаком, вставят в раму и отправят домой» (Уайльд О. Избранные произведения: В 2 т. / Пер. М. Абкиной. Т. 1. М.: Гослитиздат, 1960. С. 56).
4
Об антропологии изображения см.: Ямпольский М. Б. Изображение: Курс лекций. М.: Новое литературное обозрение, 2019.
5
Ср. старинное употребление слова в русском языке – обычное название икон «образа» или, в бытовой речи, басню Крылова: «Мартышка, в зеркале увидя образ свой…».
6
См.: Женетт Ж. Фигуры: Работы по поэтике: В 2 т. Т. 2. М.: Изд-во имени Сабашниковых, 1998. С. 238–241.
7
Можно, конечно, согласиться, что сказки Шехерезады участвуют в развитии ее собственной истории, – они бесконечно задерживают казнь самой рассказчицы, так же как ей мог бы противиться какой-нибудь персонаж-защитник (см.: Bal M. Narratologie. Paris: Klincksieck, 1977. P. 62); но, с другой стороны, жена султана Шахрияра могла бы вымаливать себе отсрочку не только рассказами, но и, скажем, песнями, танцами, поцелуями – все это относится к категории не столько действующих лиц, сколько применяемых ими средств.
8
Ср. идею Брюно Латура о «нечеловеческих» акторах социального мира, к которым относятся, в частности, вещи (Латур Б. Пересборка социального: Введение в акторно-сетевую теорию. М.: ИД Высшей школы экономики, 2014 [2005]).
9
См.: Vouilloux B. Texte et image ou verbal et visuel? // Texte/image: Nouveaux problèmes (Colloque de Cerisy). Presses universitaires de Rennes, 2005. P. 17–32.
10
Как показал Томас Павел, вымышленный мир повествования беднее реального мира: в него входит только то, о чем прямо или намеком говорится в рассказе, но не то, что им имплицируется. Например, в мире романов Бальзака присутствует персонаж по фамилии Вотрен, но отсутствуют его предки, которых он, по логике, не мог не иметь (см.: Pavel Th. L’Univers de la fiction. Paris: Seuil, 1988. P. 134–135).
11
Такой монтаж можно встретить в литературе, например у Алена Роб-Грийе: описание комнаты, где висит картина, без резкого перехода сменяется рассказом, где фигурируют изображенные на картине люди («В лабиринте» / Dans le labyrinthe, 1959). В кинематографе пограничным примером может служить комедия Вуди Аллена «Пурпурная роза Каира» (The Purple Rose of Cairo, 1985), героиня которой общается с сошедшим с экрана киноперсонажем, воспринимая его как реального человека; эффект именно в том, что этот персонаж «фильма в фильме» временно утрачивает свою условно-образную природу. В обоих случаях «реальный» и «иллюзорный» мир непрерывно сообщаются между собой, граница между ними (рамка экрана в кинотеатре, показанном у Вуди Аллена) преодолевается легко, почти неосознанно для героев; это и естественно для кино – иллюзионистского искусства, где два мира не отличаются друг от друга по своей видимой природе.
12
В разряд интрадиегетических образов попадают лишь редкие образцы чисто зрелищных «холостых машин», работающих без какого-либо внешнего материального результата, исключительно для создания видимости. См. о них ниже в главах 5 (автоматы-голограммы у Бьой Касареса) и 10 (женщина-робот в фильме Ланга).
13
См.: Визуальные аттракторы в литературе (Материалы круглого стола) // Новое литературное обозрение. № 146. 2017. С. 81–120.
14
Повествовательная природа литературы и кино различается по медиуму рассказа (словесному/визуально-словесному) и его способу (обычно с рассказчиком / обычно без рассказчика). Однако при всех этих различиях общим является исходное свойство нарратива: повествовательный текст или фильм сообщают нам «историю» – цепь событий, происходящих с персонажами и связанных между собой специфически нарративной, то есть иллюзорной причинно-следственной логикой.
15
См.: Stoichita V. L’Effet Pygmalion. Genève: Droz, 2008. P. 157–171, 182–189.
16
См., например: Каминская Ю. В. Диалектика Просвещения и элементы античного наследия в пьесах «Эмилия Галотти» Г.-Э. Лессинга и «Заговор Фиеско» Ф. Шиллера // Вопросы филологии. СПб., 2006. С. 104–117; Она же. Драмы Фридриха Шиллера: созвучие и взаимодействие искусств // Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2010. Т. 69. № 3. С. 37–45.
17
См. указанную в прим. 2 на с. 16 книгу Виктора Стойхиты. В современном быту аналогом таких барочных композиций стали фотографии-селфи на фоне уличных скульптур и музейных картин.
18
Такова, например, аудиозапись подслушанной беседы, последовательно дешифруемая в фильме Фрэнсиса Форда Копполы «Разговор» (The Conversation, 1974), – акустический эквивалент фотоснимков из антониониевского «Blow-Up».
19
Как установили комментаторы Набокова, в «Венецианке» весьма точно описана картина Себастьяно дель Пьомбо, которую обычно называют «Портрет римлянки» или «Святая Дорофея»; русский писатель мог видеть ее в берлинском музее Гемельдегалери. В тексте об ее подделке сказано уклончиво – «подражание», что можно понимать и как копию ранее существовавшего оригинала, и как новое произведение, имитирующее стиль старого мастера.
20
См.: Groupe µ (Francis Edeline, Jean-Marie Klinkenberg, Philippe Minguet). Traité du signe visuel: Pour une rhétorique de l’image. Paris: Seuil, 1992. P. 113–115.
21
Семиотику визуального образа «с точки зрения зрителя» начал разрабатывать Ролан Барт (см. ниже прим. 2 на с. 20). Систематическая теория предложена в коллективной монографии бельгийской «Группы μ» (см. предыдущее примечание). См. также сборник статей: La sémiotique visuelle / sous la direction de Michel Costantini. Paris: L’Harmattan, 2010.
22
См.: Лотман Ю. М. Текст в тексте // Лотман Ю. М. Избранные статьи. Таллинн: Александра, 1992. С. 148–160.
23
См.: Барт Р. Риторика образа [1964] // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С. 297–318.
24
В «Риторике образа» Барт искал внутри визуального образа дискретные семиотические элементы – точечные «коннотаторы», условно-знаковые вкрапления в целостность аналогового изображения. Готфрид Бём находит такие дискретные элементы в жестах изображаемого тела: «На фоне непрозрачно-непроницаемого тела отдельные жесты выделяются как постоянно меняющие свою конфигурацию дискретные знаки» (Boehm G. Le Lieu des images // Penser l’image / Emmanuel Alloa (éd.). Paris: Les presses du réel, 2011. P. 40). Возможна, однако, и иная перспектива: дискретность проникает не в отдельные сегменты образа, а в его общие конститутивные формы (единичность/серийность, подвижность/неподвижность) под воздействием внешнего повествовательного контекста.
25
Набоков В. В. Цит. соч. С. 92.
26
См. антологию визуальных исследований, выполненных преимущественно в традициях иконологии Варбурга: Мир образов. Образы мира: Антология исследований визуальной культуры / Ред. – сост. Наталия Мазур. СПб.; М.: Новое издательство, 2018.
27
Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики / Пер. М. А. Журинской. М.: Прогресс, 1988. С. 187.
28
Там же. Вероятно, по этой причине зеркало нечасто функционирует в качестве главного, центрального интрадиегетического образа. Мотив живого, влекущего зеркального отражения встречается в художественной культуре (начиная по крайней мере с рассказа о Нарциссе в «Метаморфозах» Овидия), но чаще всего он выполняет подчиненную функцию, например вводит в диегетический мир нового, «потустороннего» персонажа; внимание читателя или зрителя сосредоточивается на этом персонаже, а не на зеркале как таковом.
29
Там же.
30
Там же. С. 191.
31
Gell A. Art and Agency: An Anthropological Theory. Oxford: Clarendon Press, 1998.
32
Freedberg D. The Power of Images: Studies in the History and Theory of Response. Chicago; London: The University of Chicago Press, 1989.
33
van Eck C. Art, Agency and Living Presence: From the Animated Image to the Excessive Object. Munich; Leiden: Walter De Gruyter; Leiden University Press, 2015.
34
Freedberg D. Op. cit. P. 76.
35
Ibid. P. 438.
36
Bredekamp H. Théorie de l’acte d’image (Conférences Adorno, Francfort 2007) / Traduit de l’allemand par Frédéric Joly en collaboration avec Yves Sintomer. Paris: La Découverte, 2015. P. 17). См. в той же книге (с. 40) историю понятия «образный акт» в социологии и искусствоведении ХX века.
37
О религиозно-культовом функционировании образов в Средние века (в Западной Европе и Византии) писали Ханс Бельтинг, Мари-Жозе Мондзен. См.: Бельтинг Х. Образ и культ: История образа до эпохи искусства. М.: Прогресс-Традиция, 2002 [1990]; Mondzain M.-J. Image, icône, économie: Les sources byzantines de l’imaginaire contemporain. Paris: Seuil, 1996.
38
Benjamin W. Baudelaire / Édition établie par Giorgio Agamben, Barbara Chitussi et Clemens-Carl Härle. Traduit de l’allemand par Patrick Charbonneau. Paris: La Fabrique, 2013. P. 587–588.
39
Didi-Huberman G. Ce que nous voyons, ce qui nous regarde. Paris: Minuit, 1992. P. 9. Идея желанного «встречного взгляда» восходит также к психоанализу Лакана (см. об этом ниже в главе 5).
40
Didi-Huberman G. Ce que nous voyons, ce qui nous regarde. P. 114.
41
Ibid. P. 67.
42
Nancy J.-L. Au fond des images. Paris: Galilée, 2003. P. 11.
43
Ibid. P. 12–13. Нанси противопоставляет сакральную отдельность образа религиозным функциям, которые он может выполнять: «В известном смысле религия и сакральное противостоят друг другу как связь – разрыву» (Ibid. P. 11).
44
Debray R. Vie et mort de l’image: Une histoire du regard en Occident. Paris: Gallimard, 1992 (Folio Essais). P. 446.
45
Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики [1973] // Лотман Ю. М. Об искусстве. СПб.: Искусство – СПб., 1998. С. 349–350.
46
Sartre J.-P. L’Imaginaire: Psychologie phénoménologique de l’imagination. Paris: Gallimard, 1980 [1940]. P. 28.
47
Ibid. P. 53. Курсив Сартра.
48
Ibid. P. 231–232. Курсив Сартра.
49
Ср.: «Образ оспаривает у вещи ее присутствие. В то время как вещь довольствуется тем, что она есть, образ показывает, что вещь есть и как именно есть» (Nancy J.-L. Au fond des images. P. 46).
50
Петровская Е. В. Теория образа. М.: РГГУ, 2010. С. 118.
51
Marion J.-L. De surcroît. Études sur les phénomènes saturés. Paris: Presses universitaires de France, 2001. P. 73. См. также: Marion J.-L. La Croisée du visible. Paris: Presses universitaires de France, 1991.
52
Примерами соответственно первого и второго подхода к интрадиегетическому образу могут служит два богатых идеями исследования повести Юрия Тынянова «Восковая персона» (1931): монография Аркадия Блюмбаума «Конструкция мнимости» (2002) и глава «Маска, анаморфоза и монстр» в книге Михаила Ямпольского «Демон и лабиринт» (1996).
53
Ср. у Нанси: «„Сакральное“ всегда было силой, а то и насилием. Нужно понять, как сила и образ принадлежат друг другу в одной и той же отдельности»; «Не „идея“ (idea, eidolon), то есть умопостижимая форма, а сила, принуждающая форму соприкасаться с собой»; «Образ – это всегда динамическая или энергетическая метаморфоза» (Nancy J.-L. Au fond des images. P. 13, 25, 48).
54
Например, философский жест Михаила Бахтина заключался в том, что, описывая по-филологически речевое многообразие литературных текстов, он по ту сторону этого конкретно-исторического разноречия и разноязычия усматривал еще и более общие, существующие в масштабе «большого времени» формы «архитектоники», конфигурации разных голосов. Их субъектами являются уже не персонажи и не внутритекстуальный «вторичный автор», но автор «первичный» – конечный создатель художественного целого, который сам ничего не говорит, а лишь безмолвно творит, «облекается в молчание» (Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 т. Т. 6. М.: Русские словари; Языки славянской культуры, 2002. С. 412).
55
В монографии при цитировании иноязычных текстов существующие русские переводы сверены с оригиналом и в ряде мест уточнены, обычно без специальных оговорок на этот счет. При первом упоминании иноязычных художественных произведений указывается их название на языке оригинала. Для переводных цитат указывается также фамилия переводчика, кроме моих собственных переводов (ранее опубликованных или нет). Курсив в цитатах в дальнейшем, если не указано иначе, мой.
56
Его модифицировал Умберто Эко в заголовке своей книги «Lector in fabula», которая у нас известна под названием другой ее версии, не итальянской, а английской, – «Роль читателя».
57
Еще более точным был бы здесь другой латинский термин – effigies, перешедший в новоевропейские языки (фр. effigie, англ. effigy), но отсутствующий в русском. Им именовалось изображение человека, заменявшее его в некоторых значительных ситуациях: профиль царя на монете, чучело преступника, подвергаемое заочной казни, и т. п. По-русски в сходных контекстах иногда может использоваться слово «портрет».