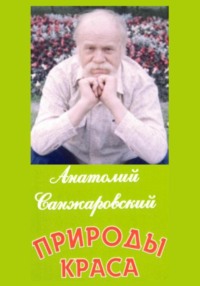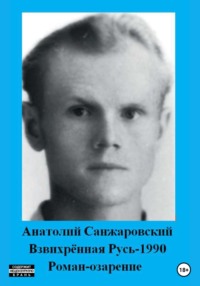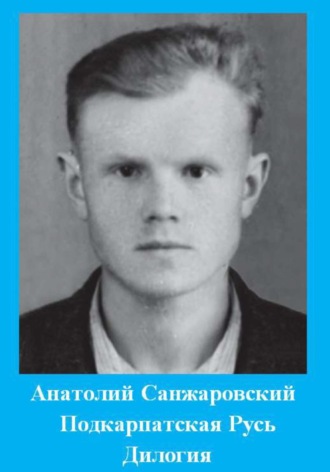 полная версия
полная версияПодкарпатская Русь
И даже набежала стопочка сливовицы умочить горло.
Богдан завёл парадно-пустой разговор «за жизнь».
Старухе нравился «хороший разговор». Богдану нравил-ся хороший борщ. Каждый получал своё.
– Ешь, ешь, – ласково приговаривала старушка, ставя Богдану вторую миску борща. Богдан уборонил пока лишь половину первой миски.
– Вы мне не очень-то наставляйте. А то у меня на домашнее аппетит… Не жёвано летит!
– И слава Богу! – светится старушица, робко пряча руки под фартук и открыто любуясь волчьим аппетитом парня. – Борщ домашний. Не то шо у вас. Муха по потолку гуляет под ручку с тараканом, а в борщу бачишь!
Находится ещё миска вареников.
Богдан и вареникам выкраивает место.
Пока всё подмёл, аж упарился.
Повело кота на сало.
«Хороша бабуся, да эх нужна Богдашке Дуся!» – вспо – минает, за чем сунулся в село.
Со старухой весело прощается за руку. Долго держит её сухонькую ручку в своей, держит на весу, как бы взвеши – вает.
– Ты ж, парубец, заходь когда… – в грусти роняет старушка. – Как по дому соскучишься.
– Нам соскучиться, бабушка, ничего не стоит… Ну, спасибо этому дому, пойдём к другому.
Богдан ещё какое-то время кружит по селу коршуном, высматривает в мягких, нежных сумерках свою удачу.
«Неужели весь первый вечер в Чистом куковать по – чистому? Без обжимашки? Неужели припухать на диете ангела? Пох-хоже… А есть же гор-р-рячее… ну гор-р-р-рячущее предложение! Да куда спрос запропастился? А ты говоришь – прогуляться!»
Богдан замечает, что уже совсем темно.
А какие по ночам знакомства? К кому подкатишься?
Не отваживаясь осложнять и без того натянутые отно – шения с дворнягами, сумрачно сверкавшими на него злыми глазами из-под калиток, Богдан даёт отставку своим угарным поискам.
– Киношки не будет, – вяло взяв под козырёк, уныло докладывает седому бобику, лежал на возвышенке у вереи[85].
Пёс и ухом не повёл.
Богдан обиженно присвистнул:
– Даже барбос на меня ноль вниманья. А ты говоришь – прогуляться!
Заталкивая, утапливая в карманчике угол белого пла – точка, Богдан тоскливо озирается. Натыкается посоловелым взглядом на круг высоких белых огней, что подымались невдалеке над хатами в садах, и шатнулся к огням.
Он набрёл на ярко освещённую площадь.
Посреди площади томко благоухала круглая клумба. Цвели белые лилии, гвоздики, флоксы, хризантемы, левкои.
Близко к цветам подступали мраморные торжественные колонны дворца культуры.
Слышалось пение.
– Извините, – приподнял Богдан шляпу, обращаясь к цве-там на клумбе. – Молчуны вы красивые. Только скучно с вами. Подамся-ка я к поющим Мальвам да Лилиям.
Его поразило просторное и богатое фойе с картинами сельчан из крестьянской жизни.
«Неужели в этой большой хате не сыщется хоть на один вечерок какая-нибудь завалящая медовушка с розовыми ям-ками на щеках да с фигуристым банкоматом? Всё б какое-никакое разовое приключение».
Крадучись, он на коготках боком втёрся в слегка при-открытую великанистую дверь, что вела в пустой неохват-ный тёмный зал, тихо примостился в последнем ряду на краешек крайнего стула, как воробейка на колышке в плетне.
Из темноты ему удобно было наблюдать за спевкой на сцене.
Богдан сразу увидал Маричку, такую пригожую, что грех смотреть на неё сердитыми глазами, и подивился, подивился тому, что эта, по его мнению, слишком строгая дивчина ещё и поёт!
И в то же время чем дольше слушал, всё чаще ловил себя на том, что изо всех голосов выбирал именно её голос.
– Слышь, – вполголоса окликнул подсевшего Ивана Верейского, – а что за пропащая сила… пожилой такой… рядом с Марикой?
Верейский насупился. Процедил сквозь зубы:
– Пристегни своё ботало… Выбирай выражения. Да знаешь ли ты, что этот старик – Верховный депутат от самой от Москвы?! Шесть раз избирался депутатом!!! Дважды Герой Труда! На Покрова памятник ему в Чистом возле школы открывают!
Богдан захлопал лохматыми белёсыми ресницами.
– То-то! – победно напирал Иван. – Это наш Юрко Юрьевич Питра! Кукурузных дел орёл! Руководитель самодеятельного ансамбля «Кукурузовод». Вовсе не случай, что Юрьевич и Маричка стоят рядом. Не только на сцене – в работе всегда рядом. Они звеньевые, в соседях их поля. Юрьевич – Маричкин наставник, первый помощник…
Заслышав знакомую мелодию «Вечера над Боржавою»,[86] Иван выставил палец:
– О! Давай помолчим. Давай лучше послушаем про нашу Верховину.
– Який тихий вечiр нинi наближається,Лишь Боржава на бистрині не вгаваєтьсяТа пташки тi до безтями десь мiж вiтамиРозсипаються пiснями, наче квiтами.Дана, дана, дана, дай…Розквiтай, наш рiдний край.Мы милуємся з тобою з висоти скали,Як берiзочки гурьбою схилом ген пiшлиI в промiннi цвiтом бiлим розсипаються,Нiби нам з тобою, милий, посмiхаються.А внизу красуня рiчка заіскрилася,Мовби сонця свiтла стрiчка там розлилася…Чередник корiв iз гаю до села веде1 в трембiту свою грає, аж луна iде!Вiтер нiжно по обличчю ледь лоскочеться,Про красу спiвать величну серцю хочеться.Впали тiнi у долину – вечорiється…Як чудово в цю хвилину з любим мрiється[87]!Песня-слеза цветком легла Богдану на душу.
Обмяклый, благодарный его взгляд медленно заскользил по лицам на сцене.
Богдан как-то привык, что в самодеятельности обычно одна зелёная холостёжь. А что ж тут, в» Кукурузоводе», за сборная солянка? Звеньевая и школьный учитель, пенсионерка и старшеклассница, главный агроном и тракторист… Что это за люди?
Мягко тронул Верейского за локоть и, приложив палец к губам, напомнил про Питру и Маричку. Иван согласно кивнул, помолчал, собираясь с мыслями, и, минуту спустя, Богдан разом слушал и новую песню, ясно зачем-то выде – ляя из всех голосов чистый Маричкин голос, уже который не мог спутать ни с каким другим, слушал и тихий рассказ Ивана.
– Вот Юрко Юрьевич… Шестьдесят четыре. А по-ёт! А житуху какую проскочил? Родился в 1914 году в Венгерском королевстве. В Белках. В пору его молодости горько шутили бедаки: «Захочешь в обед отдохнуть, ложись на своём поле посерединке, да не забудь ноги подвернуть: растянешься – панскую землю примнёшь».
Было время, называли эти места «краем, забытым Бо – гом», называли «Африкой в центре Европы». Неподалеку от Чистого находится географический центр Европы.
За куском хлеба нужда снимала людей в чужие земли. Редко кто возвращался. Раз сорвался гореносец – будто ка – мень в воду.
Батрачили Маричкины родители.
Батрачил сам Питра.
Выращенный самими и собранный с арендованного уча – стка урожай той же кукурузы или картошки ссыпали в две кучки.
Первым выбирал свою долю хозяин.
Питры на плечах вприбежку перетаскивали ему с поля его долю, только после могли забрать свою.
За работой и дети не знали детства.
Сначала Юрко – мальчик пас свиней. Потом его резко повысили в должности. Стал пасти коров.
В семнадцать качнулся искать хлеба на стороне. Копал в карьере глину для кирпичного завода близ Праги. Тянул железную дорогу в Словакии. Водил коней в борозде в Моравии… Перебивался с хлеба на воду.
24 октября 1944 года Чистый Исток освободила совет – ская армия. Весь верховинский край вошёл в Украину.
Советская палица быстро согнала всех чистян в колхоз «За новэ життя».
В заявлении под диктовку Питра писал:
«Я, Питра Юрко Юрьевич, крестьянин села Чистый Исток, № 519, понял, что наилучшая жизнь для меня будет в коллективном хозяйстве. Добровольно прошу принять меня в коллективное хозяйство. Все обязанности буду выполнять так, как велит устав сельскохозяйственной артели. 26.1.48 г. Имущество: – (прочерк). Состав семьи: жена Иоганна (взял бедной фамилии), скоро родит».
Не напиши Питра это заявление, где б он был? И что с ним было бы?
Не верили крестьяне, что из колхоза будет толк.
Богатики заставляли детей ложиться под трактор, лишь бы не допустить трактор в поле. Мол, «трактор пашет глубоко и выпахивает мертвицу, а такая земля никогда родить не будет».
Но первый колхозный урожай был выше панского.
Паны и тут нашлись:
– Всё равно их Бог забыл. Это чёрт им дал!
С первой колхозной поры Питра ведёт звено.
Как-то нагрянул к Питре Рокуэлл Кент[88].
В ресторане был организован обед. С красавицей женой Рокуэлла все здоровались за ручку. А Юрко Юрьевич поцеловал её в щёку. Ревнивец Рокуэлл обиделся. Сказал, что такого его глаза ещё не видели и больше не сводил с жены глаз во все дни, пока гостил у Питры.
Обмирая от восторга, целый день Рокуэлл протолокся в звене Питры на севе. И сказал:
– Роден говорил, что человек может быть счастливым лишь тогда, когда станет художником в душе. Вы стали таким человеком. Вы безгранично любите свою работу, зе – млю. Я провёл тут самый радостный день в своей жизни.
Сколько помнила себя Маричка, столько и знала Питру.
Странного здесь ничего.
Её отец, Иван Иванович, и Юрко Юрьевич были неразлучные, как лист с травой, друзья. Дружили домами. Звеньевые. И уж как сошлись, так без разговоров про кукурузу не разойдутся.
«Знаете ли вы землю, где ветер пашет, а дождь сеет, где вместо колоса пшеницы растут высокие ели?»
Да, это Верховина. Русиния.
Постные, глинистые, каменистые склоны тут не щедры…
Однажды обходил Питра свой участок у Боржавы. Увидал толстый слой сизоватого ила.
«Ого, сколь награбила речушка добра у гор! Где лист, где палое дерево – отличное удобрение, чего так нам недо – стаёт. Как же раньше я не углядел этого ила?»
Стал мешать ил с навозом. Заметно подросли урожаи.
По урожаю Питра обходил Ивана ивановича. Неудачу Иван Иванович переживал мучительно.
Раз он сказал:
– Одна голова – это одна, а две головы уже люди. Давай посоветуемся.
– О чем?
– Накупил до лешего книжек… Живое живёт и думает… Без знания и лаптя не сплетёшь… Так же… Кукурузоньку по книжкам надобно выхаживать.
– А у меня, думаешь, книжек мень твоего? Книжки… Не суй, Ивашка, ногу в чужой черевик. Разве кто писал, бывал у нас в Чистом? Разве знает наши земли? Не про наши места книжки, вот где большой им минус. Надобно самим повязать науку с практикой нашей да наших стариков…
– Ну-ну-ну! – перебил Иван Иванович. – Лучше и не заикайся про дедов. Сеяли, вишь, тоже по «науке». Вол мог спокойно лечь меж рядков и не прикоснуться ни к одному стебельку. Зато и зерна брали втрое меньше против нас.
– Да-а… За густоту не похвалишь. Земли не было. А сеяли так редко. Одначе не всё ж худо, было что-сь и доброе. Взять это доброе, добавить наше с тобой нонешнее, проверить на просторной ниве да и скласть самим книжку. Чтоб молодые не ощупкой, как мы с тобой, шли к добрячим урожаям.
– Мечтать ты, Юрко, горазд. А впрочем… Ты подмо – ложе. Хватит твоих годков и на книжку. А я буду дышать уж тем, что растёт вот у меня Марийка… Продолжательница…
Спевка начала расходиться.
Нехотя поднялся и Богдан.
– Занимательный, очень занимательный у вас народко, – тряхнул за плечо Верейского. – Жаль, что всего этого не слыхали мои архаровцы. Не то б они… Ну да это исправимо. Я думаю, надо бы им устроить встречу с жителями Чистого. Нам нелишне знать друг друга. Наверняка соберётся весь наличный состав чистых невест. Я обратил внимание, девчата у вас смотрибельные. Есть на чём глазу разговеться. Познакомимся, общнёмся…
Богдан поднёс Ивану руку.
– Ну, держи пять. До завтра.
– Уже уходишь?
Богдан беспомощно раскинул свои грабельки.
– Уходит она… Надеюсь, ты не возражаешь как непо – средственное начальство, если я провожу Марику?
– Высочайше соизволяю! – с коротким поклоном насме – шливо ответил Иван.
– Ты мне почти ничего о ней не рассказал… Тогда рискну всё узнать от неё самой. Что поделаешь, я до гибели любо – пытный…
Иван резко, с чужеватинкой глянул Богдану прямо в глаза.
– Слушай, печколаз[89], – голос у Ивана похолодел, – один совет на дорожку. Лихое что в голове держишь – не ходи. Лучше побереги себя. Пришьёт она тебе цветок[90].
– И хорошо! Нарядней буду.
Ночь была ясная.
В чёрной тени колонны Богдан выждал, покуда Маричка не отдалилась на приличное расстояние и только потом стриганул топтать её следы.
Крался медленно, боялся ненароком нагнать.
«Далеко ли она живёт? А вдруг она уже у своего дома?»
Панически набавлял шагу – через минуту вкопанно оста – навливался.
«Ну ладно, нагоню. Дальше что? Скажу что? Здрасьте, я ваш дядя? Негусто…»
Маричка заметила преследователя. Стала.
Некуда Богдану деваться. Подошёл, как спутанный.
Выдавил:
– Можно… Я провожу?
– Зачем? – В вопросе плескалась улыбка. – Не инвалидка… Ноги есть, сама дойду.
– Ну… Немножко…
– Куда?
– Вообще-то… до дома.
– Я уже дома.
И повела рукой в сторону белой хатки, что словно с испугу вжалась в склон холма.
– Идите уж своей дорогой. Не перебивайте нашей собаке сон. А то ещё проснётся… Вы ей можете не понравиться. Глаза у вас слишком горят.
3
Хорошего вола в ярме узнают.
Всякая работа мастера любит.
Наутро Маричка шла по своей делянке, проверяла, не помяли ли где растеньица вчера ненароком при подкормке, и, задумчиво взглядывая на резные светло-лиловые зубцы гор вдали, напевала:
– Ты гадаешь, гарний любку[91],За тобою гину[92]?Та я десять собi знайду,Лишь бровами кину.Богдан вкрадчиво спросил:
– Что, репетиция продолжается?
Маричка сделала вид, что и не слышит и не видит. Знай своё работает.
– Я читал… Один американский агроном уверял, что кукуруза лучше растёт, когда над полем звучит лёгкая му – зыка. Звучит нежно, розово, а не хулиганиссимо.
Эффект – пухлый ноль.
Богдан твёрдо рассчитывал, что коронный номер с му – зыкой над полем наверняка поможет ему завязать близкий, греющий разговор с Маричкой, но она лишь летуче глянула на него как-то безнадёжно, прыснула в шоколадный кула – чок. Эх, тёмный лес – никакого просвета!
– Мда-а, одна птаха лета не напоёт… – то ли себе, то ли Маричке в спину с несмелым, мяклым укором бросает Бог – дан. А сам переминается с ноги на ногу, не решается дви – нуться следом.
«Ничего, я терпеливый, как камень. Подожду…»
На второе утро снова прикатил. Растерянный, словно заяц.
«И не знаю, с какого боку к тебе и подступиться…»
Робеет, не найдёт речей Богдан.
Молчит и Маричка, будто немая.
На третье утро сознаётся в мыслях Богдан:
«У меня от тебя в душе рана, как могила глубокая. Хоть куда иди, а я привсегда вижу тебя…»
И следом поплёлся, как блудный пёс.
Казнить молчанием не рука.
Маричке понравилось, что возили вот по её коридору экие трубищи, а и стебелька внечай не подломили, а и на ладошку не заскочили в сторону от того, что отвела сама.
Сказала, чуть повернув к нему голову из милости:
– В соседних сёлах жалятся, страшное дело, сколь это лишних посевов переводите…
– Так то ж в соседних…
– Выплывает на поверку, можно и вот так везде тянуть газ, – взгляд на тесный, аккуратненький «коридор». – А что мешает?
– Не нарывались на таких, как вы, – чистосердечно признался Богдан.
– Во-он оно что! Чем же я плоха?
– Проще сказать, чем хороши…
– И на это запрета не кладу. Говорите.
– Ух! – Торопливый, как суета, Богдан готовно усмехнулся. – Чересчур громко получается… Махом и не сказать… Одно слово… Тут по-быстрому не… А знаете! – вспыхнул Богдан ликующим отчаянием. – А давайте встретимся вечером. Для дела ж…
Повела Маричка ласковой, смоляной бровью на шну – рочке – узенькой, ровной, красивой.
– Ну разве что для дела…
И вечером, при огнях уже в окнах, шли молодые по селу, смущаясь друг друга.
Где-то за околицей, у вагончиков, под хромку дураш – ливо и хрипло раздишканивал какой-то партизанко:
– Меня милашка разлюбила,Что же я поделаю?Пойду к речке, к проруби,Вокруг неё побегаю.Второй удалина парень, по-бабьи ломливо взвизгивая, назидательно отвечал:
– У моей-то грубеянки[93]Двадцать два сударика:Два женатых, два седых,Восемнадцать холостых.Пожаловался и третий:
– На крылечке две дощечкиВетром перекинуло.Мы с залёткой не видались —Два годочка минуло.Богдан подумал, как бы эти певуны не посыпали со – лёными тараторками, и, норовя разговором покрыть не – ясные, будто придушенные, голоса от вагончиков, подхлёстнуто попросил:
– Марика, расскажите про себя.
– Думаете, это интересно? – искренне удивилась Маричка.
– Спрашиваете!
У Голованя Ивана-младшего росло трое детей. Старшие, Костя и Вера, завеялись уже во Львов.
Это нравилось и не нравилось старикам.
Оно, конечно, лестно, что вот Костик, сынаш бывших батраков, преподавал в торгово-экономическом институте. К сердцу вроде ложилось и то, что и Вера правилась по стопам брата, в том же институте копила ума.
Правда, Вера клялась-божилась, что неминуче вернётся в Чистое. Она и в самом деле потом таки вернулась в Чистое, в торговое объединение экономистом. Да какой с того возврата навар?
Ушёл, стаял с земли Костя; и Вера на земле не работ – ница. Гостья.
Будь они хоть раззолотые спецы в своём тоже нужном деле, а коль не при земле служат – не та, не та им стари – ковская цена, совсем не тот почёт.
Теплила душу одна надежда. Маричка.
Дохаживала десятый класс.
Разговоров про отъезд не затевала.
Напротив, с бо́льшим ещё старанием нéжила звеном свой опытный школьный участочек. А выпади вольный час, неслась ветром на соседнее поле к Питре, к отцу под – глядеть, и как сеют, и как глубоко заделывают семена, и как смотрят за посевами…
Не-ет, не похоже, что Маричка утянется с земли.
Это одно по-настоящему радовало, грело стариков.
И – сбивало с толку.
Как же так? – томились старики в догадках. Все трое одного корени. Поднимались на одной каше кукурузной. Бегали в одну школу. Рвали с огня, тянулись в нитку в одной ученической бригаде…
Так как же получилось, что Костя и Вера, пройдя все те же круги, сошли с земли, а Маричка осталась?
Хотелось старикам взять себе в ум, понять, какими же ниточками привязана дивчинка к земле, – не могли. Переби-рали, тасовали, как колоду карт, её прошлое, короткое, чис – тое, ничего особого не находили и ясно улыбались, припо – миная потешные картинки из её детства. Не всякие следы ветер песком заносит.
То вот она, набрав с початков волосу, вплетала себе в косички и во всю прыть мчалась к отцу-матери похвалиться, какая ж она хорошка с шёлковыми кукурузными косами.
То вот составила из янтарных зёрен мудрёный, только ей понятный узор.
То… Девочка вся так и светилась желанием завести ку – курузное ожерелье и – не завела: «Зёрнушкам больно, когда протыкают их и носят на нитке. Зёрнушки будут плакать…»
То…
Сели как-то в январе лущить кукурузу. А Маричка утаскивает куда-то кочан за кочаном. Прячет.
– Ты что это вытворяешь?
– А зачем выгоняете зёрнушки из домиков на холод? – кажет на сухие толстые, с ножкой, листья-стаканы, где то – лько что ещё жили початки. – А ну выскочи кто сам боси – ком на снег – сразу назад в тепло крутнёшься!
День бежит, неделя летит, годы скачут…
Подросла, подбо́льшела Маричка.
Воротилась раз из школы и отцу:
– Татонько! А вы знаете, учительница назвала кукурузу лучшей из всех хлебов!
Посмеивается отец:
– Теперь знаю.
– И везде её любят. Давно любят… Когда она появилась у нас?
– Читать не доводилось, а слыхал от дедов. Давненько. И как!.. В войне с турками один наш отряд попал под Белгра – дом в плен. Замирилась война. Родичи отдали за каждого невольника выкуп и только потом, ой и нескоро, отпустили. Один истокский отчаюга и прихвати кочешок до се неве – данного мелая[94]. С нашего, с истокского, поля он и пойди по окрестным полям, а там дальше, дальше…
Легенда ли это, быль ли…
После школы Маричка пошла в звено к отцу.
Вместе на поле, вместе с поля.
Не знал отец большего счастья, как жить с дочерью одними хлопотами, одними думами.
Радовался в душе, что Маричка упрямо доходила до сер-дцевины всякого дела, докапывалась до нутра цепким, мо – лодым разумом и вовсе не стеснялась тормошить его само – го, напористо выведывая, как способней, как лучше делать это, это, это.
Отцу ли тут скупиться!
– Учись, доня, учись… Чему научишься смолоду, в ста – рости не забудешь…
Богатую сняли страду.
В декабре, на первом при Маричке годовом собрании звена, отец и скажи в грусти:
– Спасибо всем вам за доверие. Как мог, так и оправды – вал день в день все двадцать лет… А больше я не батька звену…
Ему с тревогой возразили:
– Самоотвод не принимаем!
– Что самоотвод… Годы плывут, как вода. Вот и подплыла моя пензия…
– Ну-у… Пенсия подождёт. Этой мадамке спешить неку – дочки!
– Да нет, – стоит на своём, – день за днём и ближе… Здо – ровье уже не то. Всё меньше остаётся земелюшку топтать.
– Во-он вы куда-а… Да вы ещё воробья переживёте!
Отемнел лицом Иван Иванович. Пожал плечом, тихо, но твердя обронил:
– Как хотите, власть звеньевого сымаю с себя. Пойду рядовым.
– И что, никого не присоветуете заместки себя? Без пастуха ж и овцы не стадо…
– Сами выбирайте атамана. Тут я сторона.
Молчание было короткое.
– Иван да свет вы наш Иванович! – ласково пропел кто-то. – А коли мир пожелает атаманшу да с вашей фамильностью? Марийку! Только год с нами, а добре выказала себя. Дивчина в работе боева, горячуща. Про таку не грех сказать: или дай, или вырвет!
Другой голос:
– Трудолюбка. Уже на восходе не ждёт захода солнца. Как некоторые.
Третий:
– При доброй грамоте. Земля слухом полнится, в заоч – ный сельский институт вроде как настраивается… Помним, в школе была звеньевая. А что будет самая молодая звень – евая в хозяйстве – грех невелик. Ну чем не верховодка?
Выбрали Маричку в один голос.
Головани сажали картошку.
На ту пору звено всего помалу выхаживало. Это каких три последних года стало знать одну лишь кукурузу.
На беду, с картошкой ещё не управились – слёг Иван Иванович и в скорых днях отошёл.
А вокруг цвели сады, в нарядах невест роскошничали яблони; белые иголочки кукурузных ростков, подталкива – емые силами земли, прокалывали её изнутри и быстро, будто из воды, тянулись к свету жизни.
Горе сделало Маричку намного взрослей.
Уже первый её урожай был на целых пять центнеров выше отцова.
Поднялась Маричка на ступеньку, которой не знал отец.
А с новой высоты мир шире, видней!
Подхватилась Маричка посоперничать с самим Питрой.
– Ну что ж, – положил согласие наставник, – вечер пока – жет, какой был день.
А день выдался тяжкий, тревожный, в бесконечных хлопотах.
Земли в Чистом не божий подарок. Нищие, скупые на отдачу. Хорошенько не удобришь, на удачу по осени, вечером, и не рассчитывай.
А удобрений нехват.
И сгребали девчата сами по дворам и золу, и куриный помёт, и навоз.
Двор, где жила корова, облагался особой данью. Дай две тонны навоза. Зато без платы получишь и выпаса для своей бурёнки, и машину подвезти ей корм.
Весть о работе в урочище Мочар звено приняло в шты – ки.
– Что же ты согласилась? – разом наваливались на Маричку со всех сторон. – Как ты могла пойти на такое? На верный позор! С треском же провалим свои сто семнад – цать на круг! Эти центнеры там не валяются!
Страсти бушевали. И было отчего.
Глянь в словарь. Ясно ж написано:
«Мочар. Топь, низменное с подпочвенной водой место».
Это поле и в самом деле слыло худшим, пустым.
– Послушайте, – сердито кинув бровями, отвечала Ма – ричка, – а что, прикажете… Говори да оглядывайся! Гм… идея! Выбирайте ходоков и прямой наводкой к руководс – тву! Так, мол, и так, мы, молодые, не желаем браться за Мочар. Дайте-подайте нам лучшее поле! Вот тогда мы вам и докажем, что мы можем!.. Так петь станете? Да? Думайте. Не для платка голова на плечах. Выходит, брали высокие обязательства под тепличные условия?
– Ну при чём тут сразу тепличка?
– Тогда какого же рожна разгорелся этот сыр-бор? Стыдоба одна! На собраниях мастаки лить речи про честь, про гордость! А как до дела доехали… Один разговор – выпроси я тот Мочар. Но как вы не понимаете, выскочил он нам по севообороту. Нам бы нет доказать, что на любой земле способны огребать урожаи геройские… А вы…
Маричка опало махнула рукой. Помолчала.
– Вспомните Фрайду.
– Слыхали от родителей. Была жадюга помещица. Сдавала крестьянам в аренду самую плохую землю в урочище. После то урочище назвали Фрайдой, по имени той убежавшей бездетной помещицы.
– Так вот, злопыхатели всё тычут пальцем на Юрка Юрьевича. Мол, создают особые, райские, условия, зем – лицу побогаче всегда ему. Вот он и давит урожаями… Юрко Юрьевич не вынес перетолков, откачнулся от участка, намеченного по севообороту, и стребовал, чтоб отвели во Фрайде. Кроме куколя ничего путного не росло в том урочище. Прозвали яловым, вымахнули даже из колхозных угодий. А Юрко Юрьевич – по сто двадцать желаете центнеров! О! Отдачка! Но кислые недоброжелатели и здесь своего не упустили. Кричат: «Кто взвешивал, кто считал его центнеры? Знаем мы эти бумажкины рекорды! Зато всему Истоку стегают по глазам. Старайсь! Догоняй маячка! Р-равняйсь на Питру!» Ну, завистники завистниками, а сто двадцать – это сто двадцать! Бери, молодь, пример со стареника! Не стесняйсь! Не прячьте, девчатоньки, подсиненные глазки…