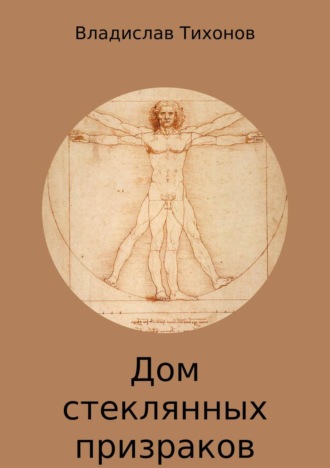
Полная версия
Дом стеклянных призраков

Владислав Тихонов
Дом стеклянных призраков
И я вступил в тот дом, который был горяч, как огонь и холоден, как лёд; не было в нём ни веселия, ни жизни – страх покрыл меня и трепет объял меня.
Енох (3; 27)
«Странное самоубийство, произошедшее неделю назад в заброшенном доме на южной окраине, уже породило волну нелепых слухов и домыслов среди горожан. Сам факт, что жертвой трагедии стал достаточно известный в городе человек, дал повод распространителям слухов говорить о том, что это было якобы убийство. Нашей редакции стало известно, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте происшествия прощальное письмо погибшего. Но содержание его стражи порядка не разглашают. Необычный способ сведения счётов с жизнью, избранный самоубийцей, также стал поводом для сплетен. В прошлом номере нашей газеты уже сообщалось, что член Союза художников Дмитрий Воронцов, автор многочисленных работ, признанных новаторскими в том числе и за рубежом, покончил с собой, наглотавшись осколков стекла. Несчастный умер в страшных мучениях. Паталогоанатом, проводивший вскрытие, был удивлён. Ему непонятно, как можно было проглотить такие большие осколки и в таком громадном количестве…»
– Ну и дурость!
Пётр Сапегин, болезненно худой и весь какой-то расплывчатый молодой человек, отложил газету в сторону и взялся за первое. Дымящийся супчик, где среди разваренной лапши плавали сероватые кусочки картофеля и лука, исчез быстро. Так же быстро ушли с тарелки слегка политые рыжим безвкусным соусом макароны и усыпанная сухарём котлета. Стакан сухофруктового компота – бурой мочи желтушника – довершил трапезу. Короткую и скудную, словно молитва перед казнью.
– Что, газетки почитываем?
Громыхнув посудой на подносе, за столик Петра пристроился его одногруппник Веня Караморов – внешне странноватый юноша с маленькими оттопыренными ушами на голове-репе. Огромные глаза-стекляшки, приклееные к веснушчатой морде, не выражали ничего.
Петру стало противно. Он не любил этого лживого болтуна.
Караморов, предельно обезобразив себя пародонтозной улыбкой, потянул руку за газетой.
– Ну-ка, чё тама пишут-то?
Наморщив покатый пупырчатый лоб, Веня уставился в газетные строки. Почерневшая алюминиевая ложка быстро замелькала перед его широко распахнутой пастью. Капельки супа мигом усеяли поверхность стола мелкими сопливыми лужицами. Газету Веня тоже обильно закапал.
– Ну, как? Знакомые буквы видать? – покривился Сапегин.
– Ага! Угу! – весело затряс башкой Караморов, зачитываясь рекламными объявлениями.
– Ну-ну.
Пухлые караморовские плечики были усыпаны крупной перхотью. Пётр подумал, как классно было бы сейчас встать из-за стола и врезать ублюдку ногой в рожу – вбить дешёвую столовскую ложку глубоко в чавкающую пасть. А потом схватить вилку и смачно засадить в этот нелепо выпученный глаз. А потом ещё стаканом… После схватить за реденькие волосы и рожей об стол! Несколько раз!!! Господи, до чего хорошо было бы!
– Ладно, Карамора. Бывай! – Сапегин резко поднялся со стула.
– Ей! А газету? Я ещё не дочитал…
– Да оставь себе. Подотрёшься потом…
* * *
Наступившая весна была суровой. Ледяной ветер свирепыми рывками бросался в лицо, мерзкая грязная слизь трупно хлюпала под башмаками. Временами падал с гнилостно-серых небес тяжёлый, отсыревший снег. Валился в тёмные глубокие лужи и плавал там печальными, скоро исчезающими островками. Натянув капюшон на глаза, брёл по улице Пётр Сапегин. Хилый студенческий обед плескался где-то на самом дне его желудка, посылая наверх слабенькую отрыжку. Кишки заработали – хоть это хорошо… Пётр поел сегодня горячего впервые за три дня. Три дня самой отвратительной, самой тошной пьянки в его жизни.
У крыльца продуктового магазина «Олимп» сидел безумный слепой старик и, аккомпанируя себе на баяне, жутким голосом кричал:
Грохочите громче, взрывы!
Крой обломками Москву!
Гексагеном на досуге
Разгоняем мы тоску!
Буржуя! Не унывайте!
Будет вам ещё «Норд-Ост»!
Долетят кишочки ваши
До кремлёвских алых звёзд!
Некоторые прохожие, смеясь, бросали старику в кепку мелочь. Большинство же, испуганно втянув головы, ускоряло шаг и торопилось поскорей миновать крамольного частушечника.
Городская жизнь дразнила и угнетала Петра своей неопрятной жутью. Он то и дело ловил хищный взгляд Дьявола, вечного ненасытного игрока, что следил за реальностью сквозь прорези дешёвых аляпистых масок.
Неслись гордые грязные иномарки, обдавая пешеходов потоками уличного говна. Суетные коты в палисадниках загоняли друг дружку на деревья и угрожали всему миру пронзительным воем. Выцветшие драные плакатики скалились со стен и фонарных столбов харями местных политиков. Маленькие афишки рядом лукаво подмигивали: «Петербургская Кунсткамера: «Ужасные аномалии» и уникальная коллекция мумий», «Бои без правил: только три дня», «Эротическое шоу «Пытки древнего Китая»… Из ниоткуда в никуда тёк привычный дневной поток человеческого мусора. Угрюмые молодые люди с пивом, бодрые молодые люди с барсетками, неприступные с виду девицы, девицы, с виду вполне доступные, ползущие в собесы и поликлиники пенсионеры, дешёвые проститутки-героинщицы, алкаши, гопники, менты, простые граждане и гражданки, уроды, электорат, симпатичные, так себе, с придурью, с заумью, тихие, пугливые, безбашенные, жрущие, ржущие, кепки, куртки, клёши, кожа, сумки, пакеты, перевёрнутые урны, витрины, зазеркалье, баннеры «Волшебные ковры из Египта», «Самый большой выбор бытовой электротехники», «Компьютеры по доступным ценам», гигантские рекламные щиты «Клуб «Президент» – лучший отдых для состоятельных мужчин. Лучший в городе стриптиз. Лучшая кухня из Европы. Лучшее казино», сотовые телефоны, сотовые телефоны, сотовые телеф… грязь, грязь, грязь, грязь. Плевки, окурки, моча, кровь, собачьи какашки, раздавленные шприцы, битые бутылки, портреты Путина, «дя-я-я-яинька, подай на хлебушек…», «молодой человек, помоги больному дедушке», «братан, выручи, двух рублей не хватает…». Исписанные стены – россия для русских, смерть хачам, смерть буржуям, панки хой, да здравствует революция, НБП, лимонова в президенты, все козлы, рэп-отстой, люди-вы-пидоры… свастика, свастика, свастика, серп и молот, свастика, свастика, свастика…
* * *
Пётр Сапегин, студент пятого курса худграфа, долго пытался понять, зачем он живёт. И почему надо, чтобы жизнь текла именно так. В окружающем Петра мире не было ровным счётом ничего. Ничего, что могло бы подарить ощущение счастья и самоценности. Мир был болезненным плотным маревом, разлагающим сознание, разъедающим индивидуальность. С какого-то момента Пётр начал осознавать себя живым трупом, обитающим в гигантском морге. Эта мысль впервые возникла у него несколько лет назад, когда исступлённым жарким днём он ехал в набитом потно воняющей плотью трамвае. Тогда Пётр внезапно, под испуганные бабьи визги, потерял сознание от того, что понял: он окружён трупами, гниющим и распадающимся мясом. И сам он, Петечка Сапегин, – один из этих трупов, что пока ещё ходят, едят, срут, трахаются, смотрят телевизор. А некоторые даже думают. Точнее, думают, что думают. Осознание этой истины привело Петра к тому, что две недели он не мог ни есть, ни пить, ни двигаться – лежал пластом на кровати и ждал. Ждал, когда его, Петечку, наконец, похоронят. Вот тогда, грезилось ему, откроется некая дверь, и его куда-то позовут. А дальше – успокоят, покажут, всё объяснят… Любовно вылечат от грандиозной лжи по имени Жизнь. Или же придёт Тьма – принесёт покой и умиротворение, и он, Петя Сапегин, больше не будет трупом, а сольётся с доброй, милосердной темнотой, которая растворит в себе все страхи, выпьет всю боль, прогонит все обманы и мучительные иллюзии.
Домашние не могли понять, чтό с ним происходит. Выдвигались самые глупые и пошлые версии – от «влюбился пацан» до «уж не наркота ли». Врачи поставили диагноз: острое невротическое состояние на почве хронического переутомления. Тяжёлая форма депрессии. «С чего это он так переутомился-то? С безделья, что ли? – негодовали родственники, – Мы вон в его годы… бла-бла-бла… некогда нам было депрессиями страдать!»
Несколько недель в неврологическом отделении, как ни странно, пошли Петру на пользу. Мрачные мысли, правда, никуда не делись, не исчезли после сеансов психотерапии и курса витаминных инъекций. Даже дорогой французский препарат «Коаксил» не превратил Петра в брызжущего энергией трудягу-оптимиста, как ни надеялись родственники. Но существовать стало проще. Окружающий маразм более не казался столь гибельно-тошнотворным. Пётр даже стал находить забавными управляющее всем безумие и никчёмную суету. Более того: Петру понравилось злорадно наблюдать за падением мира в яму с говном, в то время как окружающим мерещилось, будто мир воспаряет в звёздные дали.
Насквозь пропитанные ложью и невежеством, ежедневно преподносимыми газетами и телевидением как норма человеческого бытия, люди стали казаться Петру прикольными марионетками. Пошлыми, бессмысленными, самовоспроизводящимися биороботами, запрограмированными на бесконечное разрушение. Себе же Пётр отвёл роль мудреца, который всё видит, всё понимает, а потому молчит. Молчит – ибо любые слова здесь бесполезны… Но, как и всякий мудрец, он имел право на скрытое презрение и злую усмешку. А также на безысходную ненависть, замаскированную под спокойствие, мягкость и безмятежность.
И жизнь его отныне так и потекла – спокойная жизнь мудреца, зрителя и ленивого критика, апатично перемалывающего жвачку дней, без особого аппетита хрустящего своим поп-корном перед экраном. Мельтешит на белом полотне какая-то цветная суета, какая-то невразумительная хрень носится туда-сюда. Можно от скуки посмотреть на это мельтешение, можно даже попытаться вникнуть и выдернуть из этого мусора некие сюжетные линии, сделав вид, что тебе интересно. А можно, послав все сюжеты к такой-то матери, просто поспать: откинуться на доставшемся тебе стуле и сладко прохрапеть до самого конца сеанса. До той секунды, когда погаснет экран и вспыхнет яркий свет, прогоняя уютную темноту. И вот тут мудрец наш, зевая, встанет, отшвырнёт скомканный пакетик с недоеденным поп-корном и равнодушно выйдет вон. И так никто никогда и не узнает: понравился ли ему фильм и какие впечатления от просмотра унёс он с собой. Всё просто и хорошо.
* * *
Сегодняшняя заметка про психованного самоубивца, помимо всякого Петрова желания, проникла в голову его досадливой мухой и тут же успела коварно отложить в дремлющие извилины своих скользких опарышей – Пётр это просёк и вышел из себя. Он немного знал героя заметки, Дмитрия Феодосиевича Воронцова. Член Союза художников, «автор многочисленных работ, признанных новаторскими в том числе и за рубежом», был, на взгляд Петра, типичным для провинции пошлым придурком, бездарным мазилкой с превеликими претензиями. Мнил себя, чмо несчастное, не то Ван Гогом, не то Пикассо. Какие-то шоколадные домики в тени жестяных пальм, какие-то мармеладные девятиэтажки, абрикосовые джипы, торговцы сверкающим урюком какие-то…
Но одна картина Воронцова всё же произвела на Петра впечатление. Она называлась «Дом стеклянных призраков». Картина очень сильно, прямо сказать – радикально, отличалась от всего остального, что создал Дмитрий Феодосиевич Воронцов. На этом полотне не было его характерной нарочито-дебильной слащавости и гнуснейшего заоблачного оптимизма. Как будто однажды Воронцов вдруг протрезвел, глаза его обрели ясность, и увидел он…
…мрачный, тёмный, отсыревший дом на безлюдной окраине. Тяжёлое, предгрозовое небо… Ветер гонит мимо дома клубы жёлто-серой пыли и старого мусора. Гонит куда-то в чёрный провал подворотни, придавленной обвисшей, осыпающейся каменной аркой. Дом пристально и жадно смотрит с картины покалеченными глазницами окон, утыканными стеклянными осколками. И в одном из этих чёрных окон – на последнем, третьем, этаже – виднеется нечто алое, по форме напоминающее человека. Какой-то нелепый мазок – секундный отсвет заходящего солнца, бросившего на миг свою искорку сквозь тучи, вечерняя игра света и тени, хитро схваченная осколками оконного стекла… Или какой-то странный туман, просочившийся в заброшенную комнату…
В местной картинной галерее, где незадолго до гибели проводил свою выставку Воронцов, «Дом стеклянных призраков» симпатией посетителей не пользовался. Культурные дамочки брезгливо морщили угрястые носы: «Надо же! Хороший художник, а такую гнусность нарисовал…». Журналист Лопушко, бравший интервью у Воронцова для газеты «Светоч горадминистрации», поинтересовался: откуда, мол, у светлого, жизнерадостного гения такая мрачная, недобрая фантазия? Воронцов только пожал плечами и как-то ловко перевёл вопрос в иную плоскость. В конце концов безрадостную картину убрали – возможно, по желанию самого творца. А старательно выписанные маслом жестяные пальмы и абрикосовые джипы провисели в пустой тиши галереи ещё целый месяц.
И вот теперь Воронцов умер, наглотавшись битого стекла. Что подвигло его на этот безобразный поступок? Для общества это так и осталось загадкой. Дмитрий Феодосиевич был человек немолодой, степенный, к экстравагантным выходкам не склонный, избалованный вниманием местной прессы и городских властей. Пил, правда – ну, да кто у нас не пьёт. В общем, явление для уральской провинции вполне нормальное.
* * *
Придя домой, Пётр заперся в своей комнате. Вопросы домочадцев о том, где он «изволил шляться три дня подряд», остались без ответа. Пуская в потолок сигаретный дым, Сапегин против воли вспоминал «Дом стелянных призраков». Воронцовское творение стояло перед ним так живо, будто висело прямо на потолке – на месте жёлтого никотинового пятна. По мере того, как глаза Петра наливались сном, Дом медленно растворялся в снежной дымке. Закатное солнце постепенно притухало, отползая за грань темноты, и Дом терял свои угрюмые гротескные очертания. Он становился похожим на чьё-то плачущее лицо. Осколки в слепых окнах превратились в слёзы. Не нужно бояться… Не нужно. Это просто волшебный покой, обретённый в непонятной тоске…
Потухшая сигарета выпала на пол. Пётр крепко спал – впервые за несколько последних недель.
* * *
Дмитрий Воронцов свои последние годы прожил в полном одиночестве – без жены, бросившей его чёрт знает сколько лет назад; без детей, забывших своего отца давным-давно. Единственным его приятелем, единственным преданным спутником жизни был алкоголь. Обо всём этом Пётр Сапегин узнал на кафедре живописи родного худграфа. Там же узнал он и о том, что Воронцов при всей своей внешней благообразности обладал тяжёлым характером – мог оскорбить и обругать едва знакомого человека ни за что ни про что. А месяца за два до самоубийства Дмитрий Феодосиевич начал проявлять откровенные признаки помешательства: нёс всякий вздор студентам на лекциях и в разговорах с коллегами, бессмысленно дерзил начальству. После той злополучной выставки пил без продыху каждый день, уверяя при этом окружающих, что ему стала ведома некая «страшная тайна». Пятидесятилетнего Воронцова, несмотря на всю его известность, уже собирались турнуть из института, но не успели. Он сам себя турнул, и не просто из института, а вообще из всего.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.









