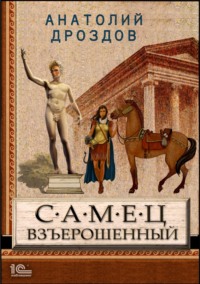Полная версия
Реваншист

Анатолий Дроздов
Реваншист
Роман
Светлой памяти родителей моих
1
Вокруг была тьма.
Но не ночь – та не бывает такой непроглядной. Как ни укрывай окна шторами, свет все равно пробьется, и привыкший к темноте глаз различит проступающие в серой мгле стены и мебель. На забытье мое состояние тоже не походило: ведь я размышляю? Сон? Сны не бывают черными – это миф. Спящий человек всегда что-то видит: людей, животных, дома, природу… Ничего подобного вокруг не наблюдалось: тьма стояла плотная, почти осязаемая. Я попробовал пошевелить руками, затем ногами – ничего не вышло. Я вообще не чувствовал своего тела – его будто и не было. «Значит, я умер, – пришло осознание. – Дочь обрадуется».
Странно, но эта мысль почему-то не взволновала. Да и с чего? Со дня, когда меня выкинули на пенсию, я не шел, а бежал к могиле. Вылезал из квартиры лишь в магазин за очередной партией бухла и квасил до посинения, пропивая остатки сбережений и печень. Печень, на удивление, выдержала, а вот сердце – нет. Когда грудь сдавило, и накатил страх, инстинкт заставил меня уцепиться за жизнь. Я вызвал скорую и открыл дверь. Затем упал – там же, в прихожей. Это было последним, что я помнил.
«Интересно, где я умер: дома или в больнице?» Мысль мелькнула, чтобы пропасть: какая разница? «Где меня похоронят?» Да не все ли равно? Дочь наверняка выберет кремацию – так дешевле. Урну с прахом забирать не станет – сейчас многие так поступают. Зачем возиться? Из крематория позвонят раз-другой и угомонятся. Урну где-нибудь прикопают. На колумбарий дочь тратиться не будет. Государство выделяет на погребение пособие, которого хватит и на колумбарий, но дочь постарается сэкономить. Еще и с холдинга помощь стрясет. В моем пенсионном удостоверении стоит штамп «ветеран труда». В этом случае в соответствии с законом организация обязана участвовать в погребении. Дочь это знает: она у меня умная. Кандидат юридических наук как-никак. Холдинг потратится на автобус, от Союза писателей пришлют венок. У них это отработано. Большая часть членов Союза – старики, а те имеют обыкновение умирать. Союз пришлет делегатов, те посидят, выпьют, толкнут речь о заслугах усопшего, пожелают ему земли пухом. После чего обо мне забудут – как и о других. Кому сегодня интересны писатели? Ведь есть Ютуб, компьютерные игрушки, фильмы, наконец. С ними легче. Все для тебя разжевали – открывай рот и глотай. К чему утруждать мозг? Ну, или то, что у них в черепах…
Воспоминания накатывали солено-горькие, как океанские волны. Еще там, за Гранью, я осознал: жизнь прожита зря. И ведь не бездельничал: пахал так, что кости скрипели. У меня было все, что составляло предмет гордости советского человека: семья, квартира, машина, дача… В 90-е все посыпалось. Сначала сбежала жена. «Милый, в Италии платят такие деньги за уход за стариками – я заработаю и вернусь». Ухаживать ей так понравилось, что решила не возвращаться. Дочь-подросток осталась с отцом. Ее нужно было выводить в люди, и я лез из кожи. Репетиторы, вуз, аспирантура, защита диссертации – все требовало денег. Зарплаты не хватало. Но тут выяснилось, что за книги в России стали платить. Для меня начался звездный сезон или каторга – это как посмотреть. Приходя домой, я ужинал и садился за клавиатуру. Стучал по клавишам до глубокой ночи. Утром, невыспавшийся, бежал на работу. Эльфы, орки, гоблины, гномы – вся эта хрень путалась в мозгах, но пипл хавал, книги раскупали, а на счет капали вожделенные рубли. Их хватило, чтобы купить дочери трехкомнатную квартиру, а вот на мебель – уже нет. К тому времени в литературу пришел кризис, орки с гоблинами читателю надоели, а ничего другого в голову не приходило. Гонорары иссякли. Дочь с зятем обиделись. Как же, они рассчитывали! Я предложил им зарабатывать самим. Это возмутило их до глубины души. Дочь пыталась уговорить меня сменить трехкомнатную квартиру на однокомнатную, а разницу, естественно, отдать ей, но тут я уперся. В этих стенах я прожил более тридцати лет, и они для меня много значили. Дочь с зятем ушли, хлопнув дверью, и более не появлялись. На звонки не отвечали. От чужих людей я узнал, что стал дедом, но внука мне не показали.
Оставалась работа. В 90-е, сообразив, что теряю моторность, я уговорил руководителя одной важной организации учредить журнал. К тому времени издания возникали одно за другим, но прогорали быстро. Мы выжили – команда была хорошей. Работалось интересно. Все фонтанировали идеями, и мы претворяли их в жизнь. Журнал толстел и рос в тираже. Мировой кризис нас не затронул – только окрепли. Журнал знали в стране и за рубежом. Главный редактор в моем лице ездил по конференциям, где выступал с докладами. Их растаскивали на цитаты. У меня брали интервью… А потом у директора холдинга, которому принадлежал журнал, образовался племянник – выпускник журфака. Родного человечка следовало пристроить. Для начала его усадили мне заместителем – набраться опыта. Для этого требовалось наличие мозгов, а у племянника они отсутствовали. Тем не менее, через пару лет он решил, что созрел. Чем меньше человек знает, тем больше у него апломба. Последний контракт со мной продлили ровно до пенсии, после чего уволили.
Племянник угробил журнал за два года. Чтобы создать новое, требуется недюжинный ум, а развалить может любой дурак. У племянника вышло блестяще. Для начала он уволил моих людей – они ведь осмеливались спорить! Взамен набрал каких-то мутных дружков. Те смотрели ему в рот и кланялись. Было за что. С их способностями максимум, что им светило, – метла дворника. А тут офис, тепло, уютно – нужно только не забывать вовремя лизнуть шефа в зад. Через год тираж журнала упал в три раза, издание село на дотации. Цитировать его перестали. Я видел агонию детища, но помешать не мог. Кто станет слушать списанного в тираж редактора? Оставалось пить…
Сколько времени я предавался размышлениям, понять было трудно. Наверняка долго. Я вспомнил многое. При этом ругался и плевал – фигурально, конечно. Странно, но новая ипостась не мешала мне испытывать эмоции. В конце концов, это надоело. Прошлое осталось там, сейчас следовало подумать о другом. Например, где я, и что будет дальше? Ответа не было, окружающее выглядело непонятно. В книгах, которые я читал, посмертие выглядело иначе. Темный тоннель, свет в конце, а там – ангелы и родственники, ушедшие раньше. Далее мнения авторов расходились. Каждый гнул свою версию, но общим было одно: с душой что-то происходило. Но мой комитет по встрече медлил. «Может, никто и не придет?» – мелькнула мысль, и мне стало жутко. Висеть в темноте неизвестно сколько времени? Да я с ума тут сойду, загрызу себя воспоминаниями. «Господи! – взмолился я. – Великий и всеблагой! Сделай хоть что-нибудь!»
Меня словно услышали. Вдали показался светлячок. Он походил на пламя свечи, только в отличие от него был белым и прозрачным. Мельтеша, словно бабочка над цветком, он медленно приближался, пока не встал передо мной.
– Испугался? – спросил мужской голос.
Он прозвучал прямо в сознании – громко и отчетливо, по-человечески. Так, что я мог разобрать и оттенок, и тембр.
– Испугался! – признался я.
– Все пугаются, – равнодушно сказал голос. – Разве что праведники радуются. Но тех…
По его тону можно было понять, что праведников он давно не встречал.
– Ты – ангел? – спросил я. – Этот, как его, херувим?
– И шестикрылый серафим тоже! – хмыкнул собеседник. – Какой только хренью не пичкают вас на Земле!
«Надо же, грубит», – удивился я.
– Иначе не понимаете, – пояснил гость. – Стоит проявить милосердие, как начинают клянчить. «А можно мне хотя бы одной ножкой в рай? Я только с краюшку постою», – передразнил он кого-то и тут же деловито спросил: – Просить будешь?
– Нет, – сказал я.
– Почему?
– Все равно не помилуете.
– По крайней мере, самокритично, – одобрил он. – Чего взывал?
– Нужно определиться.
– С чем?
– С местом пребывания.
– Так ты его занял, – сказал гость. Мне показалось, что он пожимает плечами. Интонация, по крайней мере, была такой. – Что заслужил, то и получил. Вот побудешь тут лет эдак двести по вашим меркам, каждый грех вспомнишь в мельчайших подробностях и за каждый покаешься, – в его голосе чувствовалось нескрываемое злорадство. – Тогда и поговорим о месте.
Я струхнул. Перспектива выглядела мало вдохновляющей. Но паника, затопившая сознание, быстро ушла. Если б меня ждало то, о чем говорил посланец, он бы не явился. Тут что-то другое. Темнит «херувим».
– Умный! – раздалось в моем сознании. – Всегда им был. Догадался.
– Меня ждут мытарства? – спросил я.
– Раскатал губу! – хмыкнул он. – Мытарят тех, у кого есть шанс. Или сам оправдается, или за него заступятся. Тебе это не грозит.
– Тогда зачем пришел? – вздохнул я.
– Послали… – огорченно сказал он. – Ты – хитрый! Успел сказать.
«Что? – удивился я. – Когда? Постой… Перед тем, как упасть в прихожей, я что-то проговорил. Ну, да! „Господи, Иисусе Христе, помилуй меня, грешного!“»
– Да еще трезвый был, – подтвердил гость. – Молитвы пьяных Он не принимает. Так что будет тебе милость, раб Божий. Отправишься назад и проживешь жизнь, как Им заповедано. Если сможешь.
В его голосе читалось неприкрытое сомнение.
– Э-э, нет! – запротестовал я. – Умер, так умер! Не хочу!
– А кто тебя спрашивает? – вновь хмыкнул он, и от белого облачка ко мне протянулся луч. Он коснулся моего сознания, и…
* * *Я открыл глаза. Вокруг было темно. Но не так, как только что в непроглядной взвеси. В полумраке виднелась дверь и раковина умывальника в углу. Я поднял голову и осмотрелся. Узкая, как пенал, комната с одним окном. Напротив окна – дверь. По обеим сторонам, вдоль длинных стен – койки, возле каждой – тумбочка и стул. Всех коек четыре, три из них заняты, включая мою. Больничная палата – это к гадалке не ходи.
«Все-таки меня откачали, – пришло понимание. – А то, что я видел и слышал – галлюцинация. Вкололи какую-то дрянь…»
Я почувствовал облегчение. Хоть и не цеплялся за жизнь, но пережитое только что пугало. Пусть даже это глюк.
Возле моей кровати не наблюдалось никакой аппаратуры. Даже капельницы. И вообще палата не походила на реанимацию. Значит, не инфаркт. В кардиологии мне доводилось бывать – друзей навещал. Обстановка там другая.
Я осторожно сел и прислушался к себе. Удивительно, но нигде не болело. Ни в груди, ни в колене (мой застарелый артроз), даже спина не ныла. Обезболивающих явно не пожалели. В диссонанс этой мысли внезапно засаднил лоб. Я поднял руку и нащупал бинт. Ага! Суду все ясно. Падая, я, видимо, приложился лбом. Наверное, хорошо рассек, если забинтовали. И шов есть, иначе залепили бы пластырем. Это не беда. Я не модель, физиономией не торгую.
Подумав, я встал. Организм требовал кое-куда заглянуть. Меня не качнуло и не повело. Я вообще чувствовал себя прекрасно, если не принимать во внимание рассаженный лоб, конечно. Одежды на стуле не наблюдалось, и я в одних трусах вышел в коридор.
Здесь был свет. Тусклый и желтый. В подвешенных к потолку плафонах горели лампы накаливания. «Совсем не экономят электроэнергию, – мелькнула мысль. – Госконтроля на них нет. Они за энергосбережение глотку выгрызут».
Коридор выглядел убого. Крашенные голубой краской стены, беленый потолок, коричневый линолеум под ногами. Неподалеку виднелся стол дежурной, но ее самой не было. «Это куда меня завезли? – думал я, шлепая в конец коридора. – По уму, должны были в „девятку“ – она ближе. Но там такого убожества точно нет, приходилось бывать». Туалет, наконец, нашелся, и я протянул руку к двери. И замер: рука была грязной! Причем измазюкана капитально, как будто копался в моторе. Я поднес к глазам левую руку – та была точно такой же. Это где ж меня угораздило? По асфальту, что ли, тащили?
Организм вдруг резко напомнил, зачем я здесь. Ладно, потом выясним. В туалете горел свет. Умывальник здесь был, как и мыло – розовое и размокшее. Ополоснув руки – грязь слезла с них удивительно легко, я вытер ладони о вафельное полотенце и скользнул в кабинку. Струя зажурчала в унитаз. Блаженство! Я подтянул трусы и вдруг замер. Это тело не могло быть моим! Где живот, закрывавший привешенные снизу причиндалы, где ноги с вылезшими венами? Я поднес к глазам ладони. Они были крепкими, с проступающими венами на тыльных сторонах, с подушечками мозолей у основания пальцев. Не мои. Черт!
Хлопнув дверью, выбежал из туалета и помчался к столику дежурной. По пути в туалет я заметил на нем настольное зеркальце. Рядом еще красовался механический будильник с круглым циферблатом.
Зеркало я схватил почти на бегу. На меня глянуло смутно знакомое лицо. Слегка вытянутое, но не лошадиное. Не красавец, но и не урод. Прямой нос, тонкие губы, на подбородке – ямка. Лоб скрывает повязка, но и так видно, что высокий. Волосы – темные, острижены коротко. Тусклый свет помешал рассмотреть цвет глаз, но я и без того знал, что они зеленовато-серые.
– Что вы здесь делаете, больной?
Я оглянулся. Та-ак. Пухлая тетка лет сорока. Белый халат наброшен на плечи, лицо мятое. Дежурная медсестра. Спала вместо того, чтобы бдить. Я разбудил ее, хлопнув дверью.
– Простите! – я вернул зеркало на стол. – Хотел посмотреть. Вот! – я коснулся пальцами бинта.
– Вам нельзя вставать!
– Мне этого не говорили.
– Так вас же без сознания привезли! – фыркнула она.
– Ходил в туалет…
– Под койкой есть утка. Могли б позвать.
Выпалив это, она сбавила тон. Ну да, дозвался бы я…
– Извините, – вновь повинился я. – Не скажете, какое сегодня число?
– Седьмое, – ответила она, бросив взгляд на будильник.
– А месяц какой?
Она глянула на меня с жалостью.
– Июнь тысяча девятьсот семьдесят пятого года. Идите в палату, больной! Немедля!
– Слушаюсь! – отрапортовал я.
Сестра отконвоировала меня к койке. Затем исчезла, притворив за собой дверь. Наверное, пошла досыпать. Как только шаги смолкли, я встал. Над палатным умывальником я приметил зеркало. Щелкнув выключателем, уставился в него. Нет, не ошибся. Это я. Сергей Александрович Самец, собственной персоной. Только моложе на сорок лет.
– Эй! – донеслось с ближней койки. – Гаси свет! Днем насмотришься.
Я щелкнул выключателем и протопал к себе. Там прилег, умостив голову на тощую подушку. Гадский херувим! Удружил. Что теперь? Все по второму кругу? Рвать жилы? Биться лбом в те же двери? Завод, заочная учеба и, как подарок судьбы, приглашение в многотиражку. Как же я тогда радовался, дурак! Сколько фигни написал, тратя на это силы и время. Затем была ведомственная газета, потом республиканская. Первая книжечка в бумажном переплете… Ее никто не заметил и, кажется, не прочел. Зато книжечка помогла мне пробиться в Союз писателей. Даже не хочется вспоминать, чего это стоило. Печень едва выдержала. Жена, ребенок, квартира – «подменка», полученная от редакции. Гора счастья… Вторая книжечка, повторившая судьбу первой, зато выдранные через Литфонд трехкомнатная квартира, автомобиль, участок земли. Сколько пришлось побегать, чтобы построить дачу! Сколько пришлось кланяться, писать лживых статей! И что в итоге?…
Ничего мне не изменить. Я – винтик в огромном механизме. Где вкрутили, там и должен торчать. Попробуешь выскочить – смелют в пыль. Спасти СССР? Ага! Союз сгнил, хотя делает вид, что крепок. И сгноила его партия – та самая, которая КПСС. При Хрущеве она встала на путь автаркии[1]. Спряталась за забором и стала жить для себя. Спецклиники, спецсанатории, спецраспределители… В командировке мне рассказывали: жена первого секретаря обкома, директор школы, поручила учителям купить конфеты «грильяж». Хотела угостить зарубежных гостей. И очень удивилась, когда ей ответили, что в магазинах таких конфет нет. Не бывает. Партия избавилась от контроля общества, преследует за критику в свой адрес. Это мешает ей строить коммунизм – для себя любимой. У меня был одноклассник, который захотел поступить в МГИМО[2]. Мечтал о карьере дипломата. Умница, золотой медалист – он подступал к высоте трижды. Потерпев поражение, вновь готовился. Штудировал книги, занимался с репетиторами. Пока, наконец, кто-то не сжалился. Однокласснику объяснили, для кого существует МГИМО. Кто там числится в студентах. Чей сын, внук, племянник, деверь… Одноклассник не поверил. Такого не могло быть! Ведь он живет в самой справедливой стране! Пути открыты для всех. Он тешил себя этой иллюзией, пока не увидел списки зачисленных. Все названные ему фамилии там были, а вот его – нет. Рассказывая это мне, одноклассник плакал…
Как я могу спасти СССР? Обратиться в ЦК? «Уважаемые члены политбюро, я знаю, что случится со страной в будущем. Первым делом избавьтесь от Горбачева! Закопайте его поглубже…» Они избавятся… В Новинках[3] одним пациентом станет больше. О нынешнем политбюро можно сказать кратко: маразм крепчает. Суслов в своем кабинете спускает брюки – жарко ему – и забывает их натянуть. Брежнев через полгода перенесет клиническую смерть и подсядет на наркотики. Через семь лет он умрет. Наступит пятилетка великих похорон. «У вас есть пропуск на прощание с генеральным секретарем? – О чем вы? У меня абонемент…» Выбрать в руководстве СССР самого вменяемого? А как донести до него информацию? Чтобы руководитель прочел письмо, оно должно к нему как-то попасть. Почту сортирует секретариат. Там трудятся люди, ценящие свои должности. Они не станут подносить шефу откровения сумасшедшего.
«Ладно! – сказал я себе. – Утро вечера мудренее». И с этой мыслью уснул.
* * *Разбудили нас рано. Я умылся, пригладил пятерней волосы (расчески не было) и познакомился с соседями. Слесарь Миша (это он кричал на меня ночью) попал в больницу со сломанной ногой. Возвращался после работы домой и поскользнулся на ступеньках крыльца. Ага, летом, в сухую погоду. Лицо Миши в цветах флага СССР давало ясное представление, как это произошло. Другой обитатель палаты, дядя Коля, неловко поднял диван. В анамнезе – перелом отростка на позвоночнике, постельный режим, уколы.
Завтрак нам принесли в палату. Овсяная каша на воде, два кусочка хлеба (один – белого), кусочек масла, чай. Не зажируешь. Организм у меня молодой, мяса хочет. Можно сбегать в магазин – он неподалеку, но нет одежды. Меня привезли сюда прямо из цеха – это сказала медсестра. Потому и руки были грязные. Спецовку сняли, она в кладовой. А вот кошелек оставили – нашел в тумбочке. В кошельке – тринадцать рублей, восемь копеек. Не так мало для этой реальности. Вареная колбаса стоит от 1,9 до 2,8 рублей за килограмм. Сыровяленая («сухая») – больше пяти. Ее, правда, не купить, когда «выбросят» – очереди. С полукопченой проще. Она бывает четырех видов: «Одесская», «Краковская», «Ветчинная» и «Тминная». Цена где-то 3,5 рубля за килограмм, точно не помню. Водка – 3,62 за бутылку, это самая дешевая – «коленвал». «Столичная» – 4,12, если не ошибаюсь. Вполне можно выпить и даже друзей угостить.
Осталось узнать, как получил травму. В той жизни у меня ничего подобного не было. Как-то уронил на ногу плиту от штампа. Перелом пальца, лечился амбулаторно. А вот чтобы прилетело в голову… Гадом буду – «херувим» постарался. Ладно, врач разберется.
Он появился после завтрака. Лет сорока, с залысинами на высоком лбу, в белом халате и со стетоскопом на шее. С порога направился ко мне и сразу присел на стул у койки.
– Как чувствуете себя, больной?
– Замечательно, – ответил я.
– Говорили, что вставали.
– Ходил в туалет.
– Надо было позвать сестру.
– Зачем?
– У вас травма головы. Привезли без сознания. Скорей всего, сотрясение.
– Был бы мозг – было бы сотрясение.
Врач, видимо, этой шутки не знал, поскольку хохотнул.
– Хорошо, что вы шутите. Но… – он покачал головой. – Голова болит?
– Нет.
– Что, совсем?
– Чему там болеть? Сплошная кость.
Миша за спиной доктора заржал.
– Но-но! – врач погрозил мне. – Головокружение, тошнота?
– Ничего нет. Честное слово!
– Странно.
Врач достал из кармана молоточек.
– Сядьте и смотрите сюда!
Я подчинился. Он поводил молоточком перед моим лицом, затем простукал им руки и ноги. Поднялся со стула.
– Встаньте! Закройте глаза и вытяните руки вперед. Растопырьте пальцы. Так… Не открывая глаз, указательным пальцем правой руки коснитесь кончика носа. Теперь левой…
– Удивительно, – сказал он, когда я сел. – Все в норме. Если не считать трех швов на лбу. У вас, правда, нет тошноты?
– Честное комсомольское! – заверил я.
– И что с вами делать?
– Выписать! – предложил я.
– Не пойдет, – покачал он головой. – Травмы головы коварны. Надо понаблюдать. Так что полежите. И постарайтесь не вставать. Закружится голова – упадете, ударитесь головой. Она у вас крепкая, но лучше не усугублять. А вот посещения я вам разрешу. Уже звонили…
2
Посетитель нарисовался ближе к ужину. К тому времени я успел отобедать (молочный суп, макароны с куском рыбы, компот) и обдумать свое нынешнее положение. Днем все виделось не так грустно, как ночью. Да, попал. Ну, так в свое тело, а не в какого-нибудь неизвестного индивидуума. Так что никаких проблем с совмещением психоматриц. Я это, я! И тело, и биография, и воспоминания – все мое. Что-то подзабылось, конечно, но это ерунда. На память я никогда не жаловался – вспомним. Почему «херувим» выбрал именно этот период моей жизни, я догадывался. 1975 год стал поворотным в моей судьбе – точкой бифуркации, если говорить по-научному. Я бросил заочное отделение политехнического института и поступил в Литературный – тоже на заочное. Вернее, еще не поступил – это случится в будущем году. Направление было выбрано правильное. А потом я свернул… Поправим.
Итак, план действий. В политику мы не лезем – глупо. Сжуют и не поморщатся. Но кое-что попытаемся. Чернобыльская АЭС… В моем времени эта катастрофа положило начало крушению СССР. А потом… Заболевшие раком дети, переселенные деревни, загрязненные территории… Тридцать лет небогатая Беларусь, отрывая последний кусок, минимизировала последствия аварии. Вбуханы миллиарды долларов. Если направить их на другие цели, страна легче переживет распад СССР. И националисты обломятся. В той жизни они прорвались в парламент, спекулируя на чернобыльской теме. Правда, потом Батька их разогнал. Но в этой реальности может пойти по-другому, и моя Беларусь станет задворками Европы. Как та же Болгария.
Чтобы ко мне прислушались, нужен статус. Но не журналиста. Здесь они в авторитете, и даже становятся лауреатами Ленинской премии[4]. Но… Аграновских[5] мне не потеснить – уровень не тот. А с меньшим статусом к властям предержащим нечего и соваться. Зря потрачу время. В той жизни я кинулся в журналистику, потому что не верил в себя. Боялся, что в литературе потеряю время. В принципе, был прав. Тогда я ничего умел. А вот сейчас… Талант, как известно, не пропьешь. И пусть писатель из меня слабенький, не Лев Толстой и не Гоголь – чего уж там, но слова в строчки я складывать умею. В той жизни критики хвалили мой стиль. Были и тиражи, и восторженные отзывы читателей. Значит, смогу.
В литературе, как и в журналистике, очень важно оказаться в нужном месте в нужное время. Здесь у меня колоссальное преимущество. Я знаю, что нужно читателю. Так что – в путь! Все остальное – побоку, даже Литературный институт. Нет, вуз классный. В том времени он превратил провинциального паренька в отменного специалиста, затмевавшего своими знаниями не сподобившихся в нем учиться коллег. Но зубрить по второму кругу? На фиг, на фиг! Для писателя диплом не обязателен. Успех Шолохова с его четырьмя классами гимназии и Пикуля, отчисленного из военного училища «за нехваткой знаний», – тому пример. Шолохов – живой классик, а книгами Валентина Саввича сейчас зачитывается страна. Его романы издаются миллионными тиражами и расходятся влет. Решено!
Где будем пробиваться в литературу? Минск отпадает. Я неважно знаю белорусский язык, а здесь он в тренде. Из трех толстых литературных журналов два выходят на белорусском языке. Третий – «Неман» – публикует переведенные на русский «творы», напечатанные в первых двух. Можно, конечно, подтянуть «мову», но это притормозит путь к признанию. Пока напечатают на белорусском, затем переведут на русский… «Перевести», конечно, могу и сам – Василь Быков так делает, но время, время! У меня его и без того в обрез. До Чернобыльской катастрофы меньше одиннадцати лет. Отнести рукопись в издательство, минуя журнал? Они там лежат годами. К тому же книга, изданная без публикации в журнале – могила неизвестного писателя. Здесь пока так. Так что – в Москву, в Москву!
Я пребывал в размышлениях, когда отворилась дверь. В палату шагнул мужчина лет пятидесяти – высокий, худой и со смуглым лицом. Надо же! Сам товарищ Мамай пожаловал. И не надо лыбиться: в Беларуси татары живут со времен Витовта. Не один век охраняли западные рубежи Княжества Литовского. В Грюнвальдской битве уконтрапупили великого магистра. С веками татары потеряли язык, но сохранили веру. Их священные книги написаны на старобелорусском языке. По ним, к слову, восстанавливали древнее звучание «мовы».