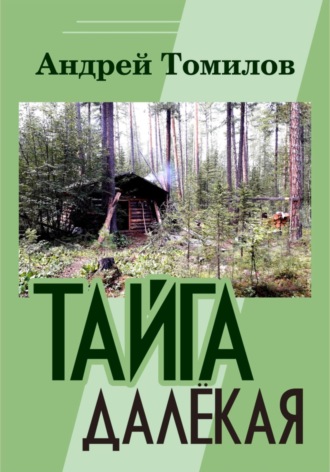
Полная версия
Тайга далёкая
Долго молчал рассказчик, больно вспоминая прожитое, потом очнулся, встрепенулся даже, стал хлопотать. Заварил вкусный, пахучий чай, от которого вкруг костра поплыл смородишный дух, все шире и шире захватывая пространство, подложил несколько поленьев, сдвинул сгоревшие. Обдав кипятком кружку, сплеснул взвар на ближний снег и налил мне духмяного чаю. Чай был так терпок, так необычен, что не хотелось от него отрываться.
Я уж подумал было, что рассказ окончен, но ошибся, внимание мое, от вкусного и ароматного чая, вновь переключилось на рассказчика.
– В эти же дни, буквально в первые, мне исполнилось восемнадцать, и проблем у следствия уже не было: меня поместили во взрослую камеру следственного изолятора. Сидельцы относились ко мне хорошо. Как это ни странно, но к душегубцам во всех наших заведениях относятся с бОльшим уважением, чем ко всем прочим зэкам. Уж простите меня за этот вольный и невольный сленг. Так что жаловаться на то, что меня обижали, принижали, я не стану, трудно, но я привыкал к неволе, да уж привыкал, куда же деваться. То, что я вам рассказал, это ведь лишь самая малая толика той беды, которая случилась со мной, лишь часть погубленной судьбы. Я умоляю вас подарить мне эту ночь, чтобы я смог высказаться, коль уж так приспело, коль так сложилось. Ведь, от того, что человек не может рассказать, раскрыться перед кем-то, от того, что он постоянно замкнут и живет лишь думками своими, – можно и руки на себя наложить. О, если б вы знали, как близок к этой черте я был…. А как трудно от нее отходить, от той черты. Ах, как трудно. Уж вроде и передумал, вроде, решил жить дальше, думки разные гонишь от себя, и, вдруг, идя по дороге, встречаешь обрывок веревки, простой, никчемный обрывок. И лишь один раз и взглянешь-то на него, а он уже оживает, изгибаться начинает, и в петлю, в петлю сворачивается…. А ты стоишь на той дороге, словно вросший, стоишь над обрывком веревки и невольно прикидываешь: а хватит ли длины, чтобы вокруг шеи, да еще на завязку четверть. Другие мысли и не рождаются. Самого дрожь пробирает. Как трудно от этого избавиться, как трудно снова захотеть жить.
Снова забухтел, заухал филин в ельнике, смелее, даже с каким-то недовольством, будто сердился на людей у костра, будто хотел высказать, что ночь, – это его время. Но люди лишь на мгновение отвлеклись, лишь на минуточку. На звезды взглянули, отметив, что они уж заметно переместились, передвинулись относительно темных, неподвижных вершин кедров, да елей.
– Следователь у меня старичок совсем был. То папку с делом не ту принесет, извинится культурно и опять на неделю исчезает. То в отпуск уедет, или болел часто. Почти год следствие тянулось. Единственное, что полезное он для меня сделал, так это сообщил, что батя скончался, и что похоронили его у самого кладбищенского забора, возле крапивы. Чтобы подальше от могилы председателя. А я ему и за эту весточку благодарен. Я себя винил, крепко винил, маялся той виной. Да и теперь еще она мне покоя не дает, не оставляет меня. Человека загубил, он все снился мне, часто снился. Из лужи какой-то вышагнет, обопрется на тросточку и смотрит на меня, укоризненно так смотрит. Не по себе. Старший по камере, седой старик, с огромной головой и узкими, вздернутыми кверху плечами, каждый день мне конфетку давал. Без фантиков. Маленькие такие, подушечки. Ох, и вкусные! Я в жизни больше ничего вкуснее, слаще не едал, не пробовал. Где он их брал? Кладет передо мной конфету, смотрит на меня пристально, так грустно, вздохнет, и, будто себе пробурчит: – ешь, пока можно, пока есть чем. – Я тогда не понимал, да и не мог понять, что значат его слова. Жалко очень, что я запамятовал, как звали того старшого. Кажется, он относился ко мне с какой-то отцовской жалостью. Конечно с жалостью, а с чего бы он стал на меня тратить такие вкусные конфеты. Очутившись на свободе, я много раз покупал такие конфеты, но они были совсем другими, не такие вкусные. Совсем не такие.
Костер все горел, горел. Странно, но я не испытывал желания спать. Кажется, дневная усталость сама по себе отлетела от меня, отлипла. Я сам хотел слушать рассказчика, и он захватил меня, захватил полностью. Подумалось: а ведь Толяныч даже не знает, как меня звать, а вот, откровенничает. А он, будто бы прочитал эти мои мысли:
– Меня ведь на самом-то деле по-другому зовут. Но об этом я расскажу чуть позже. Суд назначили. Старшой мне в тот день две конфетки дал, и только одно слово сказал: – прощай. Я тогда удивился еще, думал, что после суда снова вернусь в привычную уже камеру. Но, конечно же, ошибся. Больше я с тем старшим ни разу не встречался. Суд был выездной, из области. У нас, в клубе. Все пришли. Все. И Любаня пришла. Только уж не выла, не плакала, видно стерпелась за этот год-то. Вот тут, вот с этого места, во всей этой истории начинается самое страшное. Начинается такое, что и рассказать-то по-настоящему не можно, не получится так страшно рассказать, как мне пережить пришлось, довелось. Как это только вытерпеть дается человеку….
Толяныч вскочил, видимо, забыв о своей степенности, аккуратности, лихо, как-то очень привычно, закинул руки за спину, сцепил их там, и зашагал вдоль костра: туда два шага, поворачивается, словно по команде, назад два шага, снова поворачивается. Потом, будто очнулся, руки распустил, стал прежним, легонько, аккуратно присел:
– Приговорили меня к высшей мере наказания. Как сказано в приговоре: к высшей мере социалистической справедливости. К расстрелу…. Любанюшка моя, как только приговор закончили читать, вскрикнула: – я ждать не буду, не думай! – видимо давно заготовила эту фразу. И ей уж и не важен был тот приговор, она только и ждала окончания, чтобы высказать заготовленное. Да, ведь и понятно это, бабы же, что с них возьмешь, на то и бабы. А в зале так тихо стало, так тихо. Только матушка Любанина, вроде и тихонько выронила, но услышали все: – ох, и дура, уродится же такое. – И снова тишина. И до того торжественно все молчали, до того строго. Вытянулись все, будто перед Ним, (при этом Толяныч указал на звезды, не пальцем указал, а всей рукой, и мне это так показалось символично, что я невольно поднял глаза, туда, куда он указал. Хоть и на мгновение, а поднял) даже старухи, совсем согбенные, и те выпрямились, стояли траурно, смирно. Я понял тогда, что жалеют они меня. Хоть и понимают, что дурак, что натворил такое, а жалеют, как своего. Так в этой тишине и вывели меня.
Толяныч и себе налил перепревшего у огня чаю, хватанул пару раз, обжигая губы, горечью обдавая рот, но вряд ли и заметил это, так глубоко он был погружен в свои воспоминания, в свою исповедь.
– Лишь на короткое время попал я в какую-то переполненную, просто забитую людскими телами камеру. Неведомо как, но там уж знали мой приговор, поселили меня в лучшем месте, – если вообще было оно, лучшее место в этой камере. Кто-то старался поддержать меня, кто-то подкормить, кто-то подсовывал мне под голову свою одежку. Но разве это могло хоть как-то компенсировать то, что творилось у меня на душе. Разве могло? Там, от сокамерников я узнал, что расстреляют меня не сразу, как мне представлялось. Нет, не сразу. Процедура эта длительная. «Им» интересно знать, пусть и не видеть, а просто знать, что ты мучаешься, боишься, раскаиваешься, и снова мучаешься каждой клеточкой своего разума, и ждешь. Ждешь этого неотвратимого события, последнего события в твоей жизни. Там же узнал я, что приговоры такие исполняются лишь в трех городах Советского Союза. Так что, не переживай, сказали мне, еще покатаешься в «столыпинских» вагонах по просторам нашей великой и могучей, помыкаешься по пересылкам, пока прибудешь к пункту своего последнего, неизбежного пристанища.
Вскоре меня переселили в отдельную, совсем крохотную камеру, проще сказать не камеру, а просто бетонный мешок. Выдали полосатую куртку, полосатые брюки, полосатую шапочку. Все почти новое. Может и не новое, но стираное, чистое. Нар в этом бетонном мешке не было, спать приходилось на полу, на какой-то крохотной дерюжке. Время для меня замерло, словно остановилось, я перестал его ощущать, перестал понимать, когда наступало утро, а когда опускалась ночь. Я чувствовал, что начинаю растворяться, как бы исчезать из этого мира. Меня, будто бы, с каждым днем становится меньше и меньше. И вот что странно, мне не хотелось так исчезать, мне хотелось (уже хотелось) умереть сразу, целиком. Всеми днями я только и думал о том, как сделать так, чтобы умереть сразу. Как обмануть «их», – умереть самому. Они придут, чтобы исполнить свой приговор, а я уже вот…. Я весь измучился, но придумать ничего не мог. «Они» были хитрее меня и приняли все меры, чтобы я не мог их обмануть. И это осознание бессильности даже в таком простом и очень личном вопросе, выводило меня из себя, я был на грани какой-то психической трагедии, на грани срыва. Казалось еще одна ночь, еще одна, и я просто сойду с ума. Не от того, что я в клетке, к этому уже появилась какая-то привычка, а именно от того, что не могу, не умею убить себя, не умею оборвать эту никчемную, жалкую жизнь.
Казалось, эта ночь будет длиться бесконечно. Костер горел, горел. Он, то становился ярче, живее, когда в него подкладывались свежие дрова, то замирал, но греть не переставал, так много там накопилось тепла. Дрова на костер Толяныч не просто подкладывал в беспорядке, нет, он их складывал туда непременно «колодцем»: несколько полешек вдоль, несколько поперек, и снова вдоль. Объяснял, при этом, что так от костра пользы больше.
– Наконец, я увидел небо, хоть и мельком, хоть и кусочками. Меня повезли, как было сказано, к месту исполнения. Уже потом, через трое суток болтанки в вагоне, дошли слухи, что подъезжаем к Иркутску. Я уже знал, что Иркутская крытка (по-простому сказать: тюрьма), одна из трех, где приводятся в исполнение такие приговоры, как у меня. Ноги отказывались идти. Не потому, что я не хотел, а просто сами отказались, сделались ватными, чужими, неуправляемыми. Конвоиры волоком вытащили меня из вагона и закинули в «автозак». Делали они это легко, и, как показалось, привычно, видимо, я был таким не первый. Ох ты, Боженьки…. Как же мне было лихо. Как же не мил казался белый свет.
Я, наконец, не выдержал и произнес, каким-то чужим, деревянным языком и незнакомым мне голосом:
– Может быть, хватит уже. Хватит себя мучить. Зачем вы все это вспоминаете и бередите себе душу?
Толяныч торопливо вскинулся, словно удивился моим словам, заслонился руками и заговорил, заговорил:
– Нет! Нет, что вы! Я обязательно должен вам рассказать, непременно рассказать. Ведь вы же не знаете. Вы не можете знать …. Вот к примеру….
Толяныч сбивался, торопился, но видя, что я снова молчу, слушаю, начинал успокаиваться и рассказ его входил в нормальные берега, если эти берега вообще можно каким-то образом считать нормальными.
– Поселили меня в отдельную камеру. Как сказал: поселили. Словно предоставили комнату в общаге, чтобы жить. Жить! Камера была крохотной каморкой, с отхожим местом в ногах и нары. Нары. О них непременно надо рассказать отдельно. Это специальные нары для смертников. Они сделаны специально для камеры смертников, и представляют собой ложе, вырубленное из цельного дерева. Не сколоченное из досок, которые можно расшатать и разобрать, потом придумать что-нибудь и убить себя, хоть обломком той же доски, а именно из цельного дерева. Причем, дерево специальной породы, очень крепкое, лиственница, или дуб. Чтобы и щепочку не оторвать. Ложе вырублено по фигуре лежащего на спине человека. Только так. Уже на боку лежать неудобно и невозможно, а тем более, невозможно принять позу эмбриона, то есть, свернуться «калачиком». Ведь люди, да и животные все, когда им плохо, принимают позу эмбриона, именно ту позу, в которой они находились в утробе матери, когда были под ее защитой, под ее покровительством. Так вот, эти нары были сделаны специально так, чтобы смертник не мог свернуться и, хоть бы в мыслях, уйти под защиту матери. Уступы для плечей были грубо вытесаны, уступ для головы…. Но все это отшлифовано до блеска, что я понял: множество народу здесь уже лежало до меня, множество. И, уж, ни дерюжки какой, не было, – голое дерево. Ни одеяльца. Есть на тебе полосатая роба, вот и довольствуйся, хоть под себя стели, если мягко любишь, хоть сверху укрывайся. То же самое можно сказать и о пайке. Кормить стали один раз в день (как сказал: кормить). Давали примерно четверть кружки воды и маленький кусочек хлеба. Да и не хлеб это был, клейстер какой-то, разве, что запахом чуть напоминал хлеб. Но съедался до крошки. Я в первые дни даже спрашивал добавочки, совсем оголодал, но мне не давали. Отвечали спокойно, даже с какой-то лаской в голосе: «потерпи, милок, потерпи, теперь уж недолго». А еще в этой тюрьме поражала и напрягала тишина. Такая тишина стояла, просто могильная, никто слова громкого не произносит, будто и нет вовсе никого, кроме меня, никто не брякнет кружкой за весь день. Даже коридорные, – надзиратели, – чувствую, что проходит мимо, а его и не слышно. А однажды ночью крик.… Такой истошный крик, волосы дыбом поднялись. А он воет и воет, только и можно разобрать: не-е-е-т! Не хочу-у-у! Не-е-ет! А-а-а-а-а! Понятно, что по коридору волокут кого-то. Так с криком и утащили. Какой там сон. А под утро коридорный из конца в конец прошел и тихонько объявил: «исполнено». Тихонько так, почти шепотом. Но все услышали, все. И всем стало еще страшней, еще тише стало в тюрьме. Крики такие ночные раздавались не часто. Как уж там «они» выбирали назначенный день, а вернее ночь, потому что исполнение всегда ночью проводилось, даже и не понятно. Но как-то выбирали, назначали. И, уж не спалось теперь ночами. Брякнет где-то в ночном коридоре засов и такой ужас подкатывает. А еще хуже, когда удается услышать, как несколько конвойных почти крадучись идут. Идут, идут, и где они остановятся, у чьей камеры, чья очередь подошла…. Постепенно я угасал. Как вот этот костер. Перестань в него дрова подкладывать, он станет угасать. Прогорит весь, покроется пеплом, золой возьмется, свету от него не станет, и тепла. Если золу разгрести, там еще можно найти жар, даже огонь возгорится, если полено сухое туда положить. А если не разгребать, он так и остынет. Остынет, а по весне травой возьмется. Так и я, почти перестал бояться ночных криков, шагов, бряканья засовов. И еды мне стало хватать, я даже делился хлебом с маленькой мышкой, приходившей ко мне каждую ночь. И к колоде я уже привык, будто для меня она и была вырублена, спал только на спине, и не жесткая она вовсе, а по длине так она словно специально под меня готовилась: плечами чуть упираешься и пятками. Вот ведь как человек устроен, так неудобна была эта колода по первости, и так ловко в ней стало лежать теперь, даже рост скорректировался именно под размер, под шаблон. И думал я, что кончились мои страхи, уж возомнил себе, что не смогут «они» больше напугать меня. Никак не смогут. Ан нет, ошибся. Еще как напугали. И теперь еще помню, через столько лет, какой ужас обуял меня, когда не ждано, не гадано, днем пришли за мной…. Днем! Видел только, что в дверях распахнутых два конвоира теснятся, а за ними штатские. Впал я тогда в истерику: валялся в ногах и выл, просил простить и взывал к справедливости, ведь день, день! И жить еще можно до самой ночи! Что не честно это, другим позволять жить так долго, так долго, до самой ночи жить, а меня днем исполнять. Нет! Нет! Не положено днем. Поднялась суматоха, я сопротивлялся, как мог, но что я мог, коль и на ногах-то еле держался.
Я сам стал опасаться за своего рассказчика: как бы и вправду с ним какая лихоманка не приключилась, уж больно дикие страсти он про себя рассказывает. Да возможно ли такое вытерпеть? Сна у меня ни в одном глазу не было, хоть и понимал каким-то чутьем, что ночь уж далеко на вторую половину перевалила. А он, рассказчик мой, продолжал тем временем держать меня в страшном напряжении.
– Очнулся я, пришел в себя, в какой-то комнате, ужасно светлой, от света яркого резало глаза, хоть и было в той комнате всего одно окно. Комната казалась огромной, ужасно просторной. Это после моей крохотной камеры. Я лежал на какой-то заправленной темным, синим одеялом кровати, головой на мягкой, белой подушке. Женщина, в белом же, ярком халате, прикладывала мокрую тряпицу к моему лбу, щекам, заглядывала мне в глаза. Подумалось, что уже исполнили приговор, и теперь проверяют: все ли получилось. Даже мелькнула мысль, что надо притвориться, что мертвый. Вдруг просто выкинут, а я выжду, когда все уйдут, и убегу.
– Да он очнулся,– сказала женщина.
– От стола привстал и приблизился молодой мужик, в гражданском. У меня мелькнула мысль, что вот, теперь будет добивать…. Прикрыл глаза.
На носилках меня перенесли в «больничку», так назывался тюремный лазарет, сам я уже не мог подняться на ноги. Может такое случилось от сильного переживания, а может просто от слабости всего организма. Да я и сам прекрасно понимаю: зачем кормить осужденного, если его не сегодня, так завтра пустят в расход, как принято говорить в тех стенах – «исполнят». Вот и не кормили. Кто же знал, что найдется молодой, привередливый юрист, раскопавший в моем деле грубое нарушение. Дело все оказалось в том, что преступление-то я совершил еще в то время, когда не был совершеннолетним. Уже потом, когда меня арестовали, даже еще и следствие-то толком не началось, тогда мне только исполнилось восемнадцать. А судили-то меня как взрослого, и приговор определили как взрослому. И уже чуть-чуть не расстреляли. Совсем чуточка оставалась.
Костер, от долгого горения, от полноценного подкладывания дров, раздобрел большой кучей малиновых углей. Жар валил от этой кучи, и приходилось отсаживаться, отодвигаться все дальше. А Толяныч снова и снова подкладывал дров. Он и сам светился, как те угли, радовался, что ему так здорово повезло в жизни. И было непонятно: он радуется, что его не успели расстрелять, или радуется, что наконец-то он смог рассказать свою историю живому человеку.
– В больничке-то меня откормили, вот уж откормили. Еще и уколы какие-то ставили. Адвокат приходил часто, тот самый мужик, на которого я тогда подумал, что он меня добить хочет. Он и рассказал, что в газете про меня написали, что общественность поднялась, что собрание колхозники провели и в Райком партии делегацию отправляли. Так что снова меня судили и, как несовершеннолетнему, на момент совершения преступления, по полной программе определили десять лет строгого режима. А к тому времени я уже почти два года отбыл, так что оставалось мне совсем ерунда. Сразу после того суда, как только попал в камеру, меня и перекрестили. В том смысле, что дали новое имя. И не имя вовсе, так, кличка, но велели отзываться только на неё. С тех пор я перестал быть Иваном, а стал Анатоличем. У старшого в камере, который меня перекрещивал, не хватило фантазии, чтобы придумать какое-то другое имя, назвал так, Анатоличем, и велел носить до конца жизни, чтобы «они» потеряли меня в толпе людей и уж ни какими бедами больше не нагружали. Так и живу, с новым, не то именем, не то кличкой. Да и ладно, лишь бы не трогали меня, лишь бы забыли. И место себе выбрал подальше от людей, здесь вот, на кордоне. Только охотников и вижу, только с ними и общаюсь. Да ведь охотники-то совсем другие, чем «те». Совсем другие, настоящие. Хорошие люди, охотники-то.
Звезды над нашим костром, будто слегка поблекли, будто размылись молочным светом. Уж не рассвет ли близко? Да вряд ли. Наверное, легкая пелена молодого облачка наплыла, накинулась на них, оттого они и поблекли. Вот пролетит облачная пелена, и снова засияют, снова ярко заблестят радостные, торжественные звезды. А костер постепенно угаснет и остынет.
Беги…
– Красиво кругом! Так красиво! Просторы…
Там дальше, за увалами, начинаются низины, – пологие, чашеобразные болота. В сырые, дождливые годы в них появляется вода, и, даже стоит там до самой осени, превращаясь позднее в узорчатый лёд, из которого местами торчат окоченевшие водоросли. По краям таких низин-болот вытягивается камыш, он ласково прикасается, когда пробираешься по нему, гладит.
– В другую сторону, через степь, – начинается лес. Правда он не сплошной, – отдельными колками, но в этом и прелесть. Деревья высокие, стремительные, – всегда шумят. Даже когда совсем нет ветра, они тихонько шепчутся между собой, – секретничают. Их всегда жалко: всю жизнь стоят на одном месте.
– На образовавшихся между колками полянах растёт очень много вкусной, лесной травки. Приятно бродить по таким полянам в утренние, росные часы. А когда солнышко поднимается выше и роса быстро подсыхает, можно устроиться где-то на краю леса и отдохнуть, подремать.
– За эти годы я хорошо изучила все окрестные леса и болота. Я знаю, где можно надёжно спрятаться, чтобы тебя не заметили, знаю, где надо быстро бежать, чтобы тебя не догнали. Знаю, где переплыть не широкое болотное плёсо и выбраться на лабзу, – там можно спасаться несколько дней, пока опасность совсем не минует
– Со многими обитателями этих мест я знакома. Поначалу мы пугались друг – друга, отскакивали, а теперь нет. Чем может мне навредить барсук, что живёт в молодых сосёнках? У него там целая галерея из свежих и старых нор. Его можно не бояться. Хотя, когда он пофыркивая, пробирается по траве, в поисках чего-то съедобного, – невольно напрягаешься. Но уже не убегаешь, как прежде.
Или енот? Или старая ежиха, что живёт под давным-давно рухнувшим деревом. Чем они опасны? Так и им, – нечего бояться меня, старой косули. Но, всё же, ухо надо держать остро.
– Над степью постоянно парит, выписывает плавные круги, широко расправив крылья, старый лунь. Он красивый, и подобен ветру, плывёт и плывёт на воздушных потоках. Плывёт и плывёт. А когда высмотрит зазевавшуюся полёвку, становится так стремителен, словно молния в раннюю, весеннюю грозу! Складывает крылья и стрелой, стрелой мчится на добычу, выставляя впереди себя ядовито изогнутые, острые когти. Проколет полевую мышь когтями и снова расправляет крылья, поднимает к небесам свою добычу, мягко и безвольно повисшую в надёжной хватке.
– У меня дети. Два очень милых, но совершенно непослушных телёнка. Они считают себя самостоятельными. Научились выбирать вкусную лесную травку, и думают, что могут прожить сами, без матери. Наивные. Даже не подозревают, что бывает зима.
– В этом году дождей было совсем мало. Да и зима прошедшая, снегами не напрягала, – зимовалось легко. Зато теперь сказалось. Болота стоят сухими с самой весны. На водопой приходится ходить на большое озеро. Это опасно. Чтобы туда попасть, надо сначала преодолеть широкую степь. И это понятно, что ходим мы туда только ночью, но и ночью, бывает, гоняются за нами с бешеным светом и страшным, ревущим звуком.
Приходится бежать со всех ног, не разбирая дороги, не обращая внимания на отставших.
– Пока всё обходилось. Все успевали добегать до спасительных камышей и укрываться там, до того, как начинали грохотать выстрелы. Потом люди кричат, бегают с фонарями по камышам и опять страшно ревут машины. Страшно… Телята в такие моменты жмутся ко мне, мешают бежать, мешают прятаться.
… – Уже много раз мы так убегали. Много раз. Телята совсем выросли, их почти не отличить от взрослых. Они очень красивые. Упруго выгибают спины, когда бегут от догоняющих машин и грохота далёких выстрелов. Высоко, стремительно прыгают, – играются. Я стараюсь заметить машину ещё тогда, когда люди нас не видят. Тогда легче уйти в камыши и затаиться. Они такие ласковые, – болотные камыши, так нежно гладят по шерсти, и шелестят. Шелестят, будто баюкают.
– Снегу уже много. Убегать стало трудно. Но и машины стали появляться редко. При этом они двигаются совсем медленно и часто останавливаются. Тогда люди вылезают на снег и начинают раскидывать его в стороны. Ругаются при этом и кричат.
– Вдалеке появились какие-то маленькие машины, одноглазые и очень быстрые. Впереди у них стоят лыжи. Они просто летят по снегу. Я сразу почувствовала беду и стала торопить всех: бегите! Бегите!
– Сама кинулась в сторону спасительных камышей: бегите! Прыгать приходится высоко, снег сильно сковывает движения. Стремительно приближаются снегоходы, – им не нужно прыгать, они просто летят, плывут в снежном облаке.
– Камыши уже близко, бегите!
– Когда загрохотали выстрелы, я чуть ослабила напряжение, приостановилась, чтобы молодые обогнали меня. Старалась прикрыть их. Они прыгали со всех сил.
Снег вырывался из под точёных копыт и взлетал выше голов.
– Бегите! Бегите!
– Обожгло заднюю ногу, и я сразу отстала от резво удаляющихся телят.
– Бегите!
Снегоходы подлетели с двух сторон, люди смеялись. Страшно смеялись. Один сказал другому: добей…
–Я ещё хотела повернуть голову в сторону телят.… Хотела увидеть.
Грохот близкого выстрела оборвал день.
Дребезги
Из ниоткуда, словно из тверди земной, взялись, объявились, повылезали бесы. Горбаты, длинноруки и длинноносы, уродливы в облике своем, и дики в поведении, и многие клочковатую, неряшливую шерсть имели, а другие напротив, голую кожу, но уж больно морщинистую, язвами грязными покрытую, кровавыми разводами раскрашенную. И гримасничали страшно, не подбирая слюну кровяную. И клацали бесы остротой клыков своих, и вострубили все дружно, и вой трубный их поверг в страх и смятение всех тварей земных, кои тут же отступили и попрятались, кто, где мог. Когда же кличь трубный стихать стал, пошли они, запрыгали и поползли во все стороны, населяя землю, меняя облик свой по подобию и притворяясь добрыми, и стали жить в укрытиях разных, и зло творить, для чего и были созданы. Оскалы свои злобные улыбками прикрывали.









