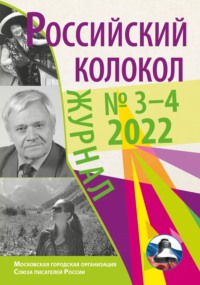Полная версия
Журнал «Юность» №03/2023

Журнал «Юность» № 03/2023

© С. Красаускас. 1962 г.
Сергей Шаргунов
Река и святой
К 85-ЛЕТИЮ О. Г. ЧУХОНЦЕВА

С ним посчастливилось говорить немало, иногда часами, и кажется, в его стихах – его манера общаться: все начинается туманно, он смотрит искоса и как бы немного иронично, кривит рот, поправляет очки, его движения замедленны, разговор вязнет, норовит отползти в немоту и так неспешен, будто здесь какой-то подвох и намек, и вдруг речь вспыхивает, разгорается, он делается красноречив и словоохотлив, слово цепляется за слово, уже никак не поставить точку, и наконец, все обрывается на полуслове, поэт замолкает.
Да, даже за лихорадочным потоком в тех же его поэмах – все равно какая-то метафизическая медленность.
Неспешность Чухонцева – разумеется, антитеза суетности. Он выбрал посвятить себя целиком стихосложению, уйти в поэтический затвор. Выбор тем ценнее, чем меньше ему удавалось публиковаться долгие годы. Чухонцева прятали от читателя, но еще сильнее было и остается его собственное желание прятаться. Его годами не печатали, но и он сознательно может не печататься годами. Он прекрасно читает стихи и замечательно выступает, однако не без гордости заявляет, что встречался с публикой считаное число раз. И до сих пор то и дело едко вспоминает тех, кто когда-то эстрадно декламировал на стадионе. Это не ревность, но соперничество очевидно, пускай и добродушно-снисходительное. В одном из его стародавних стихотворений есть пародийный монолог наивной женщины:
…Я вообще люблю литературу,вот где балдеешь, взять хоть Лужники,народу туча, нет пустых скамеек:прожектора, поэты, пирожкис повидлом по одиннадцать копеек…Чухонцев попал под запреты после опубликованного в «Юности» в 1968-м «Повествования о Курбском». Ему прилетело за крамолу. Но его лирика, даже та, где социальный нерв, где страдальческие судьбы павловопосадской родни и простонародья, что в его случае одно и то же, все равно вне времени. Когда надо сказать о здесь и сейчас, пространство оказывается затемнено и речь затруднена, и эта честность выше, чем любая гражданская – она поэтическая:
Я люблю свою родину, но только так,как безрукий слепой инвалид.О родная страна, твоя слава темна!Дай хоть слово сказать человечье.Черты быта и эпохи подаются им как суетливо спешащий по мусоропроводу хлам, обвал картин в сновидении, но дальше обязательно наступает фаза глубокого сна – то обморочное состояние, в котором настоящее таинство поэзии, та немота, которая и дает импульс всему и которую труднее всего выразить словесно. А он может. «Речь молчания» – неслучайное название одной из книг.

Стихи, написанные им и в советское время, и в антисоветское, и недавно, одинаково сильны этой глубиной, они могли возникнуть и в Античность, и в Средневековье.
Проходит все, и только остаетсянеслышный шелест, только шум в ушах…У Чухонцева разговорность речи, где нет нажима и надрыва, никаких красивостей и эффектных финалов, которых он бежит как пошлости. Изъясняясь просто, он при этом никогда не бывает банален, равно чураясь вычурности и штампа.
Разговорная речь, незаметно переходящая в молит венный речитатив, а дальше и вовсе в шелест талого снега.
Вообще, разговорная естественность родственна с тишиной, рождается из тишины, купается в тишине, в тишине тонет, и это замечаешь, читая Чухонцева.
Он благодарит жизнь «за неуспех и за пример зла не держать за душой» и, действительно, живет очень скромно (покосившийся переделкинский забор, прохудившаяся крыша). Он вдумывается в природу и умаляет себя, тем впуская и вмещая бескрайний Божий мир. Убогий Чухонец. Тот блаженный из его знаменитого стихотворения, который мочится в реку (какой точный образ: таково нежное журчание этой поэзии), пока изо рта просится таинственный пароль немоты:
– Кыё! Кыё!
Тот, кто принимает все с самоотречением ведающего тайну власти, как из последних становятся первыми.
Надо завтра нарезать цветов и проведать своих.А прохладно, однако… И все-таки невероятнаэта жизнь, если в корень глядеть. Каждый шорох и штрих.Вот и дети уже подросли. Не твои. Ну да ладно.И конечно, про Чухонцева толстовское «в искусстве все чуть-чуть», но вместе с тем стихи эти непросты, многозначны, психологичны, каждое хочется перечитывать по многу раз, разгадывая. Иной раз справляешься со словарем, иной раз голова кругом, например, когда у одной реки столько имен: Иордан, Флегетон, Лета и даже Вохна.
Сознаюсь: лично я не могу запомнить ни одно его стихотворение наизусть, остаются в памяти только отдельные слова и строчки, но и в том странная обаятельная сила, утекающая сквозь тебя, и при возвращении к стихотворению понимаешь, что оно уже другое, чем то, которое читал только что, та же журчащая и студеная, но другая вода.
Как? Почему?
Тайна недосказанности.
Поэзия
Кира Грозная
Петербургский прозаик и поэт, журналист, редактор. Член Союза писателей Санкт-Петербурга, Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Лауреат литературной премии имени Н. В. Гоголя в номинации «Шинель» (2018) и премии правительства Санкт-Петербурга в области журналистики в номинации «Лучшие публикации в городских печатных СМИ» (2019). Финалист Всероссийской премии искусств «Созидающий мир» в номинации «Лучшая проза» (2020) и Всероссийской литературной премии имени А. И. Левитова в номинации «Проза. Мастера» (2022).

Я могу многое сказать о тебе по тому, как ты закрываешь глаза,
сцепляешь пальцы, оглядываешься, держишь вилку, смеешься и дышишь;
не зная твоих событий, привычек, друзей, тебе о тебе могла бы я все рассказать,
если б ты нарисовал мне слона, написал стихотворение,
но ты ничего не рисуешь и не пишешь,
кроме безразмерных отчетов; я о многом в тебе догадываюсь лишь
по тому, как ты мотаешь головой (занемела шея? отгоняешь бесов?),
не по тому, о чем говоришь (хотя предпочитаешь молчать), но – как говоришь,
все твои паузы, умолчания, а не смысл, предмет моего интереса;
ты – китайская шкатулка, скрывающая – нет, не пустоту
в последней коробочке – невидимое миру знание,
если хочешь молчать, ты волен молчать, все равно я тебя прочту,
человек дождя, вещь в себе, зашифрованное послание,
я прочту тебя, я услышу слова, которые ты удерживаешь в губах,
как вишенку на тонкой ножке; задержу дыхание —
а что дальше, за тем пределом – мне расскажут линии на руках
и прожилки вен на висках, твой сбивчивый голос,
хранящий последнее осознание.
2006 год КАК ПРИХОДЯТ СЛОВА Бывает, что не удаются стихи.Весь текст удалишь, но висит на страницеОдна закорючка, как горькое «хи»,И ты понимаешь, что слово глумится Опять над тобою: «Заветное ЯЕще не таких изводило поэтов!»Плетется унылая галиматья.Испишешься в стельку, сопьешься при этом. Бывает иначе: приходят Слова,И бьют, словно током, и льются потоком,Рекой полноводной, плетут кружева,Удобно ложатся в ладонь альпенштоком, Легки, словно крылья, тверды, как гранит,Ласкают и дразнят, щекочут и жалят…Строка по бумаге проворно бежит.Вдруг мессенджер тренькнул – и мысль убежала! 2012 годМихаил Войкин
Родился в г. Петропавловске-Камчатском-50.
Пишет песни и стихи. Публиковался в литературном альманахе «45-я параллель». Имеет музыкальные альбомы авторских песен «Аэроволны» и «Больше большего…» (опубликованы под псевдонимом Voykin на музыкальных платформах).
Ученик поэтических семинаров Д. Воденникова (школа писательского мастерства «Пишем на крыше»).
Живет и работает в г. Красногорске.

Я вижу мальчика,
который хочет быть таким же, как ты.
И он старается так, как может стараться лишь младший брат или единственный сын.
Ведь когда ты старший не по возрасту,
а по вдохновению —
он, словно Господь, назначает тебя быть во главе его свершений.
И это при всей твоей слабости, глупости
и редкой удаче.
При всей твоей неспособности дать ему хоть что-то из того, что мог бы дать отец.
Но мальчик берет тебя за руку, и ты ведешь его за собой, даже не думая, что на самом деле – это он ведет тебя.
* * * Отболеешь до стремленья —встань, как заново рожденный.Вопреки природе тленья,октябрем не обделенный. Укрепи листвою ветви,отпусти на волю корни.И своей земли отведай,и другим себя запомни. Больше большего не будет,ну а меньшего – не надо.Выходи из леса судеб,ведь никем ты не разгадан. Там, где были плоть и память,остается плот и выбор.То, что раньше звали «нами»,ускользнет крылатой рыбой. Выйдя из древесной кожи,ты обучишь, как деревьямне надеяться на боже,отрастив плавник и перья. И за соснами печалихлынет выбранное море,чтобы ты сумел отчалитьот неписаных историй. НАДИКТОВАЛ ШЕСТИЛЕТНИЙ СЫН Мальчик-вишня в красной футболке,потерявший зеленых родителей,с ветки сорванный болью взросления,пойманный кем-то чужим. Для каких-то неведомых опытов,переживший массу опасностей,в неизвестной лаборатории,он смог выбраться с помощью странных людей. Эти люди как будто бы склеены,словно варево неоднородное —красно-сладкое, жизнью кипучее,красный мальчик стал главным у них. * * * Детство кончается вырубкой сквера,больше не наши «наши» деревья.Бабушка Нина, Сережкина – Верасмотрят на это, смотрят не веря. Будто их дети состарились хором,рыцари-всадники канули в Лету.Разве узнаешь сегодня Егора?Кажется, здесь, да вот прежнего нету. И посмотри, как раздавлены кроны,словно бы в Риме забыли про флаги.Нет больше залы почти уже тронной,нет больше в нас королевской отваги. Нас никому не спасти от паденья,все мы, как яблоки, – падаем кряду.Всем, кто упали венчаться под сеньюу материнского темного сада.Проза
Маргарита Ронжина
Писатель, совладелица и директор по развитию брендингового агентства AIR, Екатеринбург.
Участник Уральской писательской школы, всероссийского Форума молодых писателей «Липки» (2021). Участник литературного клуба «КЛКВМ» под руководством Ольги Брейнингер (2020–2022). Участник «АСПИ. Новое поколение» (2022). Участник «Тавриды-Арт» (2022).

Ромаяна
Сквозь десять тысяч смутных лет
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ (ПРОЖИТАЯ ЯНОЙ), в которой трое бегут из дома, отчаиваются и неизменно меняются, а потом случается неожиданноеМы убежали втроем. Я, он, его брат. Брат и нашел первую квартиру, в которой пахло жареной мойвой, сливами и спиртом. Даже не квартиру, комнату, даже не комнату – чердак, даже не чердак, а сжатое тройным физическим страхом дупло, долбаное дупло дерева, в котором нам приходилось спать, прижавшись друг к другу так, что я не вполне понимала, кто из них (вас) грел руки между моих ног.
Грязь окружала нас повсюду, с того момента и навечно, но я этого еще не знала, знать не могла; грязь только зародилась внутри и начала поглощать явь, выстраивая мир вокруг.
Сам побег, внезапный, шершаво сбитый, сотканный из множества неправд, не давал ни вспышки справедливости, ни возможности возвращения. Побег стал и точкой, и запятой, и точкой с запятой, и во всех этих преобразованиях казалось, что туда, наружу, отошел мой дух, а тело, тело лежит там, где и лежало, откуда вышло, в земле, лежит и все ждет и – начала, и – конца.
Сперва мы ни о чем не думали, шли через лес, бежали по полям, нервными скачками передвигаясь от одного укрытия в другое; и от резости, узости, близости холода хотелось забыться: что-то съесть, что-то выпить, где-то досыта поспать. Но еды не было, но любви не было, а то, что было, я раскрошила, раскроила, разделила на троих. Обделила всех.
Нужно было не трогать, не браться делить и быть делимой, но тогда от изнеможения я стала глупой. Нужно было сжать зубы, всей мне сжаться и вдоволь напиться прогорклым запахом сна, усталым запахом настойки из слив и спирта, который, раз не ушел сразу, не уйдет потом никогда.
Наутро мы добыли кофе, черствеющий хлеб, подсолнечное масло и соль, а потом, еле переждав день, вышли в освещенную лампами темноту, распробовали местные сладости и фрукты. Не кусали уже от голода пальцы, а делали все нежно, осторожно, чуть смакуя, хоть и с оглядкой. Рома шутил, приобнимал, старался подбодрить, брат мрачно размышлял, подсчитывая общие деньги.
– Продержимся полгода, – закончив, сказал Л.
– Если будем экономить, то целый год, – добавил Рома, и оба сочувственно посмотрели на меня.
– Только не мои вещи!
Тогда я за что-то держалась. За Рому. За чемодан с дорогими на родине вещами и за новую технику. За не себя, которая ушла за мужем. – Нет, нет, мы говорим про деньги, а там посмотрим. Пока поживем в комнате, брата отселим на другую кровать. Я верну нас назад, любимая, обещаю. Все это – наше испытание.
Рома поцеловал меня в губы. Брат хмыкнул. Он тогда уже не верил в возвращение, но вроде как верил в любовь. Как и я, верила, одной только душой и жила. Разве есть до чего-либо дело, когда так любишь, думала я. Когда такая кама, такая она.
Мы с ним были очень близки. Опасность, страх на какое-то время сделали обоих животными, умеющими ладить телами; словно по частице от каждого осталось по пути, в лесу, и уединилось там же. Я гордилась, что, потеряв все, мы сохранили чувства.
Мы могли – я могла – любить только так: сжавшись, скомкавшись, спрятавшись друг от друга, друг в друге, друг. Мы – я – прятали отчаяние под подушку, вместе с израненными руками, с пальцами, хранившими влажность любви; пальцами, служившими вечностью покоя и вечностью продолжения, вечностью близости и вечностью страсти. Пальцы готовились стать платой за сжатые страшные мысли и скупые поступки. Случайной платой за беззаботную, беззубую, беззащитную перед яростью любовь.
– Ты мое солнце, – говорил он.
И я становилась солнцем, хотя была землей. А Рома – лунным месяцем, его улыбка светила только для меня, а моя для него, и не было в мире ничего надежнее и чище.
Он обещал, что все проходит, и это пройдет, и мы вернемся, возьмем империю в свои уставшие умы, натруженные руки; будем вместе править подданными-сотрудниками, учить их любить и чтить традиции, да, верно, нужно лишь немного потерпеть, и мы будем сеять свою дхарму. Он все шептал и шептал, а его брат тут – рукой дотронься и спугни – старался дышать как можно тише, чтобы он, чтобы ты продолжал говорить; говорить и ласкать мое скомканное, покорной страстью пахнущее тело.
Скоро, но не слишком, брат переехал спать на отдельную кровать, сначала даже без постельного белья, он укрывался принесенной на себе из дома походной курткой, не достававшей даже до паха.
– Это брат должен спать тут, – горевал ты.
Л. обрывал его преданной песней, ведь что же, он сам так хотел. Уступил нам постель, из уважения к Роме – старшему брату и главному наследнику, и мне, его жене, его вещи. Потом Л. купил себе одеяло, подушку и новые носки.
И время потекло.
Временное превратилось в камень, каменья на моем обручальном кольце, которое вскоре тоже пришлось продать. Есть хотелось больше, чем страдать о золоте.
Днем и ночью братья занимались возвращением. Встречались с какими-то агентами, друзьями и «друзьями», решали, как выпутаться; все пытались собрать, поднять кого-то и свергнуть тех, кто сверг их. Меня никуда не брали, я и не хотела, чтобы брали. И не ходила, ждала в грязной, уже грязной, но чистой на вид комнатке и впитывала памятью запахи, чтобы потом носить их, как пробник прогорклой жизни, повсюду и везде.
Паспорта стоили дорого. Те, с помощью которых пересекли границу, мы выкинули сразу. У моих родителей просить было нельзя. Огромное приданое, состояние, объединенное с Роминым после замужества, сейчас было заперто, уничтожено, забыто.
Он отговаривал меня, я помню.
Когда стало нечего продавать и нечего есть, брат устроился доставщиком продуктов, водил новенький, глянцевый, обклеенный рекламными обещаниями грузовик, и из его внутренностей носил тяжелые пакеты, бутыли с водой по лестницам и лифтам, туда – в квартиры. Впитывал запах чужих избыточных жизней и приносил домой. Делить.
Рома сначала год работал вместе с ним, но сломал руку, лег на диван, и пока срастались кости, оставался там, молясь, размышляя и отвлекаясь лишь на меня. Брат покупал еду, платил за квартиру-комнату-дупло, в которой мы с его братом, моим мужем, братом брата, перевязав покрепче руку, частенько предавались любви.