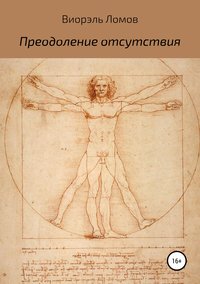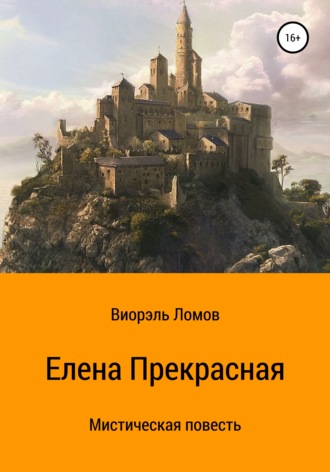
Полная версия
Елена Прекрасная
Искушения
За вечерним чаем Елена слукавила и указала на десерт, который ей не нравился. Она думала, что дядюшка заменит его лучшим. Но Колфин лишь щелкнул пальцами и не стал менять. Минут через пять спросил:
– Как десерт? Нравится?
– Ничего, – буркнула ученица.
– Не лукавь. Не будь ребенком.
– Дядюшка, что изменилось бы, скажи я правду? Получила бы всё равно этот ненавистный десерт!
– Он уже и ненавистный… Не удалось обмануть меня? Но причем тут десерт? Недоступное сладко, а полученное горчит? Елена, учись говорить правду! В суде клянутся говорить одну лишь правду, потому что только правда может спасти жизнь. – Колфин удовлетворился вниманием ученицы и добавил: – И обмануть, по большому счету.
Лена хотела выпить еще чаю, но дядюшка налил ей вчерашний напиток. Перед сном девушка спросила Колфина, а где тетушка Кольгрима – та обещала ей два свидания с родными.
– О свиданиях не беспокойся, – успокоил ее дядюшка. – Свидитесь. От тебя зависит, когда. Тебя всё равно надо периодически выпускать в свет. Скажем, в парижский. Parles français?
– Oui, c'est pas mal.
– C'est très bien. À Paris! À Paris!1
Над столом пролетела бабочка. Лена проводила ее взглядом, а дядюшка изрек очередную сентенцию:
– Вот она тоже летит на свет. На любой, кроме зеркального. – Дядюшка махнул рукой в направлении холла. – Не могу понять, почему.
– Наверное, потому, что он отраженный? – предположила ученица.
– Да? Серьезно? Ты так думаешь? И кто же его отразил? Разве свет, если это свет, можно отразить? А не потому ли, что у бабочки нет мозгов? Bonne nuit2
Это был крайне неприятный тип. Какой-то резкий, но и мягкий одновременно, неуловимый, как пума, которую Елена впервые увидела в зоопарке в семь лет и на всю жизнь испугалась ее взгляда. Мужчина долго грациозно крутился вокруг нее, потом вдруг перемахнул, как пума, ей дорогу и где-то наверху, как ей показалось, притаился. При этом она отчетливо слышала шепот: «Не смотри наверх! Там никого нет! – И тут же: – А может, посмотришь? Он там!» Почувствовав, что сверху на нее падает что-то темное (она как бы со стороны видела ухмылку падающего на нее типа!), девушка метнулась в сторону и свалилась с тахты. Сердце ее гулко стучало, а в темном углу комнаты (она могла поклясться в этом!), пятясь задом, в стену погрузилась пума. У зверя зловеще сияли глаза.
Елена вышла в холл. На часах застыла полночь. «Ночь сурка два», – подумала девушка. В зеркале было светло, даже чересчур светло. «Где наша не пропадала!» – сказала она самой себе и хотя было очень страшно, зажмурившись, вошла в тот свет.
Открыв глаза, Елена поняла, что находится на крыше небоскреба. Под ней переливался разноцветными огнями ночной город. Светящиеся гирлянды и ручьи кварталов и дорог спорили своей красотой со звездным небосводом. С одной лишь разницей: вверху было торжественно и тихо, а внизу царила суета. Небоскреб раскачивал ветер, точно хотел опрокинуть его наземь. «Да это же Эйфелева башня! – Елена неделю назад была на выставке, посвященной достопримечательностям Франции. – Марсово поле. Собор Парижской Богоматери. Но почему нет никого? И почему башня погружена в кромешную тьму? А, уже глубокая ночь. А ведь ночью она светится, как восьмое чудо света. И пусть! Иллюминации нет, но завтра СМИ станут наперебой писать о том, что башня светилась. Светилась потому, что на ней была Я! О, это даже не «Мисс Вселенная». Это куда круче!»
– Нравится? – услышала она голос, раздавшийся из темноты.
– Очень! – с восторгом произнесла Елена.
– Через год она тоже будет твоей! С нее ты сможешь озирать всё, что принадлежит тебе! А сейчас хочешь полететь? Не бойся, я поддержу тебя.
– Хочу!
– Полетели!
Елена вновь свалилась на пол. Хорошо тахта была низкая, и девушка не ушиблась. «Занесло же меня!» – подумала она и услышала дядюшкин голос:
– Елена, встала? Не забыла – тебе сегодня поридж готовить!
Метаморфозы
Мягкий свет проникал сквозь прикрытые веки. На мгновение Елене представилось, как ранним утром она лежит с закрытыми глазами в шезлонге возле самой воды и ни о чем не думает. Три года прошло с тех пор, как она с родителями была в Сочи, а казалось, открой глаза и вновь перед тобою море – гладкое как небо и солнце – теплое как мамина рука.
Отчего ж в мыслях такая тишина? Может, сама кафешка располагала к безмятежности? Не зря же слово «покой» связывает умиротворение души и уют помещения. И хотя забегаловка была отнюдь не тем местом, где можно было забыться от внешнего мира и на минуту отвлечься от мира внутреннего, в этот момент в душе Елены царил именно этот всеобщий мир. Не хотелось даже думать ни о каком признании и успехе. Словно всё уже решилось в ее жизни, обрело устойчивость, достигло цели. При этом девушку совсем не интересовало, откуда взялось в ней это внутреннее равновесие. «Пусть продлится это мгновение, но я не скажу ему постой» – думала девушка, по привычке развивая чужую мысль. Будь она мужчиной, могла заподозрить, что оказалась нечаянно в собственной старости. Но женщине не дано узнать даже осень жизни, оттого что она – вечная весна. Наверное, так.
Елена открыла глаза. На фоне мутного ночного неба, типичного для всякого мегаполиса, по окну расплылась надпись «Caf Paris». Напротив сидела броская молоденькая брюнетка в милой шляпке, в изящном, но старомодном платье вызывающе красного цвета. А еще в глаза невольно бросались холеные белые руки красавицы. Елена отпила глоток кофе и, решив затеять с соседкой легкий разговор, взглянула на нее и, к своему удивлению, увидела совсем другую женщину – не брюнетку, а шатенку, тоже в шляпке, но в более скромном и тоже несколько старомодном платье в крупную продольную полоску. Визави была великолепна и, чувствовалось, безукоризненных манер. Это было очевидно – так по живописному уголку парка угадывается вся его роскошь. Елена подумала, что очень хотела бы походить на сидевшую напротив даму, и на мгновение ее охватила тоска от нереальности этого желания.
Шатенка, уловив настроение девушки, протянула ей руку, в которой была зажата монета.
– Подбрось монету. Выпадет орел, станешь шатенкой. Решка, останешься брюнеткой. Чую, хочешь стать шатенкой. Мной, то есть, – улыбнулась дама в полоску. – Я тебе дала время на выбор, но ты что-то медлишь. Теперь пусть решит случай. Бросай.
Елена подбросила монетку. Та упала на зеленую скатерть орлом. И тут же шатенка и брюнетка мгновенно поменялись местами. То есть натурально брюнетка стала шатенкой, а шатенка – брюнеткой. Бармен, который занимался своими нехитрыми делами, жуя сто раз пережеванную жвачку и устало поглядывая на посетителей, чуть не поперхнулся от этого кульбита.
Елена выхватила из сумочки кругленькое зеркальце и убедилась, что превратилась в шатенку, сидевшую только что напротив. Девушка с восхищением, смешанным со страхом, смотрела на Кольгриму, вернувшую себе облик брюнетки.
– Я обучу тебя нехитрому этому волшебству, – посулила Кольгрима. – Пару дней я наблюдала за вами. Дядюшка пусть натаскивает фехтованию и верховой езде, ну и всякой философической болтовне, а я обучу тебя танцам и этикету. Не хуже Колфина. Английские принцессы позавидуют!
Брюнетка-Кольгрима отпила кофе, поморщилась и сказала:
– Вот и пригодились три тарелочки.
– Какие тарелочки? – спросила Елена.
– А, ты еще не знаешь о них. Да тарелочки расписал один художник, а потом подарил мне. Я утешала его в трудную минуту. Эта минута длится у него годами. Он и по сию пору безутешен. Как-нибудь познакомлю с ним. Неуравновешенный тип, чахоточный наркоман, запойный, но гениальный. Амедео звать. Мир еще услышит о нем. Ты понравишься ему. Он любит женщин с лебедиными шеями, хотя бездарно уродует их на своих картинах. Есть у него внутри чертовщинка. Наш он человек! Ну да ладно. Платить за дрянной кофе – нонсенс. Пошли отсюда.
Незаметно они оказались в гостиничном номере, достаточно просторном и комфортном, но не люксе. (Не видели они бармена – тот при исчезновении с его глаз двух странных дам впал в окончательный ступор). Кольгрима сказала, что в Париже можно, конечно, останавливаться и в фешенебельных отелях, но какой смысл в них жить, если не собираешься в ближайшее время из них выходить в высшее общество. «Нечего спешить. Пыльное место. В Париже главное пустить пыль в глаза, – разъяснила Кольгрима. – Надо больше пыли набрать».
Волшебница зажгла свечу на столе и закурила сигарету в длинном мундштуке. Возле колеблющегося огонька появилась бабочка. Кольгрима отогнала ее:
– Куда ты лезешь? Совсем нет мозгов?
Елена вгляделась в тетушку и спросила ее:
– Тетушка, а это ты была Колфином?
– Просекла, – усмехнулась Кольгрима. – Похвально, ученица. Ну а теперь займемся делами. Вот три тарелки. Те, что нарисовал Амедео. На них мы с тобой. Вот ты, а это я… Молоденькая совсем! – хихикнула Кольгрима. – Слушай внимательно и соображай. Надеюсь, ты литературно образована. Пруста и Ремарка читала? Пруст любит повествовать от малого к большому, а Ремарк наоборот.
Сказав, что три тарелки – это три этапа жизни Елены, учительница предложила девушке на выбор два варианта жизни: от большой к маленькой – по Ремарку, и от маленькой к большой – по Прусту.
– Не забудь только, – подчеркнула колдунья, – что самая маленькая с отколотым краем. И этот скол проходит по сердцу. Варианты не сильно разнятся. Ни в одном нет какой-то исключительности или новизны. Новизна вообще эфемерна, она ощущается лишь пока живешь в ней. А когда проживешь, всё равно, как жил. И когда у тебя была рана душевная, в начале жизненного пути или в конце, и был ли у тебя всю жизнь взлет или падение. Итог всегда один. И как повесить тарелки на стенку зависит не от тарелок, а от того, кто их развешивает. Уж поверь мне. Но поскольку у тебя всё еще впереди, выбирай свой путь. Не каждому предоставляется такая возможность. В одном страдание, а потом взлет и успех, в другом сразу же успех, а потом падение и терзания. Колфин выбрал бы второй вариант. Да-да, он вообще-то реальный дядюшка, как ты думала! А мне больше нравится первый. Ну а ты решай сама.
Амедео Нессуно
Всю свою жизнь Елена не знала, кто тогда дернул ее за язык сказать:
– Тетушка, сведи меня с этим Амадеем. – И с насмешкой добавить: – Он Моцарт или Гофман?
– Знакомые? – усмехнулась Кольгрима. – Ни тот и ни тот. И вообще он не Амадей…
– Да, Амадео, ты говорила. Я знаю, Амадео – испанское имя. «Возлюбленный Бога» означает. Или «любящий Бога», – блеснула познаниями умница.
– Оно так. И не так. Не Амадео. Его зовут Амедео, – поправила тетушка. – Он не испанец, итальянец. По матери еврей. И это имя никак не подходит ему. Я говорила как-то: наш он!
Елене было страшно любопытно узнать у наставницы, отчего это вдруг художнику не подходит его собственное имя. Ясно, что речь идет о Модильяни, но ученица не хотела произнести это вслух. Оттого и имя его исковеркала. Неожиданно она подумала: «А почему я по-прежнему считаю себя той Леной? Судя по всему, я – умудренная жизнью женщина, обворожительная шатенка. Или я останусь навсегда девчонкой?» Эти не лишенные здравого смысла соображения слегка озадачили ее, но ненадолго. Ее так и подмывало возразить тетушке, что как назовут корабль – Рафаэль Санти, например, Диего Родригес де Сильва-и-Веласкес или Пьер Огюст Ренуар, так он и поплывет к дальним берегам, а может, и ко дну. Но не успела Елена открыть рот, как Кольгрима огорошила ее словами:
– Вот и отлично! Путь выбран. Значит, в путь! На перекресток Монпарнас-Распай, в «Ротонду», он там. Ищет очередную натурщицу. Привиделось ему в гашишном сне длинношеее создание, вот и ищет его по парижским курятникам. Чего б не пойти в зоосад к лебедям и жирафам. Может, ты напомнишь ему ее…
– Жирафу… – сказала Елена.
– Уничижение паче гордости. – Кольгрима задумалась, точно решала что-то важное для себя. Потом сменила тему: – Кофеёк у папаши Либиона так себе, правда, всего за шесть сантимов, да и все натурщицы под стать кофейку и всей этой бесчисленной парижской братии. Грош цена всем в базарный день. Пьянь и бездари, мазилы и горлопаны. Но в этом кафе собирается ядро художников и поэтов, которое разнесет двадцатый век в клочья. Лет через десять кое-кого из них покроют позолотой, а кого-то, кто не откинется в лучший мир, даже озолотят. Так что можно хорошо вписаться в эту компашку и отхватить себе кусок пирога.
– Ты хочешь представить меня как модель? – деланно возмутилась Елена. «Интересно, – думала девушка, – знает тетушка о том, что Монмартр и Монпарнас мой конек?» Девушка никому не говорила о своем самом серьезном увлечении и никогда не участвовала ни в одном конкурсе, посвященном парижской богеме.
– Не много ли чести – «модель»? Любая герцогиня без раздумий скинет платье, лишь бы через сто лет ее имя как натурщицы вспомнили вместе с именем этого художника. Правда, имен этих легион.
– А как его полное имя? «Скажет или нет?»
– А никак. Он пока никто. Да хоть Амедео Нессуно. А что, ничего. Амедео Никто. Пустое место. Зеро… Nessuno poteva vederlo. Ma molti sentiranno e vedranno, fuori3.
Елену лихорадило. Сейчас произойдет то, ради чего она оказалась тут. Девушка была знакома со многими питерскими и московскими поэтами и художниками, но ни один из них не впечатлил ее своим творчеством и самобытностью. Более того, почти все они разочаровали откровенной пошлостью и тошнотворным самолюбованием. Тут же от самого имени Модильяни веяло таким очарованием, какого в реальной жизни и быть не могло. «Неужели сейчас я познакомлюсь с ним? С чего это тетушка думает, что я не знаю, о ком идет речь?» Она продекламировала с прилежанием школьницы:
– Зайти в «Ротонду». Шесть сантимов / За чашку кофею отдать, / Чтоб одному из херувимов / На час натурщицею стать…
Кольгрима даже крякнула.
– «Достать пролетку. За шесть гривен» – это еще не написано. Ну что, сама познакомишься с херувимом или познакомить? Жена Амедео станет считать его настоящим ангелом. К счастью, это будешь не ты. Но он обратит на тебя внимание.
– Неужели я из его видений?
– Вряд ли. Но ты, в отличие от большинства дам, готовых позировать за так, не станешь делать так. К тому же ты знаешь стихи Малларме, искусство Древнего Египта, разбираешься в живописи и недурно рисуешь сама. Это неплохие крючки, чтоб зацепить Амедео. Дерзай. Если клюнет на тебя, готовься к ночным бдениям. Он любит шататься по ночному Парижу. Будет таскать по всем кабакам.
– Тетушка, неужели я червяк? «Клюнет»! Как-то не по себе даже.
– Да брось ты! – с досадой сказала Кольгрима. – Тут всё важно: и чтоб клюнул, и чтоб с крючка не сорвался. Какая же ты у меня еще дурочка! И я, старая дура, связалась с тобой! Мне бы в деревеньку куда-нибудь, в глушь, в Саратов, в Сюсьмя… Однако надо тебе лет десять-пятнадцать сбросить. Натурщицы хороши до двадцати. Посмотрись-ка в зеркало.
Перед Еленой возникло зеркало, чуть ли не то, что было в холле квартиры. Так и есть: на часах светится «00—00» и вглубь зеркала прихрамывая удаляется кто-то в черном плаще, а ему навстречу идет легкой походкой господин в ярком желтом солнечном наряде с синей папкой в руках! Елена с удовольствием разглядела себя, совсем молоденькую, какой она и была в действительности, но с таким глубоким загадочным взором, что сама чуть не утонула в нем.
Девушка оглянулась на тетушку. Та стояла возле стойки и о чем-то разговаривала с добродушным толстяком, судя по всему, хозяином кафе. Кольгрима подошла к ученице.
– Он тут. В комнате.
Из глухой комнаты вразнобой доносился смех, брань, декламация. В помещении за всеми столиками сидели, пили и спорили посетители в самых немыслимых одеждах и головных уборах. Было сильно накурено, хоть топор вешай, и пропитано потом и винным духом. За угловым столиком в одиночестве сидел симпатичный господин весь в желтом, перехваченный красным кушаком, и перекладывал листки в синей папке. В зубах он зажал карандаш.
Тетушка подвела ученицу к художнику.
– Привет, Моди! Ты прямо как солнце в этой вонючей дыре. Любителю ночных блужданий к лицу сей солнечный наряд.
Молодой человек блеснул глазами, встряхнул красивой прядкой волнистых волос, приподнялся, держа в руках папку и не вынимая изо рта карандаш, и, кивнув дамам, чтоб садились, плюхнулся сам. Похоже, он был изрядно пьян.
Не говоря ни слова, Амедео одним скользящим движением вывел на листке обычной писчей бумаги женский контур в платье. Взял другой лист и нарисовал его же, но уже без платья. Удовлетворенно хмыкнул. Посмотрел на дам. Брюнетка сказала ему:
– Знакомься, Моди! Елена.
– Да, она Елена Прекрасная, – пробормотал художник, не иначе самому себе.
Кольгрима подмигнула спутнице – мол, что я говорила!
Елену покоробила эта бесцеремонность Модильяни, но и царапнула прямо по сердцу. «Но это же еще не скол на той тарелочке», – подумала Елена. И тут ей в голову пришло, это совсем не то кафе, что на тарелочках. Не мог их нарисовать тут Модильяни! Да и не его это стиль. А кто тогда их нарисовал? Неужто я сама? По памяти, когда-нибудь потом, по печали. Спустя много лет. Изобразила себя в двух ипостасях. Брюнетку в дьявольском красном наряде и ее жертву. Саму себя – дьяволицу и жертву. А Модильяни на рисунке нет, о нем лишь воспоминания. Но почему я не написала о нем даже стихов?
У девушки закружилась голова, поплыл пол, заходили стены,
Она очнулась, вышла в холл. На часах была полночь.
Явление
Очнувшись от ночного морока, девушка почувствовала озноб. Ей вдруг сильно, до тоски, захотелось на свет и в свет, в дом Энгельгардта, где российская знать устраивала музыкальные вечера и бал-маскарады, вновь вышагивать полонез рука об руку в первой паре с государем Николаем Павловичем. Ах, этот взгляд царя – его нельзя было выдержать, но от него нельзя было и оторваться!
– День добрый, ненаглядная! – услышала Елена, и от неожиданности вздрогнула. Она так погрузилась в свои мысли о чем-то нереальном, что не заметила, как рядом с ней оказался Модильяни. Амедео был небрежно элегантен, но и изрядно пьян. В руках у него была всё та же синяя папка с рисунками и бумагой. Но на сей раз карандаш в зубах художник не зажимал. Елена улыбнулась.
– Что улыбаетесь, Елена Прекрасная? – спросил Модильяни и взглянул на себя в зеркало. – А, карандаша во рту нет! Вот! – Он показал руку, в которой держал карандаш. – Позвольте запечатлеть. Вы как змейка. Змея подсказала мне, давно уже, как вести карандаш, чтоб не испортить черты красавицы. Такой, как вы.
Художник уверенными, гладкими движениями тут же нарисовал портрет Елены. Она была похожа и не похожа на себя. В ней появилось нечто значительное и исчезло сиюминутное. Было в ней и что-то пленительно-змеиное, беспокоящее взгляд.
– Будете моей моделью? – небрежно, как само собой разумеющееся, спросил Амедео, оценивающе переводя взгляд с рисунка на Елену и обратно. Неясно было, что он оценивает – портрет или натурщицу. Но, похоже, остался доволен обоими. Елена не отвечала. Художник воспринял ее молчание как согласие.
– Для начала неплохо побывать в Египетских залах Лувра, окунуться, так сказать, в воды Древнего Нила. Ваша внешность оттуда. Вы не Клеопатра, но в вас есть ее замес. Не сочтите это за лесть, – буркнул недовольно он, заметив, как девушка улыбнулась вновь. Она же улыбнулась тому, что знала о том, что Моди пригласит ее в музей Лувра!
– Царица, если помните, любила змей до гробовой доски. Возьмите портрет. Вот моя подпись. Когда-нибудь ваши внуки станут богачами, продав этот листок.
У Елены на глаза навернулись слезы.
– О, да вы чувствительная! Абсент? – Моди разглядел бутылку темного стекла на полке.
Елена отрицательно покачала головой.
– Жаль. Ну, так как, идем? Случайно не знакомы с русскими, они недавно в Париже. Кажется, Анна и Николай.
– Не имею чести быть знакомой с ними! – У Елены задрожала нижняя губа. Она безотчетно почувствовала угрозу в имени «Анна».
Пара отправилась во дворец.
Амедео то отрывисто, то нараспев читал стихи Бодлера, комментируя их:
«Свершая танец свой красивый
Ты приняла, переняла
Змеи танцующей извивы
На тонком острие жезла…»4
– Змеи танцующей извивы на тонком острие жезла – какой образ! – восклицал художник. – Попробуй, нарисуй!
Елена смятенно перебирала строки, которые приходили ей в голову и тоже слагались в стихотворение. «Карандаш и абсент в стакане… В папке синей берет Модильяни… Чистый лист, рисует на нем… Абрис в память встречи случайной… Контур чей? Но скрыто то тайной… Во сне он абсентом рожден…» Девушку лихорадило. Озноб не прошел.
– О, я увидел. Я вижу эту змею, – продолжал Амедео. – Ко мне? – Он положил руку ей на плечо. – Готова позировать?
«Обними его!» – змеей скользнул ей в уши шепот, от которого девушку стала бить натуральная дрожь.
Елена была готова.
Натворила дел
Кольгрима была темнее тучи.
– Ну и натворила же ты дел, «ненаглядная»! Мало было приюта живописца? Что тебя понесло еще и во дворец?
– В Лувр? – Елена силилась вспомнить что-нибудь о Лувре, но не могла.
– Какой Лувр! Ты тоже абсент пила? Зимний! Иди, отоспись. И я лягу. От твоих похождений, голубушка, у меня голова кругом идет.
Елена обратила внимание на бледный вид Кольгримы.
– Нездоровится, тетушка?
– Столько волнений за последние дни! А тут еще гостёчки пожаловали!
– Кто?
– А! – отмахнулась Кольгрима. – Твари! Надо бы полежать, отдохнуть, но вот приходится заниматься непонятно чем!
«Понятно чем», – подумала девушка.
Елена побрела в свою комнату. Глянув в зеркало, она вспомнила, что страшно обиделась на Амедео, когда тот даже не одевшись, схватил карандаш и, не глядя на нее, стал рисовать нечто привидевшееся ему черт знает когда в галлюциногенном бреду. Елене было досадно, что он рисовал не ее. «Как же так? – задавила она в себе крик. – Как же так?»
Модильяни протянул ей лист. Рисунок был дьявольски хорош. Обнаженное женское тело напряглось в порыве страсти. «В предвкушении минуты радости», – написал Моди. «Неужели это я?» – подумала Лена. Вскоре художник окончил и подписал второй рисунок. «Утомленная страсть», – прочитала натурщица на изображении разомлевшей красавицы. Елене показалось, что оба портрета вывел не карандаш на бумаге, а вырезал скальпель на женской коже. Она даже разглядела на втором рисунке капельки крови. На арабески Модильяни было больно смотреть, но еще больнее осознавать, что больше никаких рисунков не будет.
– Они твои. Постой. – Амедео поморщился и зачеркнул на первом листке слово «минута», заменив его на «мгновение».
А после этого… Что было после этого? После этого – девушка вспомнила, как она, не прощаясь, покинула художника, приступившего к очередному портрету и не обращавшему больше на гостью внимания, и оказалась вдруг то ли на балу, то ли в уютной комнате наедине с государем. Монарх холодно любовался ею и спрашивал:
– Ты чем-то не довольна, Элен?
– Я всем довольна, ваше величество!
– А кто-то жаловался давеча: всякий день балы?
– Но не такой, как нынче, государь! Он единый.
Но почему она не ощущает волнения, почему она так спокойна, будто ничего не случилось? Ведь ее только что в своих объятиях держал сам государь! «А перед этим – сам Моди!» – змейкой скользнул в уши шепот.
Однако пора спать!
Кольгрима достала из стола синюю папку Моди и вынула из нее рисунки, изображавшие ее (ее ли?) в их первое и единственное свидание. Она взглянула в зеркало и увидела в нем Елену. Вздохнув, вернула рисунки в папку, папку бросила в стол и снова взглянула в зеркало. Всё в порядке: улыбнулась она самой себе.
«Мчатся бесы рой за роем в беспредельной вышине…» – кружилось у нее в голове. Бесы ли то были, или Модильяни, или государь, или она сама, Елена Прекрасная? Так с этим кружением волшебница и легла спать. «Бесы, бесы, достали же вы меня!» – последнее, что она подумала, проваливаясь в сон. Во сне ее преследовал ехидный голос Колфина, в которого она преображалась порой: «Любите ли вы театр так, как я люблю его? – Дядюшка ёрничал: – Для чего ходят в театр? Чтобы получить удовольствие. Так вот, я получаю наслаждение только от того, что не хожу в театр. Что ты нашла, досточтимая Кольгрима (или Елена?), в этом пошлом балагане? В этом дьяволе-рисовальщике, в этом Божьем наместнике, ледяном царе?»
Колдунья прокляла уже не раз тот день и час, когда она давным-давно заключила с демонами договор, по которому получила отменное, нечеловеческое здоровье и дар волшебный превращать и превращаться, перемещать и самой перемещаться в пространстве и во времени.
Согласно договору, по достижении двухсотлетнего возраста Кольгрима должна была отдаться бесам навечно. «Ну чем не Фауст?» – думала она когда-то. Со временем эту мысль вытеснила другая: «Вот же черт!» Кольгрима спешила подготовить себе замену, но всё срывалось и срывалось. Вот, наконец-то вроде как уже приготовила, но получалось, что ее не разделить с Еленой! В Елене была она сама, а в ней Елена, и разорвать их обеих не могло никакое колдовство, никакие молитвы! О каких молитвах могла идти речь, когда им не было места даже в лексиконе колдуньи!