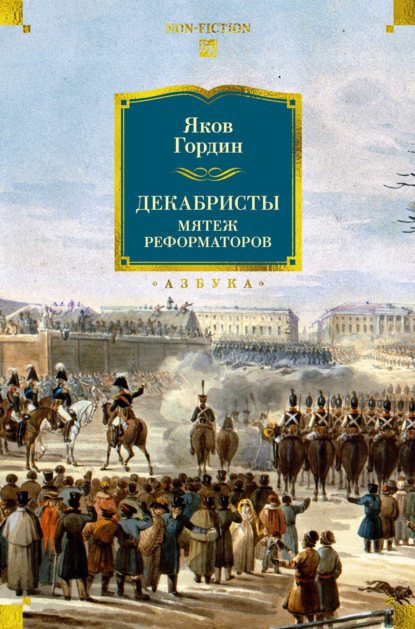Полная версия
Точка и линия на плоскости

Василий Кандинский
Точка и линия на плоскости
© Е. Ю. Козина, перевод, 2001
© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023
Издательство Азбука®
О духовном в искусстве
Немецкая рукопись книги «О духовном в искусстве» («Über das Geistige in der Kunst») датируется августом 1909 года. Впервые книга была опубликована в Мюнхене на немецком языке в декабре 1911 года (датировано «1912»). В 1912 году вышли в свет еще два дополненных немецких издания. Основные положения книги Кандинского легли в основу доклада Николая Ивановича Кульбина, прочитанного им на заседании Всероссийского съезда художников в Петербурге в декабре 1911 года и опубликованного в апреле 1914-го в сборнике трудов съезда. На русском языке «О духовном в искусстве» впервые была выпущена в свет в 1967 году нью-йоркским Международным литературным содружеством в полном переводе Андрея Андреевича Лисовского под редакцией вдовы художника Нины Николаевны Кандинской и редактора, публициста, переводчика Евгении Владимировны Жиглевич.
I
Введение

Всякое произведение искусства есть дитя своего времени, часто оно и мать наших чувств.
Так каждый культурный период создает свое собственное искусство, которое не может быть повторено. Стремление вдохнуть жизнь в художественные принципы прошлого может в лучшем случае вызвать художественные произведения, подобные мертворожденному ребенку. Мы не можем ни чувствовать, как древние греки, ни жить их внутренней жизнью. Так, например, усилия применить греческие принципы в пластическом искусстве могут создать лишь формы, сходные с греческими, но само произведение останется бездушным на все времена. Такое подражание похоже на подражание обезьян. С внешней стороны движения обезьяны совершенно сходны с человеческими. Обезьяна сидит и держит перед собою книгу, она перелистывает ее, делает задумчивое лицо, но внутренний смысл этих движений совершенно отсутствует.
Существует, однако, иного рода внешнее сходство художественных форм: его основой является настоятельная необходимость. Сходствовнутренних стремлений всей духовно-моральной атмосферы, устремленность к целям, которые в основном и главном уже ставились, но впоследствии были забыты, то есть сходство внутреннего настроения целого периода может логически привести к пользованию формами, которые успешно служили тем же стремлениям периода прошлого. Частично этим объясняется возникновение нашей симпатии, нашего понимания, нашего внутреннего сродства с примитивами. Эти чистые художники так же, как и мы, стремились передавать в своих произведениях только внутренне существенное, причем сам собою произошел отказ от внешней случайности.
Но несмотря на всю значительность, эта важная внутренняя точка соприкосновения является все же только точкой. Наша душа, лишь недавно пробудившаяся от долгого периода материализма, таит в себе зародыш отчаяния – следствие неверия, бессмысленности и бесцельности. Еще не совсем миновал кошмар материалистических воззрений, сделавший из жизни вселенной злую бесцельную игру. Пробуждающаяся душа все еще живет под сильным впечатлением этого кошмара. Лишь слабый свет мерцает, как одинокая крошечная точка на огромном круге черноты. Этот слабый свет является лишь чаянием для души, и увидеть его у души еще не хватает смелости; она сомневается, не есть ли этот свет – сновидение, а круг черноты – действительность. Это сомнение, а также гнетущие муки – последствие философии материализма – сильно отличают нашу душу от души художников-«примитивов». В нашей душе имеется трещина, и душа, если удается ее затронуть, звучит как надтреснутая драгоценная ваза, найденная в глубине земли. Вследствие этого переживаемое в настоящее время тяготение к примитиву может иметь лишь краткую длительность в его современной, в достаточной мере заимствованной форме.
Эти два сходства нового искусства с формами искусства прошлых периодов, как легко заметить, диаметрально противоположны. Первое сходство – внешнее и, как таковое, не имеет никакой будущности. Второе – есть сходство внутреннее и поэтому таит в себе зародыш будущего. Пройдя через период материалистического соблазна, которому душа как будто поддалась, но все же стряхивает его с себя, как злое искушение, она выходит возрожденной после борьбы и страданий. Более элементарные чувства – страх, радость, печаль и т. п., – которые, даже в этом периоде искушения, могли являться содержанием искусства, малопривлекательны для художника. Он будет пытаться пробуждать более тонкие, пока еще безымянные чувства. Сам он живет сложной, сравнительно утонченной жизнью, и созданное им произведение, безусловно, пробудит в способном к тому зрителе более тонкие эмоции, которые не поддаются выражению в наших словах.
В настоящее время зритель, однако, редко способен к таким вибрациям. Он хочет найти в художественном произведении или чистое подражание природе, которое могло бы служить практическим целям (портрет в обычном смысле и т. п.), или подражание природе, содержащее известную интерпретацию: «импрессионистская» живопись, или же, наконец,облеченные в формы природы душевные состояния (то, что называют настроением)[1]. Все такие формы, если они действительно художественны, служат своему назначению и являются духовной пищей, даже и в первом случае. Особенно верно это для третьего случая, когда зритель в своей душе находит с ними созвучие. Разумеется, такая созвучность (также и отклик) не должны оставаться пустыми или поверхностными, а наоборот: «настроение» произведения может углубить и возвысить настроение зрителя. Такие произведения во всяком случае ограждают душу от вульгарности. Они поддерживают ее на определенной высоте, подобно тому как настройка поддерживает на надлежащей высоте струны музыкального инструмента. Однако утончение и распространение этого звучания во времени и пространстве все же остается односторонним явлением, и возможное действие искусства этим не исчерпывается.
Большое, очень большое, меньшее или средней величины здание разделено на различные комнаты. Все стены комнат завешены маленькими, большими, средними полотнами. Часто несколькими тысячами полотен. На них, путем применения красок, изображены куски «природы»: животные, освещенные или в тени, животные, пьющие воду, стоящие у воды, лежащие на траве; тут же распятие Христа, написанное не верующим в него художником; цветы, человеческие фигуры – сидящие, стоящие, идущие, зачастую также нагие; много обнаженных женщин (часто данных в ракурсе сзади); яблоки и серебряные сосуды; портрет тайного советника Н.; вечернее солнце; дама в розовом; летящие утки; портрет баронессы X.; летящие гуси; дама в белом; телята в тени с ярко-желтыми солнечными бликами; портрет его превосходительства У.; дама в зеленом. Все это тщательно напечатано в книге: имена художников, названия картин. Люди держат эти книги в руках и переходят от одного полотна к другому, перелистывают страницы, читают имена. Затем они уходят, оставаясь столь же бедными или столь же богатыми, и тотчас же погружаются в свои интересы, ничего общего не имеющие с искусством. Зачем они были там? В каждой картине таинственным образом заключена целая жизнь – целая жизнь со многими муками, сомнениями, часами вдохновения и света.
Куда направлена эта жизнь? К каким сферам взывает душа художника, если и она творила? Что она хочет возвестить? «Призвание художника – посылать свет в глубины человеческого сердца», – говорит Шуман. «Художник – это человек, который может нарисовать и написать все», – говорит Толстой.
Когда мы думаем о только что описанной выставке, то нам приходится избрать второе из этих двух определений деятельности художника. На полотне с бо́льшим или меньшим умением, виртуозностью и блеском возникают предметы, которые находятся в более или менее элементарном или тонком «живописном» взаимоотношении. Гармонизация целого на полотне является путем, ведущим к созданию произведения искусства. Это произведение осматривается холодными глазами и равнодушной душой. Знатоки восхищаются «ремеслом» (как восхищаются канатным плясуном), наслаждаются «живописностью» (как наслаждаются паштетом).
Голодные души уходят голодными.
Толпа бродит по залам и находит, что полотна «милы» и «великолепны». Человек, который мог бы сказать что-то, ничего человеку не сказал, и тот, кто мог бы слышать, ничего не услышал.
Это состояние искусства называется l’art pour l’art[2].
Это уничтожение внутреннего звучания – звучания, являющегося жизнью красок, – это сеяние в пустоту сил художника есть «искусство для искусства».
За свою искусность, за дар изобретательности и дар восприятия художник ищет оплату в материальной форме. Его целью становится удовлетворение честолюбия и корыстолюбия. Вместо углубленной совместной работы художников возникает борьба за эти блага. Жалуются на чрезмерную конкуренцию и на перепроизводство. Ненависть, пристрастное отношение, кружковщина, ревность, интриги являются последствиями этого бесцельного материалистического искусства[3].
Зритель спокойно отворачивается от художника, видящего цель своей жизни не в бесцельном искусстве, а ставящего себе высшие цели.
Понимание выращивает зрителя до точки зрения художника. Ранее мы сказали, что искусство есть дитя своего времени. Такое искусство способно лишь художественно повторить то, чем уже ясно заполнена современная атмосфера. Это искусство, не таящее в себе возможностей для будущего, искусство, которое есть только дитя своего времени и которое никогда не станет матерью будущего, является искусством выхолощенным. Оно кратковременно; оно морально умирает в тот момент, когда изменяется создавшая его атмосфера.
Другое искусство, способное к дальнейшему развитию, также имеет корни в своей духовной эпохе, но оно является не только отзвуком и зеркалом последней, а обладает пробуждающей, пророческой силой, способной действовать глубоко и на большом протяжении.
Духовная жизнь, частью которой является искусство и в которой оно является одним из наиболее мощных факторов, есть движение вперед и ввысь; это движение сложное, но определенное и переводимое в простое. Оно есть движение познания. Оно может принимать различные формы, но в основном сохраняет тот же внутренний смысл и цель.
Во мраке скрыты причины необходимости устремляться «в поте лица» вперед и ввысь – через страдания, зло и муки. После того как пройдет один этап и с пути устранены некоторые преграды, какая-то невидимая злая рука бросает на дорогу новые глыбы, которые иной раз, казалось бы, совершенно засыпают дорогу, делая ее неузнаваемой.
Тогда неминуемо приходит один из нас – людей; он во всем подобен нам, но несет в себе таинственно заложенную в него силу «ви́дения». Он видит и указывает. Иногда он хотел бы избавиться от этого высшего дара, который часто бывает для него тяжким крестом. Но он этого сделать не может. Сопровождаемый издевательством и ненавистью, всегда вперед и ввысь тянет он застрявшую в камнях повозку человечества.
Часто на земле уже давно ничего не осталось от его телесногоЯ, и тогда всеми средствами стараются передать это телесное в гигантского масштаба мраморе, железе, бронзе и камне. Как будто телесное имело какое-либо значение для таких божественных служителей и мучеников человечества, презиравших телесное и служивших одному только духовному. Как бы то ни было, эта тяга к возвеличению в мраморе служит доказательством, что бо́льшая часть человеческой массы достигла той точки зрения, на которой некогда стоял тот, кого теперь чествуют.
II
Движение

Большой остроконечный треугольник, разделенный на неравные части, самой острой и самой меньшей своей частью направленный вверх, – это схематически верное изображение духовной жизни. Чем больше книзу, тем больше, шире, объемистее и выше становятся секции треугольника.
Весь треугольник медленно, едва заметно движется вперед и вверх, и там, где «сегодня» находился наивысший угол, «завтра»[4] будет следующая часть, то есть то, что сегодня понятно одной лишь вершине, что для всего остального треугольника является непонятным вздором, – завтра станет для второй секции полным смысла и чувства содержанием жизни.
На самой вершине верхней секции иногда находится только один человек. Его радостное ви́дение равнозначаще неизмеримой внутренней печали. И те, кто к нему ближе всего, его не понимают. Они возмущенно называют его мошенником или кандидатом в сумасшедший дом. Так, поруганный современниками, одиноко стоял на вершине Бетховен[5].
Сколько понадобилось лет, прежде чем бо́льшая секция треугольника достигла вершины, где Бетховен когда-то стоял в одиночестве. И несмотря на все памятники – так ли уж много людей действительно поднялось на эту вершину?[6]
Во всех частях треугольника можно найти представителей искусства. Каждый из них, кто может поднять взор за пределы своей секции, для своего окружения является пророком и помогает движению упрямой повозки. Но если он не обладает этим зорким глазом, или пользуется им для низменных целей и поводов, или закрывает глаза, то он полностью понятен всем товарищам своей секции и они чествуют его. Чем больше эта секция (то есть чем ниже она одновременно находится), тем больше количество людей, которым понятна речь художника. Ясно, что каждая такая секция сознательно (или, чаще, несознательно) хочет соответствующего ей духовного хлеба. Этот хлеб ей дают ее художники, а завтра этого хлеба будет добиваться уже следующая секция.
Разумеется, что схематическое изображение не исчерпывает всей картины духовной жизни. Оно, между прочим, не показывает теневой стороны, не показывает большого мертвогочерного пятна. Слишком часто бывает, что указанный духовный хлеб становится пищей некоторых пребывающих уже в более высокой секции. Для такого едока этот хлеб становится ядом: в малой дозе он действует так, что душа из более высокой секции постепенно спускается в следующую низшую; употребляемый в большей дозе, этот яд приводит к падению, сбрасывающему душу во все более и более низкие секции. Сенкевич в одном из своих романов сравнивает духовную жизнь с плаванием: кто не работает неустанно и не борется все время с погружением, неизбежно погибает. Тут дарование человека, его «талант» (в евангельском значении слова) может стать проклятием не только для художника – носителя этого таланта, но и для всех, кто вкушает этот ядовитый хлеб. Художник пользуется своей силой для потворства низменным потребностям; в якобы художественной форме он изображает нечистое содержание, он привлекает к себе слабые элементы, постоянно смешивает их с дурными, обманывает людей и помогает им обманывать себя, убеждая себя и других, что они жаждут духовно и удовлетворяют эту жажду из чистого источника. Такого рода произведения не помогают движению ввысь, они тормозят, оттесняют назад стремящихся вперед и распространяют вокруг себя заразу.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
К сожалению, и это слово, которое должно обозначать творческие стремления живой души художника, было исковеркано и в конце концов стало предметом насмешек. Существовало ли когда-либо великое слово, которое толпа не попыталась бы тотчас же осквернить?
2
Искусство для искусства(фр.).
3
Немногие отдельные исключения не уничтожают этой безотрадной и роковой картины. Да и исключения составляют главным образом художники, символом веры которых является l’art pour l’art. Они, таким образом, служат более высокому идеалу, чтов целом является бесцельным расточением сил. Внешняя красота – это элемент, создающий духовную атмосферу; он имеет, однако, кроме положительной стороны (так как прекрасное-благое), также один недостаток. Этот недостаток состоит в неполно использованном таланте (таланте в евангельском значении слова).
4
Эти «сегодня» и «завтра» внутренне соответствуют библейским «дням» творения.
5
Вебер, композитор «Волшебного стрелка», говорил о Седьмой симфонии Бетховена: «Экстравагантность этого гения дошла теперь до крайности; Бетховен теперь совершенно созрел для сумасшедшего дома». Когда аббат Штадлер впервые услышал ее, он сказал соседу (во время биения ноты «е» в захватывающем моменте в начале первой части): «Все еще это „е“! Этому бесталанному парню ничего иного не приходит в голову!» («Бетховен» Августа Геллериха, см. с. 1 в серии «Музыка», издававшейся Р. Штраусом).
6
Не являются ли некоторые памятники печальным ответом на этот вопрос?