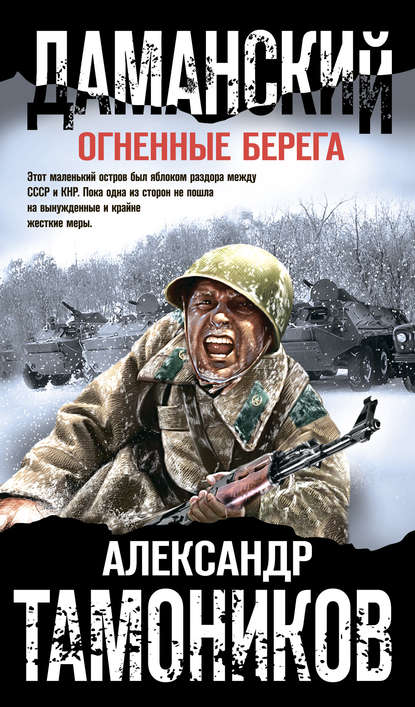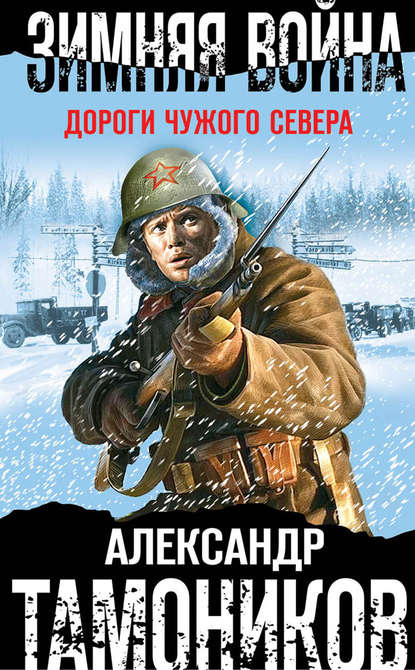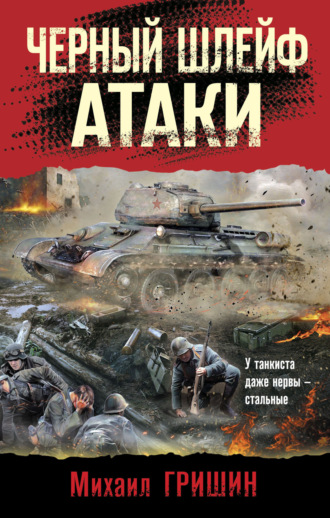
Полная версия
Черный шлейф атаки
Последнее, что Григорий запомнил, был фашистский пулеметчик. Он лежал в окопе рядом с убитым вторым номером и строчил по советским бойцам из ручного пулемета. Пулемет от выстрелов трясся у него в руках, отчего у фашиста то и дело сползала на его жесткие прищуренные глаза каска. Он ее поспешно поправлял и опять продолжал стрелять.
Ленька в это время перезаряжал свой пулемет, чуть замешкался, и Григорий направил танк прямо на немца. Тот произвел длинную очередь, – слышно было, как в броню ударяли пули, – потом немецкого пулеметчика охватил страх, он вскочил, оставив исправное оружие на бруствере, пригибаясь, побежал, отчаянно размахивая руками от надвигавшего на него советского танка. Немец был молодой и бежал довольно прытко. На какую-то долю секунды, прежде чем оказаться под гусеницами, он оглянулся, Григорий успел разглядеть его чисто выбритое лицо и нос с горбинкой. В его прежде холодных глазах плескался животный ужас.
После жаркого боя, когда Григорий осматривал машину, он заметил застрявший в гусенице окровавленный кусок человеческого мяса. Ему нестерпимо сильно захотелось взглянуть на убитого им фашиста. Григорий пошел к тому окопу, шаря глазами по трупам погибших красноармейцев, которые лежали вперемешку с немецкими солдатами. Немца, точнее то, что от него осталось, он обнаружил неподалеку от его окопа, – недалеко же фашист успел убежать. Все что теперь напоминало о молодом завоевателе, так это грязные сапоги с торчавшими из них белыми, словно обглоданные собаками, костями да исковерканная смятая в блин железная каска. Останки были глубоко вдавлены в жирную глинистую землю. Сожаления к раздавленному им живому человеку не было, как будто разум отключился и не хотел воспринимать жуткую действительность.
– Да и никакой ты вовсе и не человек, – брезгливо пробормотал Григорий, – а самый настоящий живодер и палач, пришедший на чужую землю убивать русских людей и их детей.
За тот первый бой Григорий был представлен к награде, медали «За отвагу». И в тот же памятный день заряжающий Ильяс Ведясов услышал рассказ Григория, который, должно быть, от тоски по дому неожиданно разоткровенничался и поделился с ним самым сокровенным, тем, что едва ли не полгода трепетно носил в своем сердце, боясь расплескать от чужого равнодушия. Мучительно морща прокопченное лицо, сбиваясь, путаясь от волнения, Григорий поведал о том, как его провожали на фронт самые близкие люди, и о словах братика Толика при расставании. Илька, сильно впечатленный услышанной историей, где-то сумел раздобыть белую краску и широкими буквами ветошью крупно написал на башне танка: «БРАТКА!»
– Гриша, – сказал он с сочувствием, – пускай теперь наш танк так и называется: «Братка». Чтоб фашисты знали, что пощады они от нас ни в жизни не дождутся. Мы им горло перегрызем за своих оставленных дома беззащитных братишек и сестренок, которые сами еще не в силах отомстить им за все их поганые дела.
…Внутри танка воздух был пропитан запахами солярки, отработанного масла, давно не стиранной одежды и тяжелым духом немытых тел самих танкистов. Григорий выбрался наружу. В лицо тотчас пахнуло освежающим ветром, сон пропал окончательно. Широко раздувая ноздри, Григорий с удовольствием втянул пресный запах снега.
Над немецкими позициями время от времени взлетали ракеты, освещая окрестность белым дрожащим светом. Когда свет мерк и наступала непроглядная темень, немцы начинали беспорядочную стрельбу. Чувствовалось, что неприятель нервничает и сильно озабочен предстоящим наступлением русских. «Интересно, – машинально подумал Григорий, неприязненно глядя на запад, – догадываются они, что атака будет на рассвете? – И сам ответил себе: – Догадываются, сволочи, иначе бы так не волновались».
Дождь начался неожиданно: вначале упали редкие крупные капли, с глухим щелчком ударяясь в оголенные ветки деревьев, в колючие сосновые лапы, в шлемофон. Дождь с каждой секундой шел все сильнее, и вскоре весь лес наполнился монотонным ровным шорохом. Это был первый весенний дождь.
В танк возвращаться не хотелось. Григорий, утопая по колено в снегу, который еще лежал под деревьями, стал под высокую раскидистую сосну, прижавшись спиной к ее шершавому стволу. Сняв шлемофон, он подставил ладонь под капли, просачивающиеся кое-где сквозь зеленые пахучие лапы, набрал в пригоршню холодной воды и с наслаждением умыл ею лицо. Немного спустя снег стал с тихим шорохом оседать, как будто земля с облегчением вздыхала после морозной зимы.
«Это хорошо, земля напитается водой, а значит, и урожай в этом году будет богатым», – с крестьянской сметливостью подумал Григорий.
Он вспомнил, как по весне пахал свой тамбовский чернозем, и грачи важно ходили по пахоте следом за трактором, выискивая червей. А в высоком ослепительно синем небе пел жаворонок, снизу видимый крошечной трепыхающейся точкой. Этой же весной в колхозе впервые за три года будут сеять без него и без других ушедших на фронт мужиков, будут как-то обходиться без мужчин, надеяться теперь слабосильным бабам и немощным старухам не на кого, кроме как на себя.
От этих мыслей Григорию стало грустно, стало жаль погибшего отца и других павших в сражении красноармейцев, которым никогда уже не вернуться домой. И еще неизвестно, сколько погибнет советских людей, пока Красной армии удастся разгромить эту фашистскую орду, чтоб людям всех национальностей на нашей многострадальной земле дышалось вольготно и счастливо. Григорий был твердо уверен, что после войны настанет удивительная жизнь.
Глава 3
Огромный филин неожиданно взлетел с сосны и скрылся в лесу, бесшумно размахивая крыльями. Сверху на Григория с разлапистых веток ручейком полилась вода, проникая за шиворот, холодя спину. Он зябко поежился, укутываясь в куртку.
– Бузотер, – восхищенно произнес Григорий.
Скоро его слуха коснулся далекий тревожный крик улетевшего филина, потом он еще пару раз угрюмо гукнул и затих. Не успел Григорий подумать о том, что осторожную птицу, по всему видно, что-то спугнуло, как тотчас расслышал сквозь убаюкивающий шорох дождя слабое чавканье множества ног по грязи. С каждой минутой оно нарастало, и наконец ближайший лесной массив заполнился сплошными тягучими звуками, как будто рядом усердно месили глину.
Он надел шлемофон, напряг зрение, вглядываясь в загустевшую темноту между деревьями. Когда глаза немного пообвыкли, разглядел длинную колонну красноармейцев, которые шли, оскальзываясь, по дороге, безжалостно развороченной танковыми траками.
– Твою мать! – выругался кто-то приглушенно, одновременно с хрустом не успевшей как следует еще намокнуть ветки и кому-то пожаловался: – Сапог чуть не продырявил. Он у меня и так на ладан дышит.
Григорий вышел из-за сосны.
– Кто тут? – окликнул его хриплый голос, к нему подошел низкорослый офицер в блестевшей от дождя каске, прикрывая полой мокрой плащ-палатки ППШ. – Капитан Жилкин, – представился он и спросил: – Где тут у вас командир полка находится?
Привычным жестом, отработанным до автоматизма, Григорий небрежно приложил ладонь к виску, приветствуя старшего по званию, и совсем не по уставу ответил:
– Сейчас организуем.
Он ловко запрыгнул на броню, стукнул кулаком в приоткрытый люк на башне, громко позвал:
– Товарищ лейтенант!
Тяжелый люк приподнялся, и оттуда высунулось помятое, с мешками под глазами лицо Петра Дробышева.
– Что надо? – спросил он недовольным заспанным голосом.
– Тут товарищ капитан интересуются нашим командиром.
Дробышев хмуро взглянул на прибывшего офицера, потом оглядел ближайшие ряды мокрых красноармейцев и, с неохотой выбравшись на броню, спрыгнул в грязь. Под сапогами хлюпнуло, и жидкая грязь брызнула в разные стороны.
– Мне командир нужен, – в очередной раз пояснил капитан, здороваясь с Дробышевым за руку. – Нас прислали десантом на танки.
– Пошли, – коротко сказал неразговорчивый Дробышев и повел капитана за собой.
Тот на ходу оглянулся и чуть не упал, зацепившись ногой о гребень закрутевшей грязи, осекаясь, торопливо скомандовал своим бойцам:
– Р-разойдись! – и с надрывом закашлял, прикрывая рот широкой ладонью, провонявшей жгучим мужским потом. От тяжелой фронтовой работы она настолько им пропиталась, что, должно быть, не отмыть и за полгода.
Основательно вымокшие и безмерно уставшие за время долгого перехода красноармейцы торопливо направились под деревья. Там было немного суше, не так сильно лило, как на открытой местности, и можно было передохнуть.
– Тамбовские есть кто? – крикнул Григорий, сложив ладони рупором.
– Есть! – тотчас отозвался кто-то из темноты, и к нему рысью подбежал молодой красноармеец, неловко вскидывая ноги в больших тяжелых сапогах, придерживая двумя руками автомат на груди. На его юношеском лице сияла белозубая улыбка, глядел он на Григория глазами, полными неожиданного счастья, что повезло встретиться на фронте с земляком. На загнутых вверх белесых ресницах дрожали дождевые капли. – Рассказовский я, – с ходу оповестил он и, видно в темноте Григорий показался ему намного старше, уважительно спросил: – А вы откуда?
– Саюкинский я, братка, – ответил Григорий, в груди у него от радости перехватило, голос заметно дрогнул: – Дай-ка я тебя обниму!
Он порывисто притянул к себе парня, который довольно охотно подался навстречу, обхватив Григория со спины крепкими руками. Он сделал это настолько быстро и доверчиво, что у Григория невольно мелькнула мысль о том, что молодой красноармеец, по всему видно, недавно из дома и еще не отвык от материнской заботы. А тут вдруг встретился на войне почти родной человек, который в мирное время проживал от него всего в каких-то пятнадцати километрах.
– Давно на фронте? – спросил Григорий, отодвинул парня за узкие плечи на вытянутые руки, с удовольствием стал разглядывать его открытое, с легким чернявым пушком над верхней губой, бледное лицо, еще не опаленное войной, не успевшее огрубеть.
– Не-а, – простодушно ответил паренек, с улыбкой глядя на земляка, как видно побывавшего не в одном сражении, заметив под его распахнутой танкистской курткой блеснувшую медаль «За отвагу». – Три месяца как из дома, завтра первый бой. Страшно, конечно, да человек ко всему привыкает. Такие вот дела.
– Зовут-то тебя как? – спохватился Григорий. – Меня Гришкой.
– Славик, – по-мальчишески запросто представился парень, – Славик Каратеев.
– Ничего, Славик Каратеев, – обнадеживающе сказал Григорий, – Бог не выдаст, свинья не съест. Главное – не раскисать раньше времени.
– Я не раскисаю, – смутился Славик, – да только все равно как-то боязно.
– Это само собой, – согласился Григорий. – Все мы люди, все мы человеки. – И вдруг неимоверно оживился, затормошил его за плечи, заглядывая в глаза, спросил, проявляя повышенный интерес: – Ты лучше расскажи, как там у нас на малой родине? В Саюкино случайно не был?
– Не-а, – замотал головой Славик и виновато улыбнулся. – Как-то не довелось.
Григорий, по всему видно, был готов к такому ответу, поэтому нисколько не расстроился, а наоборот, принялся сам с готовностью вспоминать о том, как однажды они с отцом побывали в Рассказове на колхозной ярмарке.
– Осень в том году была воистину золотая, самое настоящее бабье лето, всюду паучки летают на паутинках, солнце светит. А воздух – одно удовольствие. Прозрачный до сини, до хруста в легких, дышишь и надышаться не можешь, всю жизнь вот так им бы и дышал. Тепло, бахчи и зерновые убраны, с полей все вывезли, любо-дорого глядеть вокруг, пахота простирается до горизонта. Мы с отцом тогда возили на колхозной полуторке на ярмарку тыквы, желтые, крупные, а сладкие, что твой арбуз. А людей на ярмарке сколько было, страсть Божья. Мы все распродали и решили походить по рынку, прицениться к разным вещам. А еще задумали матери расписной платок купить к празднику, к Октябрьской революции, порадовать ее. Долго мы бродили, а у меня обувь была старенькая, потрепанная, специально надел, чтобы хорошую сохранить в свежести, потому как она должна была впоследствии перейти моему младшему братику Толику. Ходили мы, значит, с отцом, ходили, у меня вдруг возьми и отвались у одного ботинка спереди подошва. Иду как какой-нибудь дореволюционный беспризорник, а моя обувь есть требует, хлопает безобразно раззявленным носком. И смех и грех. Стыдоба, да и только. И вот видим, у северного выхода будочка такая крошечная примостилась у забора, а в ней сидит сапожник и молоточком постукивает по колодке. «Мил человек, – говорит ему отец, – ты бы вошел в наше положение, оставил бы пока свое не срочное занятие, а пришил бы моему сыну Гришке оторванную подошву». Ну, мужик в наше положение вошел, по-быстрому оторванную подошву починил, и мы еще полдня не могли уйти с ярмарки, уж больно нам понравилось разглядывать разные товары.
Славик, внимательно выслушавший своего земляка, живо поинтересовался:
– Гриша, а не помнишь, сапожника того случайно не дядя Митя звали?
– Сапожника-то? – переспросил Григорий, затем нахмурил лоб, честно напрягая память, и вдруг обрадованно воскликнул: – Он самый и есть! Дядя Митя! Точно!
– Сосед мой по улице, – удовлетворенно заулыбался Славик. – Наши дома прямо впритирку стоят. А жену у него зовут тетя Марфа. Мы у них частенько козье молоко покупали маме. Она на Арженской трикотажной фабрике работала, а там всюду пыль от овечьей шерсти, вот свои легкие и испортила. Кто-то и научил маму пить парное козье молоко. Не знаю, как она теперь там без нас с отцом будет обходиться.
Дальнейший их разговор стал вертеться вокруг общего знакомого дяди Мити, каждый старался припомнить какую-нибудь новую интересную деталь из жизни сапожника, который и знать не знал, что вдруг стал самым родным человеком для двух встретившихся на фронте парней. За разговором они не заметили, что перестал идти дождь, лишь изредка то в одном месте, то в другом с деревьев срывались крупные капли и с чмокающим звуком падали в лужи.
Красноармейцы, все это время прятавшиеся под разлапистыми соснами, стали потихоньку выходить из леса на поляну. Они подходили по одному или мелкими группами, и скоро Григорий со Славиком оказались в плотном кольце товарищей по оружию. Бойцы стояли в терпеливом молчании, словно сговорившись, стараясь ничем не выдать своего присутствия. Они с тихой задумчивостью улыбались, прислушивались к чужому разговору, очевидно завидуя молодому солдатику, которому сильно повезло встретить на фронте земляка, а доведется ли им, еще неизвестно. Время от времени кто-нибудь из них осторожно скручивал цигарку, закуривал и аккуратно пускал дым вверх. Если же сизое облако чуть дольше зависало в безветренном воздухе, курильщик тотчас испуганно разгонял его ладонью, чтобы случайно не прервать разговор в самом интересном месте.
Тем неожиданнее для них было появление лейтенанта Дробышева и капитана Жилкина. Красноармейцы с видимым сожалением стали оборачиваться на приглушенные мужские голоса, внутренне досадуя, что оторвали от прослушивания приятной беседы, которая велась между их боевыми товарищами.
Офицеры приближались торопливыми шагами, что-то жарко обсуждая: Дробышев рубил воздух ребром ладони, а пехотный капитан, соглашаясь, кивал, нервно приглаживая на непокрытой голове потные волосы правой рукой, держа в левой руке каску. Автомат у него болтался на груди. Еще не дойдя до толпившихся бойцов, Жилкин на ходу нахлобучил на голову каску, принялся громко раздавать команды, энергично размахивая короткими руками.
– Взводные, ко мне! Остальные – по отделениям бегом на танки! Сидеть как церковные мыши и ждать команды!
Красноармейцы, шурша мокрыми плащ-палатками, разбрызгивая сапогами грязь, перемешанную с дождевой и талой водой, с хлюпающим топотом побежали к замаскированным ветками танкам.
– Пошел я, – встрепенулся Славик, хоть по лицу было видно, что расставаться ему не очень хотелось. – А то командир ругаться будет.
Они крепко обнялись, уже как родные люди, и Славик побежал догонять товарищей из своего отделения. Шагов через пять он обернулся, помахал рукой, с надрывом крикнув:
– После боя увидимся, Гриша!
Григорий провожал глазами его невысокую, по-мальчишески угловатую фигуру в длинной плащ-палатке, хлеставшей мокрым низом по голенищам сапог, до тех пор, пока она не растворилась в темноте.
– Михайлов! – окликнул, увидев Григория, Дробышев. – Дуй тоже в машину, готовьтесь, через полчаса атакуем неприятеля.
Григорий полез в танк, а сам Дробышев остался и с хмурым видом стал наблюдать, как размещается на броне пехотный десант, прикрепленный к их полку. Григорий забрался внутрь, будить Леньку ему не хотелось, слыша, как он сопит во сне, сладко причмокивая губами. «Вот ведь сурок, – беззлобно подумал Гришка, – дрыхнет, как будто у себя дома. Впрочем, так оно и есть. Танк теперь надолго наш общий дом».
– Бражников, – негромко позвал стрелка-радиста Григорий, тронув его за плечо, – царствие небесное проспишь.
– Я, Гришенька, туда не тороплюсь, – вдруг бодрым голосом ответил Ленька, как будто и не он только что посапывал во сне. – У меня на этот счет собственные планы имеются.
– Вот и возьми тебя за рубль двадцать, – от души захохотал Григорий. – На все у тебя есть верный ответ.
– С кем поведешься, – скромно ответил Ленька, явно намекая на неунывающий характер самого Гришки. – А нам с тобою еще вместе воевать до-о-олго придется, так что привыкай.
Услышав громкий разговор и хохот Гришки, проснулся заряжающий Ведясов. Он прикорнул, неловко примостившись на бугристых снарядах, отчего его упитанное тело затекло до бесчувственности. Бурча под нос что-то нелицеприятное в свой адрес, он полез из башни размяться на свежий воздух, но наверху внезапно был встречен раздраженным окриком Дробышева и юркнул обратно, моментально забыв о своих страданиях.
– Чего это он так на меня взъелся? – не понял Илькут и обиженно запыхтел, как медвежонок, который однажды повстречался им прошлым летом в лесу. Тот тоже недовольно пыхтел, когда его окружили любопытные танкисты, смеясь, потешаясь над неповоротливым мишкой, пока не раздался рев матерой медведицы, и лишь тогда его оставили в покое, предупредительно забравшись от греха подальше на танк.
– Скоро бой, – ответил, посмеиваясь, Григорий. – Так что времени на раскачку у тебя не осталось.
– Это другое дело, – сразу приободрился Илькут. – От такой приятной новости у меня прямо руки зачесались. Сейчас мы зададим немцам жару.
Влез в танк лейтенант Дробышев, занял свое командирское место. Он закрыл за собой люк, но не на защелку. Затем расстегнул брючный ремень, деловито привязал его к защелке, а другой конец раза три обмотал за крюк, державший боезапас на башне. Эту хитрость придумали бывалые фронтовики, чтобы в случае поджога танка успеть его моментально покинуть: ударил головой вверх, ремень соскочил, распахнул люк и выскочил наружу.
У механиков-водителей тоже была своя незамысловатая, но действенная в бою уловка: оставлять люк приоткрытым на ладонь. Тогда и обзор становился лучше, и боевое отделение проветривалось от пороховых газов, которые неминуемо скапливаются внутри. Григорий был наслышан о том, что бывали случаи, когда танкисты в затяжном жарком бою теряли сознание, отравившись угарным газом, особенно заряжающие. Он и сам однажды чуть не брякнулся в обморок, когда все люки были задраены, как положено. Избороздив на своем танке не одну сотню километров фронтовых дорог, побывав в самых горячих сражениях, Григорий теперь считал себя опытным механиком-водителем и охотно перенимал у танковых асов все чудачества, которые могли хоть как-то сохранить жизнеобеспечение танка и его экипаж. Даже подсказал стрелку-радисту, как надо подточить разъем у переговорного устройства, чтобы он свободно выскакивал из гнезда, если вдруг придется срочно покинуть подбитый танк.
* * *Несколько минут, оставшиеся перед боем, тянулись невыносимо долго, казалось, что время вдруг по непонятной причине остановилось. От этого нервы у всех были напряжены до предела, люди только и думали о том, чтобы поскорее поступила команда атаковать неприятеля. Танкисты сидели, не шелохнувшись, с молчаливой сосредоточенностью.
Григорий невольно прислушивался к стуку своего сердца, глухо бившемуся в широкой груди, кровь мощными толчками пульсировала по жилам, отдаваясь в виски. Широкие ладони, крепко охватившие рычаги управления, потели, и он поминутно вытирал их о комбинезон.
Ленька приник к пулемету, слившись с ним в единое целое, как будто целился в невидимого противника, готовый в любую секунду нажать спусковую скобу.
Заряжающий Илькут чему-то про себя улыбался довольно странной улыбкой – одной стороной лица, что было не похоже на него, всегда добродушно настроенного. Да и весь его вид не располагал к приятному разговору.
Вслушивающийся в тишину в наушниках Петр Дробышев сидел, насупившись, весь уйдя в себя, похожий в своем черном обмундировании на галку, которая вот-вот взлетит при малейшем звуке.
Долгий рассвет тоже наступал крошечными порциями. Вначале на востоке забрезжила робкая заря, едва подсветив иссиня-аспидное небо над лесом, потом немного зарозовевшая кайма стала медленно наплывать на лесной массив, отжимая блеклые серые тени, и вот уже по вершинам сосен блеснул первый солнечный лучик, заиграл золотыми искрами в дождевых каплях, похожих на росу.
Когда первый снаряд с пугающим свистом пронесся над головами, будто распарывая небесное полотно надвое, все вздохнули с облегчением: и танковые экипажи, прильнувшие к триплексам, и красноармейцы, неудобно примостившиеся на броне танков.
– Вперед! – хрипло заорал Дробышев, словно не надеясь на ларингофон, вложив в этот крик всю энергию, которая накопилась за последние минуты перед атакой. – Больше ход! – И тут же с мальчишеским азартом, совсем не свойственным его угрюмому характеру, вновь закричал: – Жми, Гришка!
Взрывая гусеницами податливую, напитанную водой землю, танки, выстроившись в боевую линию с интервалом метров двадцать пять, быстро спускались по пологому холму к подножью высоты, имевшей стратегическое значение, которую необходимо было занять в кратчайшие сроки.
Там на высоте уже часто вздымались черные фонтаны, и оранжевый огонь, окутанный серым пеплом и дымом, блестящим лезвием пронзал предутреннюю мглу. Это был самый настоящий ад на земле. Но немцы тоже не молчали и под шквальным огнем советской дальнобойной артиллерии впопыхах огрызались, лупили из пушек в сторону приближавшихся советских танков.
В какой-то момент снаряд разорвался прямо по курсу, почти впритирку перед танком Григория, и он физически ощутил всю его мощь – взрывной волной танк качнуло так, что если бы не стиснутые зубы, он точно бы прикусил себе язык. В лобовую броню ударили крупные оковалки земли, ошметки грязи.
– Врешь, не возьмешь! – с веселым упрямством орал Гришка, ловко лавируя между разрывами. – Мазилы чертовы!
Он хорошо понимал, что открытая пологая местность, по которой сейчас двигались их танки, простреливается вдоль и поперек и спрятаться среди голого склона с редкими кустами мелкого боярышника некуда. Но еще в начале атаки, когда Гришка выехал из укрытия в лесу, он в одно мгновение успел охватить зоркими глазами поле предстоящего боя, запомнить ориентиры, где можно укрыться. А укрыться можно было, только спустившись вниз, где располагалась лощинка и неглубокий овражек, переходящий в балку. Туда он теперь и стремился.
– Осколочный! Без колпачка! – сквозь шипение и звуки разрывов бубнил в шлемофоне хриплый голос лейтенанта Дробышева, и спустя пару секунд донесся ответ заряжающего Ведясова:
– Осколочный! Готов!
И вновь раздался хриплый голос командира, но уже обращенный к механику-водителю:
– Меньше ход!
Григорий сбавил обороты, танк резко замедлил скорость, и тотчас раздался выстрел из пушки. Железная махина дернулась, изрыгая смертоносный подарок в сторону фашистской линии обороны.
– Влево! Недолет! – с сожалением доложил Гришка командиру и прибавил скорость, чтобы не попасть под ответный огонь. Следующий снаряд угодил точно в цель, как детскую игрушку опрокинул орудие вверх колесами, взрывом разметал орудийную прислугу. Гришка видел, как фашистский расчет, поднятый взрывной волной, посеченный осколками вместе с земляными комьями разлетелся в окружности метров на десять. От земли поднялся в закопченное небо черный дым, заволакивая то, что еще могло остаться от этих недочеловеков. Не скрывая охватившей его радости, Гришка доложил в ларингофон ликующим голосом: – Верно! Цель подбита!
Ленька повернул к нему сияющее лицо, показал большой палец.
Солнце поднялось над лесом, но ненамного. Оно еще касалось самых высоких сосен, но воздух уже успел слегка прогреться, в низину змеиным хвостом вполз белесый туман, скрыв от глаз Григория овражек и примеченную им лощинку.
Природа без должного почтения относилась к людским судьбам, дождь и теплые испарения от сырой земли сделали свое черное дело, ни капли не заботясь о том, что исход боя в какой-то мере мог зависеть от нее. Впрочем, и люди так же относились к природе-матушке. Они без меры начиняли землю металлом, бездумно уничтожая взрывами величественные красоты гор, лесов, лугов, огромные пространства первозданной природы, коверкая в своей ненависти друг к другу все то прекрасное, что могло хоть как-то оказать положительное влияние на человеческие души и тем самым положить конец ужасной войне.