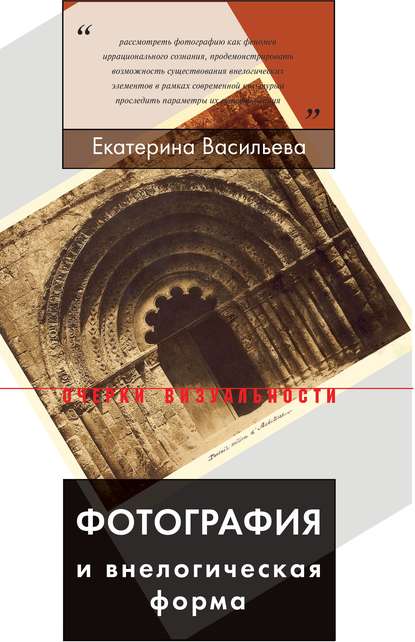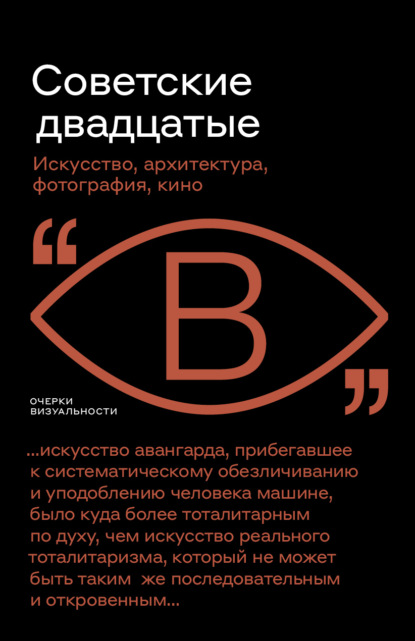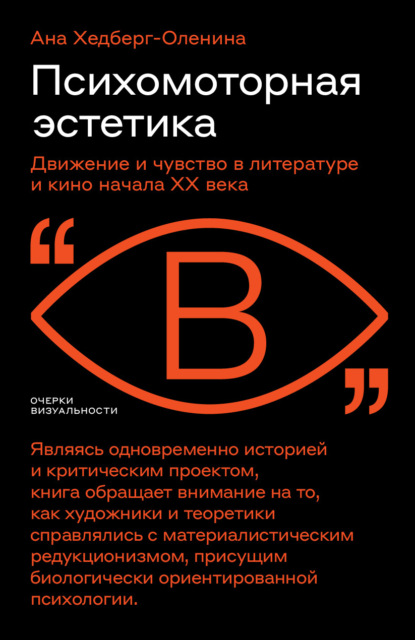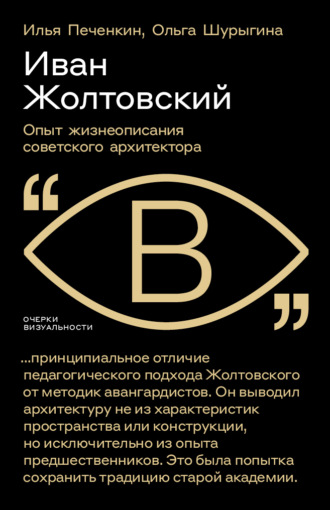
Полная версия
Иван Жолтовский. Опыт жизнеописания советского архитектора
Эта метаморфоза на стадии проектирования дебютной постройки нашего героя стала поворотным моментом всей его творческой биографии. Он решительно отверг соблазны модернизации во имя вечной красоты, воплощенной в старой итальянской архитектуре, и в наибольшей степени – у Андреа Палладио. «Надо было бы быть таким тонким палладианцем, как наш Жолтовский, чтобы раскрыть в каждом здании мастера глубоко обдуманную композицию масс и комбинацию уровней, игру интервалов и расстановку окон, с помощью которой достигается непогрешимое, безупречное, никогда и никем не достигнутое в такой мере, зрительное впечатление единства», – писал П. П. Муратов[46].
В воспоминаниях одной из сотрудниц Жолтовского, работавших с ним в 1940–1950-х годах, приведены его собственные слова: «О Палладио я узнал от Гете. Так несколько ярких, умных страниц великого поэта и мыслителя открыли мне новый мир в искусстве, дали направление всей моей творческой жизни»[47]. За этим признанием проступает удивительная история:
…По окончании Академии Жолтовский путешествовал по Италии. Он ехал в поезде из Милана в Венецию и читал произведение Гете «Путешествия по Италии». Именно благодаря этой книге и великолепным текстам немецкого поэта он вдруг решает изменить свой маршрут и направляется в Виченцу, на родину Палладио[48].
Стоит сказать, что единственным иностранным языком, которым Иван Владиславович овладел еще в реальном училище, был немецкий, так что гетевское Italienische Reise он вполне мог использовать в качестве путеводителя для первой своей поездки на Апеннины. Даты ее можно лишь предполагать, ведь «по окончании Академии» – это очень неточное обстоятельство времени. Согласно официальным документам, Жолтовский был за границей 36 раз – в различных странах Европы. Какая доля пришлась непосредственно на Италию, неизвестно. Однако упомянутый маршрут из Милана в Венецию позволяет считать, что речь могла бы идти о путешествии 1902 года: посетив индустриальные, пульсирующие современной жизнью Турин и Милан, наш герой действительно мог направиться поездом в Венецию как в еще один очевидный туристический пункт северной Италии и порт – например, для отплытия в австро-венгерский тогда Триест. Спонтанный визит в Виченцу и испытанное там потрясение от творений Палладио, как думается, могли бы объяснить кардинальный пересмотр Жолтовским своих творческих устремлений. Он буквально «заболевает» Италией, а вернее – мыслью, что теперь, в начале ХХ столетия, можно и должно строить и украшать так, как это делали титаны Ренессанса.
В следующем году Жолтовский принял участие в конкурсе на проект фасада здания земской управы в Полтаве. Конкурс имел политизированный подтекст, организаторы видели его цель в определении черт украинского национального стиля, каковой и обнаружился в проекте харьковчанина Василя Кричевского. Хотя Жолтовский оказался аутсайдером этого состязания, примечательна характеристика его предложения как решенного в стиле «флорентийских аббатств»[49].
Весной 1903 года он уже спешил в Италию вместе с коллегой по Строгановскому училищу, живописцем Игнатием Нивинским. Из-за его отсутствия в Москве срываются сроки закладки и начала строительных работ дома Скакового общества. «Зрелище огромных стен и потолков, расписанных великими мастерами Ренессанса, – писала вдова Нивинского, – произвели на Игнатия Игнатьевича неизгладимое впечатление во время второй поездки в Италию, и потому, когда Иван Владиславович предложил ему расписать только что выстроенный им Скаковой клуб, Игнатий Игнатьевич с готовностью ухватился за это предложение»[50]. В ходе этой и, по-видимому, следующей (случившейся зимой 1903–1904 годов) итальянских экспедиций внимание Жолтовского и Нивинского было приковано к Палаццо дель Те, возведенному в 1520–1530-х годах за городскими воротами Мантуи учеником Рафаэля Джулио Романо. Заказчик дворца Федерико II Гонзага славился в Европе XVI века как знатный коннозаводчик, и эта слава нашла отражение в убранстве интерьеров (в частности, в Sala dei Cavalli, расписанном изображениями породистых скакунов). Курьезно, что для дома московского Скакового общества пригодились не эти впечатления, а совсем другие: плафон парадного вестибюля Жолтовский с Нивинским решили как парафраз знаменитого потолка Камеры дельи Спози Андреа Мантеньи в мантуанском Палаццо Дукале. Живописные мистерии Джулио Романо возникнут в покоях особняка Г. А. Тарасова на Спиридоновке, другого произведения Жолтовского дореволюционных лет.
Влечение Жолтовского к Италии не исчерпывалось прагматикой творческого поиска, хотя первоначально этот мотив, может быть, и доминировал. Совсем недавно искавший в туринской экспозиции ключ к современному стилю, Жолтовский окончательно и бесповоротно уверовал в спасительность старины. Архитектор Сергей Кожин, близкий сотрудник Жолтовского в межвоенные годы, вспоминал:
Где-то в Италии, у старьевщика, он купил эскизы пером Рафаэля, приобрел один из четырех экземпляров первого оригинального однотомного издания книги Палладио об архитектуре с полями, испещренными собственноручными пометками этого гениального зодчего (остальные три экземпляра находятся в музеях)[51].
Страсть к антиквариату, верная спутница и опора знаточества, быстро стала гранью репутации Ивана Владиславовича. Один из его заказчиков Сергей Павлович Рябушинский в мае 1914 года писал своему брату Николаю: «В последнее время я купил несколько интересных вещей из петровской и екатерининской мебели у старьевщиков в Петербурге. При выборе мне помогает Жолтовский»[52].
В 1900–1910-е годы он не просто был одержим Италией, но щедро делился этой одержимостью в среде коллег и знакомых. «Только что вернулся из Италии Жолтовский, он откопал целый ряд вилл Палладио, никому неизвестных, – сообщал в одном из писем в 1908 году художник и искусствовед Игорь Грабарь. – Чудеса в решете. Я видел фотографии. Ни книжка самого Палладио, ни два тома Скамоцци не дают о них представления»[53]. В азарте Грабарь даже задумал написать монографию о виллах Палладио, для сбора материала к которой намеревался «из Вероны пройти пешком в Виченцу, а отсюда в Падую и из нее в Венецию» с исследовательскими целями[54]. Эти планы остались нереализованными, хотя увлечение палладианством запечатлелось в единственной архитектурной работе Грабаря – здании больницы им. С. Г. Захарьина в Куркине под Москвой (1909–1914).
На профессиональных зодчих энтузиазм Жолтовского также повлиял, в значительной степени определив судьбы отечественной архитектуры. С ним консультировались молодые выпускники Академии, намечая маршруты своих пенсионерских командировок[55]. «Паломничество в город Палладио, начатое Жолтовским, не прошло даром для истории эволюции нового зодчества Петербурга», – констатировал в 1913 году критик Георгий Лукомский[56]. Но главное значение имело это «паломничество» для самого нашего героя, который обрел в Италии своего рода духовную родину и творческое кредо, которому он не изменил до конца жизни.
Глава третья, в которой герой оказывается на сломе эпох
Дорогой товарищ Владимир Ильич.
Горячо рекомендую Вам едва ли не самого выдающегося русского архитектора, приобретшего всероссийское и европейское имя, – гражданина Жолтовского.
Анатолий Луначарский – Владимиру Ленину, 19.VII.1918 г.[57]События революции разделили жизнь Жолтовского почти пополам: в ноябре 1917 года архитектору исполнилось 50 лет. Во второй половине его ожидал необычайный карьерный взлет и признание в неформальном статусе чуть ли не главного советского зодчего, патриарха, отмеченного привилегией возглавить собственную мастерскую-школу. Но для того чтобы оценить глубину метаморфозы, случившейся с нашим героем в первые революционные годы, стоит подробнее остановиться на его деятельности предреволюционных лет.
Громкий успех дебютной постройки – дома Скакового общества – обеспечил Жолтовского небольшим, но вполне респектабельным кругом заказчиков. Антикварного свойства великолепие, с которым были отделаны интерьеры этого здания, вызвало что-то вроде скандала в прессе. Возмущенный демонстративной расточительностью заказчика, известный журналист Владимир Гиляровский писал:
Новый скаковой дом, который вместо ассигнованных десятков тысяч перешагнул далеко за сотню, отделывается с подобающей роскошью. Особенное внимание обращает на себя художественной работы стол заседаний, на котором будут решаться все вопросы спорта[58].
Оборотной стороной этих негодующих инвектив была, разумеется, реклама почти неизвестного еще архитектора, который благодаря исключительной эрудиции, вкусу и регулярным поездкам в Италию способен придать любой, даже камерной постройке убедительное сходство с дворцом или музеем.
Рискнем предположить, что образованные и культурные заказчики способствовали становлению Жолтовского как италофила и палладианца. В пользу этого говорит, в частности, такой эпизод, как строительство им усадьбы Липовка для коммерсанта Альфреда Руперти. Выстроенный в 1906–1907 годах главный дом почти копировал композицию Виллы Бадоэр во Фратта-Полезине, одной из жемчужин наследия Палладио[59]. Альфред Александрович был женат на дочери совладельца товарищества «Вогау и К°» Гуго Марка, являлся заядлым лошадником и автомобилистом, но не только. По свидетельству его дочери М. А. Добровейн, Руперти «часто ездил за границу, главным образом в Италию, любил рыться у старьевщиков»[60]. Как видим, их с Жолтовским интересы совпадали, но идея возвести усадебный дом именно в формах итальянской виллы, по-видимому, принадлежала заказчику, а не архитектору. Само обращение к Жолтовскому со стороны Руперти имело концептуальный смысл. Добровейн пишет, что ее отец решительно пресек мечты супруги об усадебной идиллии в духе старорусских дворянских гнезд, инспирированные соседним домом в Вешках:
Маме хотелось попроще, а папе – побольше и поимпозантнее. ‹…› Очевидно, папа и Жолтовский имели перевес, из простого, без претензий, дома в Вешках получилась грандиозная Липовка, с ее бесчисленными колоннами[61].
После Липовки Жолтовский еще неоднократно работал в этом жанре: московские землевладельцы ощутили вкус к сельской жизни на манер венецианских нобилей, нимало не считаясь с климатическими различиями (тот же Руперти для своей «виллы» привез из Италии лимонные деревья в кадках, которые в холодное время года убирались в отапливаемое помещение). На рубеже 1900–1910-х годов появились дом М. Л. Лосева в Бережках (1910, не сохр.), дом Морозовых в Щурове близ Коломны (1906–1914? осуществлен частично), дом и конюшенный корпус в Лубенькине Сергея Рябушинского (1907?–1912, дом утрачен, конюшни в руинах), неосуществленный проект дома в усадьбе Елизаветы Рябушинской Торбеево (1913).
Из этого небольшого списка видно, что клиентами Ивана Владиславовича становились представители высшего слоя русских капиталистов. Характерен этот приоритет качества над количеством, явный оттенок элитарности, который соответствовал и проповедуемой Жолтовским эстетике. Ежегодник «Архитектурная Москва» в 1911 году писал о нем не без иронии:
Если смешать всех преподавателей латинского и греческого языка в московских классических гимназиях, все равно не получится такого классика, как И. В. Жолтовский. ‹…› Он живет скромно, хотя очень богат, – потому что живет жизнью античного философа. Он построил немного, но то, что он построил, превосходно. ‹…› Многие желали бы иметь Жолтовского своим архитектором. Но он очень дорог. Он умеет ценить себя и свое искусство[62].
Не только профессиональные качества, но и (пожалуй, в первую очередь) внутренний аристократизм, умение держать и подавать себя сделали из Жолтовского «архитектора для миллионеров».
Нелишне сказать и о предпринимательских наклонностях самого Ивана Владиславовича. В 1908 году он выступил соучредителем Московского хозяйственного строительного общества; проект его устава поступил в отдел торговли Министерства торговли и промышленности Российской империи. Компаньоном Жолтовского был гусарский офицер В. Я. Гарденин, человек далекий от архитектуры, но, видимо, обладавший необходимыми для дела капиталами. Судьба этого предприятия, впрочем, туманна; в истории московского строительства тех лет оно не фигурирует.
Вершина дореволюционного творчества Жолтовского – это, несомненно, особняк Гавриила Тарасова на Спиридоновке. Эта работа 1909–1912 годов стала своего рода визитной карточкой архитектора, прочно закрепив за ним славу подражателя Палладио. И даже чуть ли не плагиатора…
Скопирован Palazzo Thiena (ora banca popolare), в Виченце, – писал Г. К. Лукомский в обзоре московских новостей на страницах журнала «Зодчий». – ‹…› Уже теперь видно, насколько сочетается характер описываемого особняка с окружающим его типичным московским пейзажем из разнообразных по стилю подделок – морозовских «готических палат», венского «модерна» дома Рябушинских: новый, как бы подлинный итальянский дворец войдет в эту архитектурную мозаику, как действительно ценное украшение[63].
Действительно, с некоторых ракурсов сходство постройки Жолтовского с вичентийским палаццо ошеломительное. Но нельзя все же не отметить, что, фокусируя внимание на зависимости облика особняка Тарасова от известного итальянского образца, современники и в дальнейшем историки архитектуры старались не замечать важных различий. Во-первых, Палладио удалось лишь частично перестроить Палаццо Тьене, так что Жолтовский для решения целого особняка смог позаимствовать лишь декоративный мотив, развив его на два довольно протяженных фасада – по улице и Большому Патриаршему переулку. Проект Палладио, воспроизведенный в его «Четырех книгах об архитектуре», предполагал совсем иную композицию плана и фасадов, поэтому его Жолтовский не копировал. Особняк Тарасова и Палаццо Тьене – два здания, совершенно разных по габаритам, масштабу и планировочному решению. Даже тот самый декоративный мотив на фасаде, который выглядит на Спиридоновке цитатой из Палладио, в действительности не является повторением. Жолтовский изменил пропорции этажей: верхний он сократил на 1/13 по отношению к нижнему (как в венецианском Дворце дожей), поскольку парадная анфилада в особняке Тарасова располагается внизу.
Во-вторых, самостоятельной художественной ценностью обладают интерьеры особняка. Как и в доме Скакового общества, Жолтовский постарался воспроизвести здесь модель художественного синтеза Высокого Ренессанса. Живописцы И. И. Нивинский и В. П. Трофимов украсили плафоны помещений копиями знаменитых фресок и полотен прошлого, но сами интерьеры не имеют конкретных прямых прототипов. Это – россыпь великолепных цитат. Но не только: плафоны одного из залов парадной анфилады – авторское произведение Евгения Лансере, следующее духу итальянского Возрождения, но не повторяющее какой-либо конкретный образец. Тем не менее Жолтовский, сосредоточивший в своих руках только творческие аспекты работы над особняком как своего рода художественный руководитель (техническая и организационная рутина легла на плечи бывалого гражданского инженера А. Н. Агеенко), достиг в особняке Тарасова полнейшей иллюзии выпадения из времени и пространства. Все, что он будет строить впоследствии, включая номенклатурные жилые дома с прекрасно отделанными «под Ренессанс» вестибюлями, окажется в той или иной степени попыткой приблизиться к эффекту «палаццо на Спиридоновке».
Как уже было отмечено, коллеги по цеху относились к Жолтовскому с уважением и даже пиететом. «…по-моему, это лучший из наших современных архитекторов», – признавался в 1906 году своему брату упомянутый художник Е. Е. Лансере[64]. Более скептически настроенный Александр Бенуа записал в дневнике 5 февраля 1916 года:
Чай пил у Щусева. ‹…› Возвращались пешком с Жолтовским, и еще полчаса он держал меня на морозе перед моими воротами, развивая свои мысли о классике. Не без польского «гениальничания», но все же, как интеллигент, как вкус – это явление совершенно замечательное[65].
К слову, вдохновитель «Мира искусства» даже подбивал собеседника «написать книгу собственных взглядов», но она так никогда и не появилась, хотя легенда о Жолтовском как о создателе некой стройной системы с годами только крепла.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
РГАЛИ. Ф. 2423. Оп. 1. Д. 129. Л. 1а.
2
Габричевский А. Г. Иван Владиславович Жолтовский как теоретик архитектуры (опыт характеристики). М., 1946 // РГАЛИ. Ф. 2774. Оп. 1. Д. 114. Л. 7.
3
Хан-Магомедов С. О. Архитектура советского авангарда: В 2 кн. Книга 1. М.: Стройиздат, 1996. С. 65–67.
4
См.: Айрапетов Ш. А. О принципах архитектурной композиции И. В. Жолтовского. М.: УРСС, 2004. 96 с.; Сукоян Н. П. Иван Владиславович Жолтовский. Творческая биография // Архитектурное наследство. Вып. 46. М.: КомКнига, 2006. С. 307–317.
5
См.: Ощепков Г. Д. Высказывания И. В. Жолтовского о градостроительстве // Проблемы советского градостроительства. Вып. 5: Вопросы планировки и застройки центров городов. М.: Гос. изд-во литературы по строительству и архитектуре, 1955. С. 13–46.
6
[Ощепков Г. Д.] И. В. Жолтовский: проекты и постройки / Вступ. ст. и подбор илл. Г. Д. Ощепкова. М.: Гос. изд-во литературы по строительству и архитектуре, 1955. С. 5.
7
Хан-Магомедов С. О. Иван Жолтовский. М.: С. Э. Гордеев, 2010. С. 27.
8
Фирсова А. В. Творческое наследие И. В. Жолтовского в отечественной архитектуре ХX века: Дис. на соискание уч. ст. канд. искусствоведения: В 2 т. М.: [б. и.], 2004.
9
Хмельницкий Д. С. Иван Жолтовский. Архитектор советского палладианства / При участии А. В. Фирсовой. Берлин: DOM publishers, 2015. 212 с.
10
[Каганович Л. М.] Письма Л. М. Кагановича дочери М. Л. Каганович об архитектурных памятниках Москвы // Каганович Л. М. Памятные записки. М.: Вагриус, 1996. С. 530.
11
Палладио А. Четыре книги об архитектуре / Предисл. И. Е. Печенкина. М.: АСТ, 2021. С. 25.
12
Ныне деревня Бродче в Столинском районе Брестской области Республики Беларусь.
13
Бондарчук Я. Сім’я Жолтовських // Острозькі просвітники XVI – XX ст. Острог: Ун-т «Острозька Академія», 2000. С. 286. Внук Вацлава Жолтовского, Владимир Викторович Тюнин (1915–1977), был художником в Польше, а внук Марии Скирмунт, Юлиуш Новина-Сокольницкий (1920–2009), – одиозным польским политиком-эмигрантом.
14
Российский национальный музей музыки. Ф. 318. Ед. хр. 1034. Л. 5.
15
Восприемниками выступили Адам Семашко с супругой и Цезарий Антоний Олеша с Марией Комарницкой (дальние родственники писателя Ю. К. Олеши). РГИА. Ф. 789. Оп. 11. 1887 г. Д. 115. Л. 6.
16
См.: Жолтовский И. Архитектура нашей эпохи // Советское искусство. 1935. № 57. С. 3–4.
17
Щербатов С. А. Художник в ушедшей России. М.: Согласие, 2000. С. 232.
18
Ильин А. Л., Игнатюк Е. А. Очерки истории культуры Пинщины (IX – начало XX вв.). Пинск: ПолесГУ, 2013. С. 128.
19
РГИА. Ф. 789. Оп. 11. 1887 г. Д. 115. Л. 10. Авторы обращались в Государственный архив Астраханской области с вопросом о наличии соответствующих документов в фонде Астраханского реального училища (Ф. 291) в мае 2017 года, однако интересующей информации в архиве обнаружить не удалось.
20
РГАЛИ. Ф. 2423. Оп. 1. Д. 129. Л. 1.
21
[Березин Т. П.] Историческая записка об Астраханском реальном училище за 25 лет его существования (1877–1902 г.). Казань, 1902. С. 14.
22
Там же.
23
РГАЛИ. Ф. 2423. Оп. 1. Д. 129. Л. 1.
24
РГИА. Ф. 789. Оп. 11. 1887 г. Д. 115. Л. 5.
25
[Кларк И.] Описание метода преподавания рисования в Рижской городской реальной гимназии (записка учителя рисования И. Кларка. Перевод с немецкого) // Конкурсы по рисованию и черчению в средних и низших учебных заведениях, бывшие при Императорской Академии художеств в 1872, 1875, 1878, 1882 и 1883 гг. Оренбург, [1884]. С. 35.
26
РГИА. Ф. 789. Оп. 11. 1887 г. Д. 115. Л. 1.
27
Там же. Л. 12. Согласно § 112 гл. IV действовавшего Устава ИАХ от 1859 года, для поступления в Академию требовалось получить не менее трех баллов по каждому предмету. См.: Кондаков С. Н. Юбилейный справочник Императорской Академии художеств, 1764–1914: В 2 ч. Ч. 1. СПб., 1914. С. 195.
28
РГИА. Ф. 789. Оп. 11. 1887 г. Д. 115. Л. 69.
29
В 1890-х годах Жолтовский «помощничал» таким образом у крупных петербургских архитекторов Н. И. Рошфора и Р. Р. Марфельда, возможно, у А. И. фон Гогена и А. Н. Померанцева. Также он принял участие в возведении объектов Феодосийской железной дороги в Крыму.
30
РГИА. Ф. 789. Оп. 11. 1887 г. Д. 115. Л. 37, 40.
31
В результате реформы, проведенной в 1893 году, Академия получила двухчастную структуру и теперь состояла из Собрания, занимавшегося вопросами художественной жизни в государственном масштабе, и Высшего художественного училища (ВХУ ИАХ). По новому уставу, первые три года обучение на архитектурном отделении проходило в общих классах, после чего ученики распределялись в одну из трех мастерских профессоров-руководителей. Наиболее популярной была мастерская под руководством Л. Н. Бенуа, из которой вышли такие крупные мастера отечественной архитектуры, как А. В. Щусев, В. А. Щуко, И. А. Фомин, Л. В. Руднев, В. Г. Гельфрейх и другие.
32
РГИА. Ф. 789. Оп. 11. 1887 г. Д. 115. Л. 67 об.
33
Рейнберг. Архитектура на выставке Высшего художественного училища Императорской Академии художеств // Неделя строителя. 1898. № 49. С. 295.
34
РГИА. Ф. 789. Оп. 11. 1887 г. Д. 115. Л. 69.
35
Рейнберг. Указ. соч. С. 296.
36
Как свидетельствуют архивные документы, 26 августа 1900 года в Петербурге, в римско-католической церкви Святой Екатерины, тридцатидвухлетний Иван Владиславович Жолтовский обвенчался с двадцатичетырехлетней уроженкой Ораниенбаума, дочерью титулярного советника Амалией Константиновной Смаровской (ЦГИА СПб. Ф. 347. Оп. 1. Д. 93. Л. 295 об., 296; Ф. 1822. Оп. 4. Д. 44. Л. 168; РГАЛИ. Ф. 677. Оп. 1. Д. 3147. Л. 2 об.). Брак удалось расторгнуть лишь 8 февраля 1921 года, после чего Амалия Константиновна вышла замуж за рентгенотехника С. Н. Писарева, оба они пострадали от репрессий в 1935 году: были высланы в Казахстан. См.: ГНИМА им. А. В. Щусева. ОФ-4397; ЦГА СПб. Ф. Р-7965. Оп. 136. Д. 2362. Л. 56 об., 57; Желтовская Алелия (так в базе. – Авт.) Константиновна // Жертвы политического террора в СССР. URL: http://base.memo.ru/person/show/2931099 (дата обращения: 04.08.2022).
37
В начале ХX века С. П. Галензовский активно участвовал в польском национальном движении как популяризатор национальной архитектуры; возглавил кружок архитекторов при Польском обществе любителей изящных искусств в Петербурге, был председателем Польского инженерно-технического общества и т. д.
38
Речь идет о проектах надгробных памятников архитекторам Н. Е. Ефимову и К. А. Тону (оба – 1895, первый осуществлен) в Петербурге и врачу-гомеопату С. Ганеману в Париже (1900).
39
В мае 1901 года правление Санкт-Петербургского общества страхований приняло на себя работу по достройке здания, которое на тот момент было готово наполовину. Имя Жолтовского фигурирует в числе помощников главного строителя инженера П. Н. Казина наряду с П. П. Висневским, С. П. Галензовским, С. С. Шуцманом, В. Ф. Валькотом и другими (РГИА. Ф. 613. Оп. 1. Д. 110. Л. 47). Кроме того, Жолтовским было спроектировано убранство некоторых интерьеров, проектные листы экспонировались на Выставке архитектуры и художественной промышленности нового стиля зимой 1902–1903 годов, а сейчас хранятся в ГНИМА им. А. В. Щусева. Но осуществлены они не были.