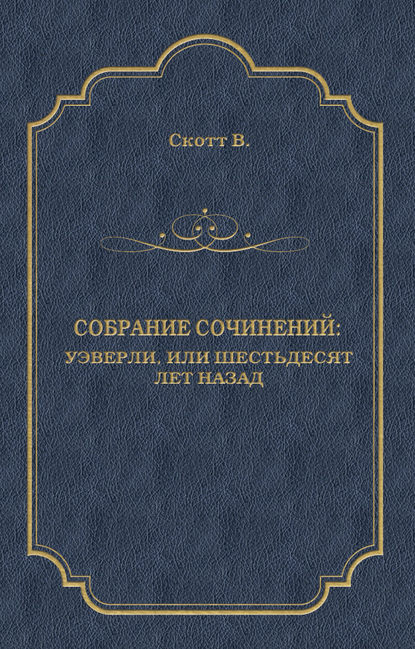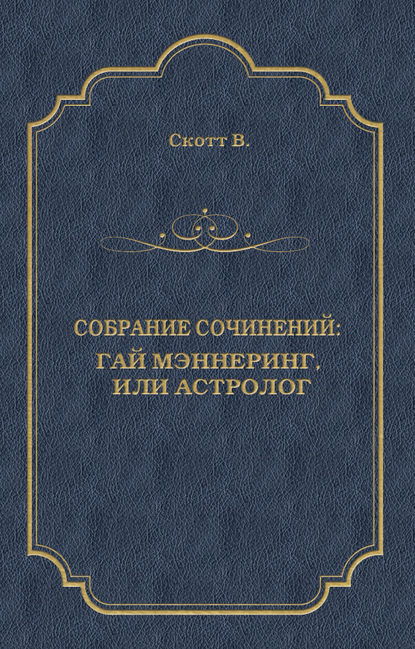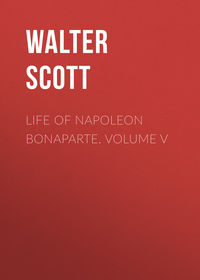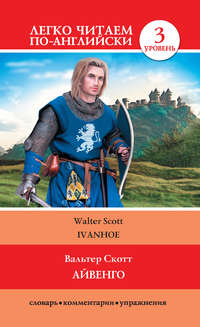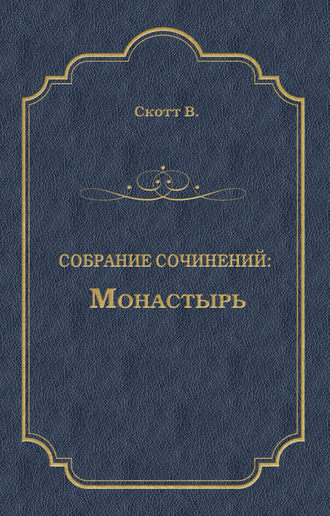
Полная версия
Монастырь
Когда ризничий{90} доложил лорду-аббату{91}, что вдова покойного Уолтера Эвенела, проживающая в башне Глендеарг, очень плоха и жаждет утешения духовника, почтенный настоятель, выслушав просьбу, призадумался.
– Мы хорошо помним Уолтера Эвенела, – произнес он наконец, – он был храбрый и достойный рыцарь; южане отобрали у него земли и убили его… А не может ли его супруга прибыть сюда, к нам, для таинства исповеди? Дорога туда дальняя и трудная.
– Леди Эвенел нездорова, святой отец, – отвечал ризничий, – и не в состоянии вынести путешествие.
– Да, правда… Ну что же… Тогда кто-нибудь из братии должен поехать к ней… Скажи-ка, ты не знаешь, получила она свою вдовью часть из наследства Уолтера Эвенела?
– Сущие пустяки, святой отец, – ответил ризничий. – Она проживает в Глендеарге со времени смерти супруга, почти что из милости у бедной вдовы, по имени Элспет Глендининг.
– А ты, видно, знаком со всеми вдовушками в нашей округе, – заметил аббат. – Хо-хо-хо! – И его полное тело начало сотрясаться от собственного остроумия.
– Хо-хо-хо! – отозвался ризничий, вторя ему в том тоне и созвучии, в каком обычно подчиненный радуется шутке начальника. Затем он присовокупил, неестественно фыркая и хитро подмигивая: – Ведь это наш долг, святой отец, утешать вдов. Хи-хи-хи!
Этот последний взрыв смеха был более сдержан, поскольку от аббата зависело, продолжить или прекратить шутку.
– Хо-хо! – засмеялся аббат. – Ну, довольно шутить. Отец Филипп, облачись для поездки верхом и поезжай исповедовать эту госпожу Эвенел.
– Но… – возразил ризничий.
– Пожалуйста, без «но». Не может быть никаких «но» или «если», когда настоятель говорит с монахом, отец Филипп. Мы должны поддерживать строжайшую дисциплину – без того уже ересь растет, точно снежный ком, – народ хочет исповедоваться у бенедиктинцев и слышать их проповеди, а не иметь дело с нищенствующей монашеской братией, и мы не должны оставлять наш вертоград втуне, хотя возделывать его – тяжкий труд.
– И притом не слишком выгодный для святой обители, – добавил ризничий.
– Твоя правда, отец Филипп. Но разве ты не знаешь, что, препятствуя злу, мы делаем добро? Этот Джулиан Эвенел ведет беспутный и пагубный образ жизни, и, если мы проявим небрежение к нуждам вдовы его брата, он способен разграбить наши земли, а мы не сможем поставить ему это в вину. Притом же это наш долг – проявить внимание к древней фамилии, которая в свое время много пожертвовала на обитель. Скорее же в путь, брат мой. Скачи день и ночь, если понадобится, и пусть люди увидят, сколь ревностны аббат Бонифаций и его верные чада в исполнении своего духовного долга. Да не остановит нас усталость, ибо ущелье тянется на пять миль, да не остановит нас страх, ибо долину, говорят, посещают духи, – ничто не должно отвратить нас от следования нашему благому призванию, к вящему посрамлению клеветников еретиков и укреплению и возвеличению истинных и верных сынов католической церкви. Желал бы я знать, что скажет на это отец Евстафий?
Глубоко взволнованный нарисованной картиной трудов и опасностей, которые предстоит преодолеть, и той славы, которую он в результате приобретет (хотя и передоверив труды и опасности другому лицу), аббат не спеша направился в трапезную доканчивать завтрак, в то время как ризничий без всякой охоты последовал за старым Мартином, возвращавшимся в Глендеарг. Надо заметить, что из всех трудностей на пути труднее всего оказалось сдерживать резвого мула, дабы заставить его шагать вровень с несчастным, измученным Шаграмом.
Пробыв целый час наедине с исповедницей, монах вышел мрачный и задумчивый. Госпожа Элспет, которая приготовила в зале кое-какое угощение для почетного гостя, была поражена его явным смущением. Она взирала на него с тревогой. Ей казалось, что весь его вид говорит скорее о том, что ему пришлось выслушать признание в страшном преступлении, чем напутствовать к будущей жизни грешницу, примирившуюся со всем земным. После долгих колебаний Элспет не смогла удержаться от искушения задать вопрос. Она уверена, сказала она, что миледи удалось без труда облегчить свою душу. Они прожили вместе пять лет, и она по совести может сказать, что не встречала женщины, которая вела бы более примерную жизнь.
– Женщина, – сурово возразил ризничий, – ты говоришь о том, чего не знаешь. Какая польза чистить посуду снаружи, когда внутри она покрыта плесенью ереси?
– Конечно, наши блюда и деревянные тарелки должны были бы быть еще чище, святой отец, – отвечала Элспет, лишь наполовину понимая, что он сказал, и принимаясь вытирать фартуком пыль с посуды, полагая, что он жалуется на ее нечистоту.
– Что вы, госпожа Элспет! – воскликнул монах. – Ваша посуда так чиста, как только могут быть чисты деревянные блюда и оловянные сосуды. Плесень, о которой я говорю, – это та чумная зараза, которая каждый день все более проникает в нашу святую шотландскую церковь, подобно губительному червю, что забирается в розовый венок на челе невесты.
– Мать Пресвятая Богородица! – воскликнула госпожа Элспет, осеняя себя крестным знамением. – Неужто же у меня живет еретичка?
– Нет, Элспет, нет, – отвечал монах, – было бы слишком жестоко с моей стороны высказывать такое мнение об этой несчастной леди, но мне хотелось бы иметь право сказать, что ее совершенно не коснулись еретические взгляды. Увы! Скверна эта носится в воздухе, как моровая язва в полдень, и заражает даже самых лучших, самых чистых овец стада. Ведь нетрудно убедиться, поговорив с этой дамой, что она так же начитанна, как и высокородна.
– Она пишет и читает, мне думается, не хуже вашего преподобия, – сказала Элспет.
– Кому же она пишет и что она читает? – живо откликнулся монах.
– Вообще, – отвечала Элспет, – я не могу сказать, чтобы она при мне когда-нибудь писала, но ее бывшая служанка – теперь она обслуживает всю нашу семью – говорит, что она умеет писать. А что до чтения, так она часто читала нам вслух поучения из толстой черной книги с серебряными застежками.
– Покажите мне эту книгу! – поспешно сказал монах. – Заклинаю вас верностью вашего вассального подчинения… вашей преданностью святой католической церкви… сейчас же… сейчас же покажите ее мне!
Добрая женщина колебалась, встревоженная впечатлением, какое ее слова произвели на духовника. К тому же она полагала, что книга, столь благоговейно изучаемая такой почтенной особой, как леди Эвенел, не могла содержать в себе чего-либо вредного. Однако, побуждаемая окриками, восклицаниями и даже угрозами отца Филиппа, она в конце концов принесла ему роковую книгу.
Это было очень легко сделать, не возбуждая подозрений со стороны владелицы, во-первых, потому, что та в изнеможении после долгой беседы с духовником отдыхала в постели, и, во-вторых, потому, что в ту маленькую комнату в башне, где, наряду с кое-какими ценными вещицами, хранилась и книга, проход был через особую дверь. Сама же леди Эвенел меньше всего думала о сохранности книги; кому и для чего она могла понадобиться в семействе, где никто не знал грамоты и где не бывало ни одного грамотного человека?
Поэтому госпоже Элспет без особых трудов удалось достать книгу, но совесть ее была неспокойна. В глубине души она упрекала себя в неблаговидном и негостеприимном поступке в отношении близкого человека и друга. Перед ней стоял человек, облеченный двойною властью – светской и духовной. Откровенно говоря, она бы все же, при иных условиях, нашла в себе достаточно твердости, чтобы противостоять этому двойному авторитету. Но (к моему огорчению, я должен в этом сознаться) ее отпор был значительно ослаблен любопытством (свойственным всем дочерям Евы) узнать наконец тайну книги, которую леди Эвенел ценила так высоко и в то же время читала так осторожно. Надо сказать, что Элис Эвенел никогда не прочитывала ни единой страницы, не убедившись предварительно, что железная дверь башни накрепко заперта. И даже тогда, судя по отрывкам, которые она читала, она скорее стремилась познакомить своих слушателей с добродетельными поучениями этой книги, чем превращать ее в символ новой веры.
Когда Элспет, то ли с любопытством, то ли с угрызениями совести, вручила книгу монаху, он, перелистав ее, воскликнул:
– Так и есть! Я так и думал! Где мой мул? Скорее оседлайте мне мула. Я здесь больше не могу оставаться. Очень, очень похвально ты поступила, дочь моя, что вручила мне эту опаснейшую книгу.
– Что же в ней, колдовская сила или дьявольщина? – спросила испуганная Элспет.
– Нет, боже избави! – отвечал монах, перекрестившись. – Это Священное Писание, но оно изложено народным языком{92} и посему, согласно указанию святой католической церкви, не может находиться в руках мирян.
– Но ведь Священное Писание указует всем нам путь ко спасению, – возразила Элспет. – Святой отец, просветите мое невежество. Не может же недостаток ума быть смертным грехом, и, право, мне бы очень хотелось прочесть Священное Писание.
– Как вам этого не желать! – ответствовал монах. – Именно так наша прародительница Ева стремилась познать добро и зло, так грех и вошел в мир, а за ним и смерть.
– Истинно так, ваша правда! – согласилась Элспет. – Ох, если бы только миледи во всем поступала по советам апостолов Петра и Павла!
– Если бы она только уважала заветы отца небесного! – продолжал монах. – Ей даны были и рождение, и жизнь, и радость, но с тем, чтобы она не нарушала небесных предначертаний, закрепленных этими дарами. Истинно говорю вам, Элспет: слово убивает. Это значит, что Священное Писание, прочтенное неумелым глазом и неосвященными устами, подобно сильнодействующему лекарству, которое больные должны принимать по предписанию врача. Тогда они поправляются и благоденствуют. Но ежели они начнут пользоваться им по своему собственному разумению, то от собственной руки погибнут.
– Истинно, истинно так! – промолвила сбитая с толку Элспет. – Вам, уж конечно, лучше знать, ваше преподобие!
– Вовсе не мне, – возразил отец Филипп со всем смирением, какое, по его мнению, приличествовало ризничему монастыря Святой Марии, – не мне, а его святейшеству Папе, главе всех христиан, и нашему настоятелю, лорду-аббату святой обители. Я сам, убогий монастырский ризничий, могу лишь повторять то, что я слышал от выше меня стоящих. Но в одном будь уверена, добросердечная женщина, будь совершенно уверена: слово – слово само по себе – убивает. Но церковь располагает проповедниками для толкования слова и распространения его среди благочестивой паствы… Я говорю здесь, возлюбленные братья, то есть я хотел сказать – возлюбленная сестра (ризничий невольно прибег к привычному обращению из конца проповеди), я говорю здесь не столько о протоиереях и иереях и вообще о белом, или мирском, духовенстве (так прозванном, ибо оно живет в мире и по его заветам и свободно от преград, отъединяющих нас от мира); я говорю далее не столько о нищенствующей братии (будь они в черных рясах или в серых, с крестами или без крестов); я говорю здесь о монахах, и в особенности – о монахах-бенедиктинцах, связанных уставом святого Бернарда Клервоского{93} и носящих имя цистерцианцев{94}. Это большое счастье и великая слава для нашей страны, возлюбленные братья, – я хотел сказать – возлюбленная сестра, – что именно монахи обители Святой Марии проповедуют здесь слово Божие. Ибо хотя я сам всего лишь недостойный чернец, но должен заметить, что ни одна обитель в Шотландии не дала столько святых, столько епископов и столько пап (да будет благословенно имя наших великих покровителей!), как наш монастырь. А посему… Но я вижу, Мартин уже оседлал моего мула, и мне теперь остается только проститься с вами братским поцелуем (в коем нет стыда) и отправиться в многотрудный путь, ибо ваша долина пользуется дурной славой по причине обитающих в ней злых духов. Мало того – я могу не попасть засветло к мосту, и тогда мне придется переходить реку вброд, а вода, как я успел заметить, прибывает.
На этом ризничий покинул госпожу Элспет, совершенно сбитую с толку как стремительностью его высказываний, так и содержанием его речей и, кроме того, далеко не спокойную в отношении книги, так как голос совести подсказывал ей, что не следовало сообщать о ней кому бы то ни было без ведома владелицы.
Как ни спешили монах и его мул поскорее добраться до более спокойных мест, чем Глендеарг, как ни горячо было желание отца Филиппа первым доложить настоятелю, что экземпляр опаснейшей книги нашелся тут, поблизости, во владениях аббатства, как ни понуждали его некоторые особые причины проскочить как можно скорее через мрачное ущелье со столь дурной репутацией, все же и плохое состояние дороги, и непривычка к быстрой езде сделали свое дело, так что сумерки наступили прежде, чем он выбрался из узкой долины.
Путешествие было действительно нерадостным. Склоны ущелья подступали друг к другу так близко, что при каждом повороте дороги тень, падая с запада, погружала восточный берег в совершенную тьму; колеблемые ветром ветви и листья частого кустарника как-то зловеще кивали ему. А утесы и скалы теперь, ночью, представлялись монаху и выше и мрачнее, чем были днем, когда он ехал в Глендеарг, и притом не один. Таким образом, отец Филипп ожил душой, когда он наконец выехал из ущелья на широкое пространство поймы реки Твид. Величественные воды этой реки текли то плавно, то бурно, но всегда полноводно и мощно, не в пример иным шотландским рекам. Надо сказать, что Твид даже в засуху течет вровень со своими берегами и почти не дает возможности разрастаться камышу, тогда как заросли его обычно уродуют берега весьма многих прославленных шотландских рек.
Монах, безучастный к красотам природы (в те времена природа не считалась достойной внимания), был все же, подобно предусмотрительному полководцу, весьма обрадован, что выбрался наконец из тесного ущелья, где враг мог застигнуть его врасплох. Он подобрал поводья и перевел мула на привычную плавную иноходь вместо беспокойной и тряской рыси, доставлявшей седоку величайшие неудобства. Затем он вытер пот со лба и принялся спокойно и равнодушно созерцать луну, которая, разгоняя вечерний сумрак, начала подниматься над полями и лесами, деревнями, сторожевыми башнями и над величавыми строениями монастыря, тонувшими вдали в призрачном желтоватом свете.
Главным недостатком этого ландшафта, по мнению монаха, было то, что монастырь находился по ту сторону реки, а прекрасных мостов, ныне перекинутых через ее воды, тогда еще не существовало. Тогда имелся всего лишь один мост, ныне разрушенный; впрочем, любознательный исследователь еще может обнаружить его развалины.
Мост этот имел весьма своеобразный вид. На обоих берегах реки – в самой узкой ее части – были выстроены два мощных каменных устоя. В середине реки, на утесе, торчащем из воды, был построен еще один крепкий упор (вроде мостового быка), углом своим противопоставленный течению и достигавший уровня береговых устоев, а на нем высилась башня.
Нижний этаж ее был занят огромной аркой, или сквозными воротами, ведущими через строение. Ворота с той и другой стороны были прикрыты подъемными мостами с их противовесами. Когда оба моста были спущены, проход через арку соединялся с береговыми устоями (на них падали концы подъемных мостов), и путь через реку был открыт.
Сторож, охранявший мост (он был крепостным одного из соседних баронов), жил со своей семьей во втором и третьем этажах башни. Сама же башня, когда подъемные мосты были сняты, представляла собой крепость посредине реки. Сторожу предоставлено было право взимать небольшую пошлину, или подать, за переход через мост, а так как размер ее не был установлен, между ним и проезжающими иногда возникали пререкания. Нечего и говорить, что в этих спорах сторожу обычно принадлежало последнее слово, так как он при желании мог оставить путешественника на берегу или даже завлечь его на середину моста, а затем запереть в башне, покуда тот с ним не договорится о размере взимаемого мыта.
Но особенно частыми были ссоры сторожа с монахами монастыря Святой Марии. К великому его неудовольствию, святые отцы добивались – и наконец добились – права бесплатного перехода через мост. Однако, когда они захотели распространить эту льготу на многочисленных паломников, посещавших монастырь, сторож взбунтовался и был поддержан своим господином. Распря с обеих сторон разгорелась жестокая. Настоятель монастыря грозил отлучением от церкви. Сторож не мог отплатить ему тем же, но зато задерживал, как бы в чистилище, каждого монаха, которому нужно было перейти через мост. Все это было крайне неудобно и могло стать совершенно нестерпимым, если бы человек на коне в хорошую погоду не имел возможности перебраться через реку вброд.
Стояла дивная лунная ночь, как мы уже упоминали, когда отец Филипп приблизился к этому мосту, своеобразное устройство которого давало любопытное представление о трудностях жизни в те времена. Река не разлилась, но вода держалась выше, чем обычно (местные жители называют такую воду тяжелой), и монаху, конечно, не хотелось пробираться через нее вброд, когда можно было этого избежать.
– Питер, приятель! – громко воззвал ризничий. – Старый друг мой Питер, сделай милость, опусти мост. Эй, Питер, разве ты не слышишь? Отец Филипп тебя кличет!
Питер прекрасно его слышал и вдобавок отлично видел, но так как он считал именно ризничего главным врагом в своих распрях с монахами, то, ничтоже сумняшеся, отправился спать. Однако предварительно через отверстие в бойнице он проследил за тем, что же монах собирается делать, и сказал своей жене:
– Переплыть реку верхом при луне ризничему будет только полезно. Это научит его в следующий раз по-настоящему оценить пользу моста, по которому можно всегда, как зимой, так и летом, в полую воду и в засуху, перейти на ту сторону спокойно и не промокнув.
Накричавшись до хрипоты, умоляя и угрожая (ни на то, ни на другое мостовой Питер, как его звали, не отозвался никак), отец Филипп отправился вниз по реке отыскивать удобное место для переправы. Проклиная мужицкое упорство Питера, он все же принялся утешать себя мыслью, что перейти реку вброд не только безопасно, но даже приятно. Крутые берега и росшие на них местами деревья так живописно отражались гладью темной реки, а окружающая прохлада и тишина составляли такой приятный контраст с его недавним возбуждением, когда он тщетно пытался умилостивить непреклонного мостового стража, что у него даже отлегло от сердца.
Когда отец Филипп подошел к тому месту на берегу, где ему надлежало войти в воду, он вдруг увидел, что под поверженным дубом (или, вернее, под остатками дуба) сидит, и плачет, и ломает руки женщина, устремив пристальный взгляд на реку. Монах был крайне поражен тем, что встретил существо женского пола в таком месте и в такой поздний час. Но он был истым рыцарем в самом высоком значении этого слова (может быть, и более того, но это уж на его совести) в отношении дам.
Внимательно рассмотрев девушку (хотя она сама, казалось, не обращала на него никакого внимания), он был тронут ее отчаянием и готов был сейчас же предложить ей свою помощь.
– Барышня! – сказал он. – Вы, видно, сильно расстроены. Может, с вами случилась та же беда, что и со мной? Вам этот грубиян сторож не разрешил перейти через мост, и это помешало вам исполнить обет или какой-нибудь священный долг?
Девушка произнесла нечто невнятное, посмотрела на реку и затем взглянула в лицо ризничему. И в этот момент отцу Филиппу вдруг пришло в голову, что в обители Святой Марии уже давно дожидаются приезда одного именитого вождя горного клана для поклонения монастырским святыням и что, возможно, эта хорошенькая девушка принадлежит к его семейству, но путешествует одна во исполнение какого-либо обета или отстала от своих из-за какой-либо случайности, а посему будет вполне уместно и благоразумно оказать ей всяческое внимание, в особенности учитывая то, что она, видимо, не говорит на нижнешотландском наречии. Такова была та единственная причина, на которую впоследствии ссылался ризничий в оправдание своей исключительной любезности; если же им руководила и иная, тайная причина, то я еще раз замечу, это дело его совести.
Принужденный объясняться знаками, на языке, понятном всем народам, предупредительный ризничий сначала указал перстом на реку, затем на круп своего мула и, наконец, так грациозно, как только мог, жестом пригласил прекрасную незнакомку занять место на седле позади себя. Она, по-видимому, поняла его, так как встала, чтобы принять его приглашение; но в то время как добрый монах (который, как мы уже упоминали, не был искусным наездником), усиленно работая правым шенкелем и левым поводом, старался пододвинуть мула боком к выступу берега, чтобы даме было удобнее взобраться на седло, незнакомка вдруг, с поистине чудесной легкостью, одним прыжком очутилась на спине животного, непосредственно за его спиной, как весьма умелый ездок. Мул как будто вовсе не был обрадован этой двойной ношей – он прыгал, лягался и непременно скинул бы отца Филиппа через голову, если бы девушка своей сильной рукой не удержала монаха в седле.
Постепенно непокорное животное пришло в себя и переменило тактику: вместо того чтобы стоять, упершись, на месте, оно вдруг, вытянув морду, побежало к броду и со всех ног кинулось в воду. Тут монахом овладел новый страх – брод оказался необыкновенно глубоким, так что вода, журча и вздымаясь по бокам мула все выше, вскоре стала захлестывать животному холку. Отец Филипп совершенно потерял присутствие духа (впрочем, особой выдержкой он никогда и не отличался) и перестал следить за тем, чтобы голова мула была направлена к противоположному берегу. Мул не мог противостоять силе течения, потерял брод и почву под ногами и поплыл вниз по реке. И тут произошло нечто более чем странное: несмотря на чрезвычайную опасность, девушка начала петь, чем еще усугубила ужас достойного ризничего (если это только было возможно):
IПлывем мы весело, блещет луна,Зыбью неясной мерцает волна…Ворон встревоженный каркнул над нами,Мы проплываем как раз под ветвями…Ветви дубовые так широки,Их тени бегут посредине реки.«Кто будит птенцов моих? – ворон грозится. –Мой клюв его кровью с зарей обагрится!Я труп посиневший, распухший люблю,С угрем и со щукой его разделю!»IIПлывем мы весело, блещет луна,За холмом золотая полоска видна.Серебряный ливень летит над ольхою,Плакучие ивы шуршат над рекою…Башни аббатства у самых глаз,Из келий монахи в вечерний часК часовне спешат и дрожат невольно:Не по Филиппе ли звон колокольный?IIIПлывем мы весело, блещет луна,И тенью и светом река полна…Водовороты спят под скалою,Так тихо над темною глубиною.Келпи{95} поднялся из бездны вод,Он факел смерти зажег, и вотСмотри, монах, и смешно тебе станет,Коль злобная харя в лицо тебе глянет!IVСчастливо удить! А кого же ты ждешь?Из слуг кого иль кого из вельмож?Мирянин иль поп в твой челнок садится,Иль к милой дружок на тот берег стремится?Чу! Слышишь, Келпи в ответ говорит:«Спасибо сторожу, мост закрыт!Исчезнут все в глубине бездонной:Поп и мирянин, монах и влюбленный!»Как долго девица могла бы продолжать пение или чем бы окончилось путешествие перепуганного монаха – сказать трудно. Но в тот момент, как она допевала последнюю строфу, они доплыли или, скорее, вплыли в широкую спокойную полосу воды у крепкой мельничной запруды, через которую река низвергалась бурным водопадом.
Благодаря ли сознательным усилиям или увлекаемый силой течения, мул изо всех сил устремился к протоку в плотине, питающему монастырские мельницы, продвигаясь вперед то вплавь, то вброд, качаясь и выматывая из несчастного монаха всю душу. Его одежды от этой качки совсем разошлись, и он, желая их запахнуть, вытащил книгу леди Эвенел, которую хранил за пазухой. Но как только он это сделал, спутница столкнула его с седла в реку, а затем, держа за шиворот, раза два-три еще окунула поглубже в ледяную воду, дабы он промок до костей. Отпустила же она его тогда, когда он оказался настолько близко к берегу, что, сделав небольшое усилие (на большое его бы просто не хватило), смог выкарабкаться на землю. Так именно он и поступил, а когда затем он стал искать глазами свою необычайную спутницу, ее и след простыл; Но над водой, сливаясь с плеском волн, разбивающихся о плотину, все еще неслась ее безумная песня:
Берег! Ура! Чернокнижник спасен!Берег лучом еще не озарен!Тебе повезло, невредим ты добрался,Кто плыл со мною, тот редко спасался.Монахом овладел невыносимый ужас – голова закружилась; шатаясь, он прошел несколько шагов вперед, натолкнулся на стену и упал без чувств.
Глава VI
Итак, совет откроем. В том, что должноНам выполоть церковный вертоградИ плевелы отсеять от пшеницы,Мы все согласны. Но как сделать это,Не повредив ни лозы, ни колосья?Вот в чем задача!«Реформация»Вечерня в монастыре Святой Марии отошла. Аббат разоблачился, сменив свои великолепные ризы на обычное одеяние – черную рясу, которую носил поверх белого подрясника, и узкую наплечную мантию. Одеяние это, скромное и благопристойное, весьма картинно облегало представительную фигуру аббата Бонифация.