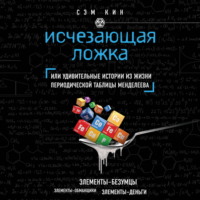Полная версия
Отряд отморозков. Миссия «Алсос» или кто помешал нацистам создать атомную бомбу
Можно было бы подумать, что высокий, хорошо сложенный бейсболист, да еще с талантом к романским языкам, был в Принстоне популярным парнем. Люди действительно восхищались Бергом, но в основном на расстоянии; в университете у него было мало настоящих друзей. Отчасти это была проблема Принстона. Большинство студентов (тогда это был сугубо мужской университет) закончили дорогие частные школы, а некоторые приезжали на занятия на автомобилях с водителем. Бергу же, чтобы платить за обучение 650 долларов, приходилось усердно трудиться, каждое лето работая вожатым в детском лагере в Нью-Гэмпшире и доставляя рождественские посылки во время зимних каникул. Усвоенные им недешевые привычки – элегантные пиджаки, ароматическое масло для волос – никого не могли ввести в заблуждение. Еврейское происхождение тоже не помогало. Во время его учебы на последнем курсе капитаном бейсбольной команды выбрали кого-то более подходящего (читай: белого протестанта англосаксонского происхождения), что, конечно, уязвило Берга. А когда настало время вступать в один из «обеденных клубов» (принстонский вариант студенческого братства), его кандидатура прошла, но с условием, что он не будет наглеть и призывать голосовать за других евреев. Оскорбленный Берг отказался от членства.
Но в изоляции был повинен не только Принстон. Характерной чертой Берга, определившей весь его жизненный путь, была скрытность. Он был хорош собой и остроумен. Мужчины восхищались его эрудицией и спортивным мастерством. Женщины млели, когда он нашептывал им что-нибудь по-французски или по-итальянски. Но он никогда не ходил на вечеринки, никого не приглашал в гости и вообще не подпускал к себе. Он был неисправимым одиночкой, постоянно отталкивал людей и играл в загадочность.

Два клуба, New York Giants и Brooklyn Robins (позднее – Brooklyn Dodgers), в 1923 г. пытались переманить Берга из Princeton Tigers, отчасти потому, что посещаемость их матчей падала и они полагали, что звезда еврейского происхождения придаст их популярности новый импульс. Но Берг колебался: в том году он очень хотел поступить в магистратуру Сорбонны в Париже. В итоге он все-таки подписал контракт, полагая, что сможет учиться в Сорбонне в межсезонье (как это водится у бейсболистов, разумеется). Из двух клубов Robins показывал худшие результаты, а это означало, что Берг мог попасть в основной состав немедленно. Так что, к вящему стыду отца, летом он подписал контракт на 5000 долларов (71 000 долларов в современном эквиваленте). Несколько дней спустя в Филадельфии, в своей первой же игре, он в качестве бэттера совершил удачный удар и перебежку.
По-видимому, это стало самым ярким событием в его дебютном сезоне. Хоть он и был неплохим полевым игроком с накачанными мышцами, молодость и своенравие, а также множество ошибок не позволяли ему проводить на поле все игровое время. Хуже того, ему никак не удавалось приспособиться к подачам питчеров Главной лиги. Пусть он и редко выбывал из игры, получив три страйка, но отбивал мяч он не очень сильно, а после этого слишком медленно двигался; однажды тренер даже бросил, что Берг как будто обегает базы в снегоступах. Его результативность в 49 играх составила всего 0,186, и один агент охарактеризовал перспективы Берга шестью словами: «Хорош в поле, плох в хитах».
Вместо того чтобы отрабатывать хиты, зимой Берг уехал в Сорбонну. Обучение было дешевым (1,95 доллара за курс, 28 долларов сегодняшними деньгами), поэтому он записался аж на 22 предмета, включая французский, итальянский, средневековую латынь и «Комизм в драме». Особенно ему нравилось отслеживать «бастардизацию» латыни по мере ее распространения по Европе. («Чем дальше легионы Цезаря уходили от Рима, тем больше чистая латынь разбавлялась словами и идиомами из языков народов, которые они старались покорить», – объяснял он позднее.) Студентом Берг был весьма бесцеремонным. Перед одним из курсов по истории Европы, который охватывал напряженные десятилетия перед Первой мировой войной, он заявил: «Если подача будет слишком односторонней, я велю профессору засунуть свой курс себе в…» Но в целом занятия целиком оправдали его ожидания. В письме домой он заявил, что за некоторые отдельные лекции заплатил бы и 5 долларов, настолько они были хороши: «Я тут получаю столько пользы, что должен бы пожертвовать средства на учреждение в Сорбонне новой кафедры».
Во время учебы в Париже Берг также на всю жизнь приобрел привычку читать по несколько газет в день, часто на разных языках. Пожитков у него было немного, но к газетам он относился с особым трепетом. Он стопками приносил их в свою комнату и читал сначала несколько заметок из одной, а потом несколько из другой. Затем согласно какой-то только ему ведомой системе хранения он раскладывал их на стульях, комодах, в ванной, даже на кровати, намереваясь вернуться к ним позднее. Он называл эти недочитанные издания «живыми» газетами, и горе любому, кто осмеливался прикоснуться к ним. Берг взрывался от ярости, бросал оскверненные экземпляры в корзину и бежал покупать «чистую» газету, невзирая на позднее время или ненастную погоду. Лишь когда газета была прочитана и объявлена «мертвой», окружающим дозволялось дотронуться до нее. Никто не мог понять, почему он так расстраивался, – это было одним из аспектов «тайны Мо Берга».
К несчастью для своей бейсбольной карьеры, в Париже Берг не ограничивал себя не только в газетах; он в полной мере воздал должное местной кухне. Обычно день начинался с шоколада и круассанов с маслом на завтрак, а заканчивался плотным ужином в ресторане за 50 центов. Напитки искушали Берга не меньше. В одном из писем домой он заявил: «Я, вероятно, больше не буду пить воду. Вино очень укрепляет». Он не занимался физическими упражнениями (исключение составляли пешие прогулки) и набрал той зимой не менее 4,5 кг. В результате в марте он явился на весенние сборы в ужасной форме и был переведен в низшую профессиональную лигу.
Так началось его тоскливое прозябание в командах низшей лиги: из Minneapolis Millers в Toledo Mud Hens, а оттуда – в Reading Keystones. (Понижение в статусе, надо думать, еще больше рассердило его отца.) Но за второй сезон в этом чистилище Берг собрал 200 хитов и 124 очка, заработанные командой после удара бэттера, так что в 1926 г. Chicago White Sox перекупили его за 50 000 долларов (сегодня это 700 000 долларов). Это был гигантский контракт; не желая упустить и этот шанс, Берг работал на совесть и в следующие несколько лет показывал лучший бейсбол в своей жизни.
Этим Берг был отчасти обязан переходу на более подходящую ему позицию. На протяжении многих лет он рассказывал разные версии этой истории, но в августе 1927 г. основной кетчер Chicago White Sox получил травму в результате столкновения. Вскоре, когда команда в один день проводила две игры, его дублер сломал палец. Затем дублер дублера, последний кетчер в составе, получил сотрясение мозга при столкновении в Бостоне. Тренер просто взвыл: что, черт возьми, нам теперь делать? Берг, сидевший на скамейке, очевидно, показал большим пальцем в сторону товарища по команде, упитанного бейсмена, игравшего как кетчер в юниорской лиге. «Вот тут у нас кетчер», – сказал Берг. Но тренер стоял к ним спиной и не заметил жеста Берга, зато услышал его голос и решил, что он вызвался добровольцем или просто решил изобразить самого умного. Он повернулся и осмотрел шорт-стопа с головы до пят.
– Ты когда-нибудь был кетчером?
– В старших классах, в школьной команде.
– Почему ушел?
– Один мужик сказал, что я никуда не гожусь.
– Что за мужик?
– Мой тренер.
– Ну иди сюда, посмотрим, знал ли он, о чем говорит.
Берг ответил «есть» и начал надевать снаряжение кетчера. «Если случится худшее, – объявил он скамейке запасных, – будьте добры, отправьте мое тело в Ньюарк».
Chicago White Sox проиграли, но Берг показал себя неплохо. Той ночью, пока товарищи по команде пьянствовали, он участвовал в протестах против казни Сакко и Ванцетти в Центральном парке Бостона. А когда на следующий день Chicago White Sox отправились в Нью-Йорк на игру с наводящими ужас New York Yankees, тренер определил его на стартовую позицию кетчера. Когда уже легендарный к тому времени Бейб Рут вошел в качестве бэттера в «дом», он ухмыльнулся и сказал: «Мо, быть тебе четвертым покалеченным кетчером к пятому иннингу[3]». Мо ответил, что они с питчером[4] забросают Рута «и мы сможем составить друг другу компанию в больнице». Оба засмеялись. Но кетчер смеялся последним: Берг так управлял бросками питчеров, что итогом стали два страйкаута самому Бэйбу Руту, который ни разу не смог выбить мяч за пределы инфилда. Примерно так же Берг разобрался и с остальными бэттерами. Решающим стал шестой иннинг, в котором Берг уже в нападении внес вклад в итоговую победу Chicago White Sox со счетом 6: 3.
Тем не менее тренер Берга не вполне доверял новоявленному кетчеру и продолжал сновать по Восточному побережью в поисках игроков низших лиг и полупрофессионалов. История должна быть благодарна ему за то, что он никого не нашел, потому что, освоившись, Берг стал одним из лучших кетчеров в Главной лиге. Соперники быстро усвоили, что не стоит тестировать его руку, пытаясь красть базы; с учетом его опыта игры шорт-стопом он почти не пропускал мячи; однажды он установил рекорд лиги, отыграв без ошибок 117 игр. Причем работал он не только руками и ногами, но и мозгами: Берг составил каталог слабостей каждого бэттера и легко угадывал их намерения; питчеры же редко отменяли заказанные им броски. Даже его очевидная слабая сторона – недостаток скорости – теперь не была проблемой: кетчеры должны двигаться неспешно. В 1929 г., в лучшем сезоне Берга, его результативность составила 0,287 в 107 играх; он сделал 101 хит и даже получил несколько голосов как претендент на звание самого ценного игрока Главной лиги.
Как ни удивительно, но всего этого Берг добился, посещая в межсезонье школу права Колумбийского университета. Когда в октябре по окончании чемпионата остальные игроки отправлялись домой в Алабаму или Техас, чтобы бить баклуши, Берг перебирался на Манхэттен и, приступая к занятиям с опозданием в три недели, что есть силы осваивал курсы по составлению контрактов и финансовому праву. «Я работал как вол, всегда думая о феврале и юге», – признавался он позднее, имея в виду весенние сборы. Товарищи по команде относили это к его чудачествам, а спортивные обозреватели находили забавным. Владельцев Chicago White Sox это, наоборот, расстраивало, поскольку из-за учебы он часто пропускал весенние сборы в Шривпорте. Но Берг настаивал на своем, возможно, из-за отца. Даже когда сын почти дорос до звания самого ценного игрока лиги, Бернард отказывался посещать его матчи. Всякий раз, когда кто-нибудь упоминал в его аптеке о знаменитом кетчере, он отворачивался и сплевывал. «Спорт», – фыркал он. Юриспруденция была куда более респектабельным занятием.
Сдав однажды весной в Нью-Йорке экзамен на адвоката (длинный список вопросов, на которые надо было дать развернутые ответы) и отправившись в Чикаго играть очередной сезон, Берг каждый день просматривал в библиотеке The New York Times, чтобы узнать результаты. Наконец он увидел свое имя среди 600 прошедших квалификацию из 1600 соискателей. «Бедные недотепы, которых завалили, – с некоторым злорадством ликовал он. – Никогда в жизни я не был так счастлив». Он позвонил Бернарду, чтобы сообщить о своем успехе.
Папаша был краток: «Не стоило звонить по межгороду. Я читаю газеты» – и повесил трубку.

Через полгода после своего лучшего сезона в Главной лиге Берг получил тяжелую травму. В апреле 1930 г. во время показательной игры в Литл-Роке он нырнул на первую базу в попытке выбить пытавшегося занять ее раннера. Его шипы застряли в грязи, он порвал связку на правом колене, и ему потребовалась операция в клинике Мэйо. Берг пропустил несколько месяцев и попытался вернуться, когда еще не восстановился как следует. В середине сезона он заболел воспалением легких, что еще больше ослабило его. Суммарно травма и болезнь вычеркнули его из бейсбола на два года; он сыграл лишь 20 матчей за Чикаго и 10 (после того как команда от него отказалась) – за Кливленд. Его будущее в большом спорте выглядело сомнительным, поэтому в межсезонье, чтобы подзаработать, он начал заниматься юридической практикой на Уолл-стрит. И возненавидел это занятие.
В 1932 г., после двух лет реабилитации, Берг достаточно оправился, чтобы подписать контракт с Washington Senators. Однако ноги у него были уже не те. У него хуже получалось делать хиты; он стал еще медлительнее, оказываясь помехой при перебежках между базами; и со своим коленом он просто не мог долго сидеть на корточках. Поэтому в Washington Senators его понизили, сделав кетчером в «питомнике» для разминающихся питчеров. На звание самого ценного игрока Берг больше никогда не претендовал.
Но, как ни удивительно, травма колена оказалась лучшим, что случилось в его карьере. Сколь бы странным ни было утверждение, будто кто-то родился «кетчером для разминки», но именно таковым оказался Мо Берг. Благодаря своему интеллектуальному подходу к игре он стал идеальным наставником для начинающих питчеров, а неспешный ритм «питомника» идеально ему подходил. Не было больше утомительных тренировок и напряженных матчей, зато он мог удобно расположиться в командном клубе и листать «живые» газеты. (Поклонники даже доставляли ему издания на иностранных языках.) Теперь у него было время для бесед со спортивными обозревателями, которые находили Берга неотразимым – забавным, общительным, остроумным; его можно было цитировать бесконечно. Пресса безудержно льстила ему, но почему бы и нет? Крупный, несколько неуклюжий, со сросшимися бровями, кетчер из Ньюарка, который учился в Принстоне и Сорбонне и говорил на 17 языках. Редкостная удача для журналиста.
Большинство публикаций о «профессоре Берге» отмечали его эксцентричность: он мог читать иероглифы и декламировать на память стихи Эдгара Алана По; он заказывал на обед яблочное пюре вместо стейков или бутербродов; он скупал словари, чтобы «удостовериться в их полноте»; он возил с собой восемь одинаковых черных костюмов и больше ничего не носил; однажды, во время двойного матча в Детройте, он штудировал в «питомнике» для питчеров книгу о неевклидовом пространстве-времени, а будучи в Принстоне, нанес визит Альберту Эйнштейну, чтобы поподробнее обсудить этот вопрос. (Один репортер окрестил его с тех пор «Эйнштейном в бейсбольных бриджах».)
В общем, Берг оказывался на полосах газет чаще, чем любой запасной игрок в истории бейсбола, что далеко не всегда нравилось его более одаренным товарищам. Однажды некий журналист спросил одного из них, действительно ли Берг может говорить на стольких языках. Тот, видимо, так часто слышал этот вопрос, что выдал, вероятно, один из самых язвительных комментариев в истории бейсбола: «Ну да, зато ни на одном из них он не может попасть по мячу».
Берг частенько строил недовольную мину при виде репортеров, но втайне наслаждался вниманием прессы, отчасти потому, что это приносило ему определенные выгоды. Например, он стал одним из трех игроков Главной лиги, отобранных для посещения Японии в 1932 г., чтобы провести серию благотворительных занятий по бейсболу. Там он обучал японскую молодежь тонкостям игры: как защищаться, как отбивать мяч в землю с низкой подачи, как защите вывести в аут двух игроков соперника и т. п. Японцы обожали Берга и считали его смуглую кожу и сросшиеся брови весьма экзотичными. Берг же впоследствии называл Японию «раем для арбитров», потому что игроки там относились к ним очень вежливо.
Поездка в Азию сподвигла Берга продолжить путешествие, и, когда его коллеги-бейсболисты отбыли домой, он отправился дальше, побывав в Корее, Китае, Вьетнаме, Камбодже, Сиаме, Бирме, Индии, Ираке, Саудовской Аравии, Сирии, Палестине, Египте, на Крите, в Греции, Югославии, Венгрии, Австрии, Голландии, Франции и Англии. Разумеется, он опять вернулся к весенним сборам не в форме, но на сей раз это никого не волновало, так как он привез неиссякаемый запас баек, которыми можно было потчевать товарищей по команде и репортеров.
Однако один этап поездки вызвал у него беспокойство. Прибыв в Берлин в конце января 1933 г., он, как обычно, сразу накупил газет. Все заголовки кричали об одном: в Германии избран новый канцлер, 43-летний радикал по имени Адольф Гитлер. Затем Берг провел целый день, наблюдая на улицах толпы ликующих нацистов. Вернувшись домой, он твердил любому, кто был готов его слушать, что Европу ждет беда.
Глава 2
Обидные промахи и большие победы
Ирен Кюри хотела бы, чтобы с каждым разом боли и унижения становилось меньше. Но когда ее снова и снова опережали на пути к важному научному открытию, это вызывало все те же муки.
Ирен была дочерью выдающихся физиков Марии и Пьера Кюри. Она родилась в 1897 г., в один из самых плодотворных периодов деятельности своих родителей, и ей нередко приходилось соперничать с наукой в борьбе за их внимание. Это было непросто для застенчивой, нелюдимой девочки, которая порой вообще пряталась за дверью, лишь бы не общаться с гостями. (Она с ужасом вспоминала, как когда в 1903 г. ее родители получили Нобелевскую премию за работы по радиоактивности, толпа фотографов штурмовала их дом.) Положение усугубляло то, что Мария, несмотря на свои многочисленные достоинства, отнюдь не была любящей матерью. Полька по происхождению, Мария в семилетнем возрасте лишилась матери и не была склонна к проявлению чувств. Ирен и ее младшую сестру в основном воспитывал дедушка по отцовской линии, и, даже если девочки требовали внимания матери, цепляясь за ее юбку по вечерам, когда она наконец возвращалась из лаборатории, она редко обнимала их или вообще прикасалась к ним.
Мария стала еще более отчужденной после семейной трагедии. В апреле 1906 г., играя как-то в доме подруги, Ирен вдруг услышала, что ей придется остаться там на несколько дней. Никто не объяснил почему. Наконец поздно вечером зашла Мария и туманно заметила, что Пьер разбил голову. «Его не будет некоторое время», – сказала мать, но Ирен ничего не поняла. Вскоре приехали жившие в Польше брат и сестры Марии, а также брат Пьера, что еще больше озадачило девочку. Как выяснилось, конный экипаж насмерть сбил ее отца, о чем ей никто не сказал до самых похорон. Другие семьи смерть, возможно, сближала, но Мария пыталась справиться со своим горем, еще больше отдаваясь работе, и в течение многих лет после гибели Пьера даже не произносила вслух его имени.
Подростковый период оказался для Ирен не менее сложным. Когда ей исполнилось 12 лет, Мария записала ее в независимую школу, где сама по четвергам преподавала математику и естественные науки. Около десятка учеников осваивали там скульптуру и китайский язык, а также занимались разными видами спорта. (Мария отнюдь не была только лишь интеллектуалом; она твердо верила в физическое воспитание: Кюри плавали и ходили в походы, на заднем дворе у них висела трапеция.) Школа казалась идиллией, духовно раскрепощенной альтернативой затхлой атмосфере французской системы образования, но Мария предъявляла к дочери строгие требования. Однажды она увидела, как Ирен грезит о чем-то, вместо того чтобы искать решение математической задачи. Когда девочка призналась, что не знает ответа, Мария рявкнула: «Как можно быть такой дурой?» – и вышвырнула ее тетрадь в окно. Ирен пришлось спуститься на два лестничных пролета, чтобы найти тетрадь, попутно решая задачу в уме.
Особенно тяжелыми для семьи Кюри оказались 1910 и 1911 годы. Сначала умер любимый дедушка Ирен. Затем во французских таблоидах разразился скандал с участием Марии. Она завела роман с женатым мужчиной, физиком Полем Ланжевеном, и одна газета опубликовала выдержки из их любовной переписки. («Знание о том, что вы с ней [женой], превращает мои ночи в кошмар, я не могу спать», – писала Мария.) Жена Ланжевена как-то на улице пригрозила убить Марию, а сам он вызвал издателя газеты на дуэль. По мере того как положение усугублялось, и Мария, и Ланжевен подвергались оскорблениям, но она, как женщина, страдала больше. Толпа швыряла камни в ее окна и кричала: «Убирайся в Польшу!» Вдобавок, когда несколько недель спустя Мария неожиданно получила вторую Нобелевскую премию, Шведская академия попросила ее не присутствовать на церемонии, чтобы избавить короля от неприятной необходимости пожимать руку распутной женщине. Бросив всем вызов, Мария все-таки явилась на награждение, но так сильно переживала скандал, что даже задумывалась о самоубийстве. Не имея сил сосредоточиться на исследованиях, не говоря уже о воспитании детей, она отправила Ирен с сестрой к родственникам.
Только потрясения Первой мировой войны помогли наладить крепкие отношения между матерью и дочерью. В августе 1914 г. Ирен с сестрой отдыхали в Л'Аркуэсте, рыбацком поселке на севере Франции, который иногда называли «Порт-Наука» за его популярность среди ученых. Мария собиралась приехать к ним через несколько недель. Но едва началась война, она отказалась от этих планов и полностью сосредоточилась на своем драгоценном грамме радия. Для получения этой крупинки радиоактивного элемента с атомным номером 88 ей потребовалось несколько лет изнурительного труда в сарае, где она обработала в котле восемь тонн минеральной руды. Этот грамм была основой всех ее исследований и, откровенно говоря, самой дорогой для нее вещью в мире. Поэтому, вместо того чтобы поехать в Л'Аркуэст к дочерям, Мария ринулась в Бордо, на юго-запад Франции, чтобы спрятать радий от наступавших немцев. Она везла его в защитном свинцовом футляре, который весил почти 60 кг – примерно в 60 000 раз больше, чем спрятанный в нем радий.
В конце концов положение во Франции стабилизировалось настолько, что дочери Кюри вернулись в Париж. Здесь Ирен наконец-то удалось завоевать уважение матери. Опираясь на свои научные знания, Мария оборудовала рядом с линией фронта рентгенографические станции, чтобы помогать хирургам обнаруживать осколки в телах солдат; она также организовала систему передвижных рентгеновских пунктов, которые в армии прозвали «маленькими Кюри». Ирен настояла на том, чтобы участвовать в этой работе в качестве добровольца, и проявила при этом такие способности, что в 19 лет уже заведовала одной из полевых установок в Бельгии. Она работала настолько близко к окопам, что постоянно слышала грохот пушек; несмотря на риск для собственного здоровья (оборудование было, мягко говоря, плохо экранировано), она обследовала тысячи солдат и даже сама ремонтировала выходившие из строя рентгеновские аппараты. Она сопровождала Марию в нескольких изнурительных поездках на фронт в фургонах с «маленькими Кюри». «Часто мы вообще не были уверены, что сможем двигаться дальше, не говоря уже о том, чтобы найти жилье и еду», – вспоминала впоследствии Мария. Но испытания сблизили их, и к концу войны Мария убедилась, насколько независимым и твердым характером обладает ее дочь.
Невероятно, но в перерывах между поездками на фронт Ирен нашла время, чтобы получить диплом физика в Сорбонне. По окончании войны она начала работать в институте Марии в качестве аспиранта и ассистента-исследователя. (В то время более половины научных сотрудников института составляли женщины, потому что Мария ставила перед собой задачу поддерживать женщин в науке, а многие молодые люди погибли на фронте.) Ирен расцвела в этой атмосфере, и к началу 1920-х гг. уже обладала достаточным авторитетом, чтобы принять под свое начало ассистента – и вместе с ним впервые в жизни бросить вызов собственной матери.

Фредерик Жолио не мог поверить такой удаче. После окончания войны он пополнил ряды неустроенных молодых ученых, тщетно пытаясь найти работу, поскольку, с точки зрения парижских снобов, учился в «неправильных» местах. Поэтому, подавая заявление на работу в институт Марии Кюри, он не питал особых надежд. Однако Мария, сама из разряда «неправильных», решила дать шанс этому высокому худому юнцу с носом, похожим на акулий плавник. (Не последнюю роль сыграло и то, что ее бывший любовник, Ланжевен, настоятельно рекомендовал Жолио.) Предложение о работе ошеломило Жолио: в детстве он вырезал фотографии Кюри из журналов и по-прежнему преклонялся перед ней. Он с радостью согласился. Затем Мария познакомила Жолио с его новым начальником – Ирен.
Молодые люди составили удачный тандем: Ирен в основном занималась химией, а Жолио – физикой. Мария одобряла это партнерство, поскольку оно напоминало разделение труда, которое оказалось столь успешным для нее и ее покойного мужа. Что она не одобряла – и от чего даже пришла в оторопь, когда узнала, – так это романтических отношений между Фредериком и зеленоглазой Ирен, за которой он начал ухаживать за спиной Марии.