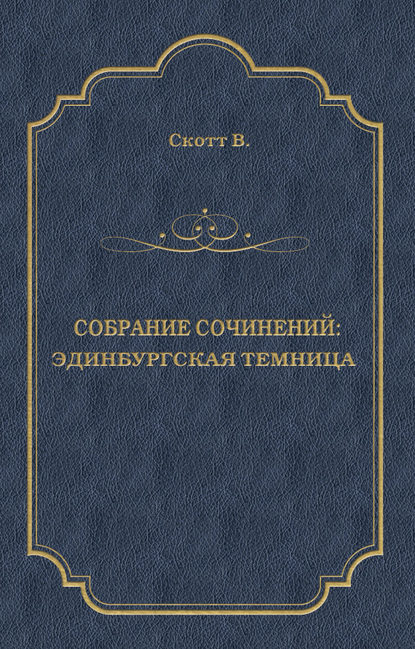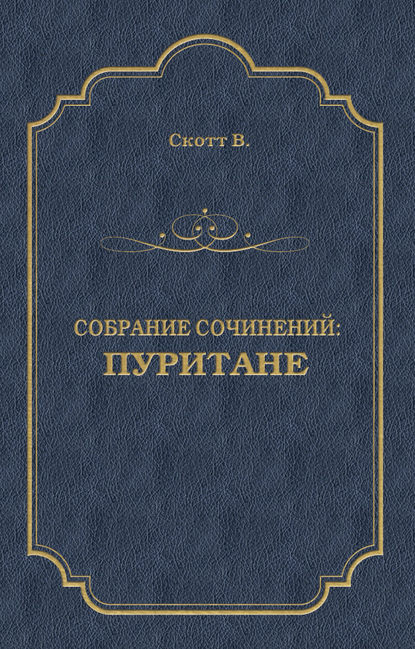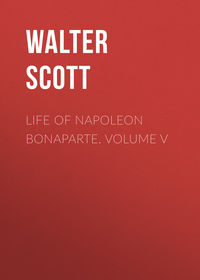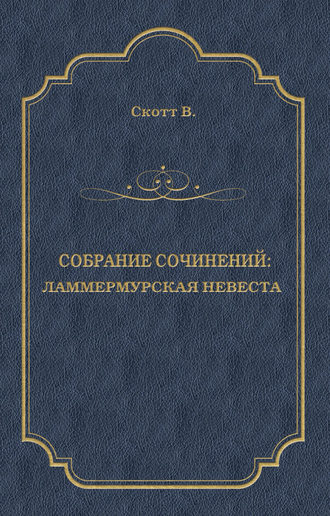
Полная версия
Ламмермурская невеста
Люси отворила калитку маленького сада и, обращаясь к старухе, сказала:
– Мой отец пришел проведать вас, Элис.
– Милости просим, мисс Эштон, милости просим и его и вас также, – ответила Элис, поворачиваясь к гостям и кланяясь.
– Славное утро для ваших пчел, матушка, – сказал лорд-хранитель, пораженный наружностью этой женщины и желая удостовериться, соответствует ли речь слепой ее внешности.
– Кажется, так, милорд. Воздух, чувствую я, теплее, чем в последние дни.
– Неужели вы сами занимаетесь пчелами, матушка? Как вы управляете ими?
– Как короли управляют своими подданными: через доверенных лиц. Мне повезло с моим премьер-министром. Эй, Бейби!
С этими словами Элис поднесла к губам серебряный свисток, висевший у нее на шее, – тогда часто пользовались свистком, чтобы позвать слугу, – и из дома выбежала девочка лет пятнадцати, одетая чище, чем можно было ожидать, хотя, надо полагать, если бы Элис могла видеть, что делается вокруг, ее маленькая служанка имела бы еще более опрятный вид.
– Бейби, – сказала слепая, – подай милорду и мисс Эштон хлеба и меду. Они простят твою неловкость, если ты постараешься сделать все быстро и аккуратно.
Бейби исполнила приказание хозяйки со всем проворством, на какое была способна; она засуетилась, но, как у рака, ноги ее двигались в одну сторону, а голова была обращена в противоположную, так как она не сводила глаз с милорда, которого его подчиненные видели очень редко, хотя часто слышали о нем. Хлеб и мед были поданы на листе латука, и гости из приличия отведали скромного угощения.
Сэр Эштон сел на гнилой ствол сваленного бурей дерева. Ему, очевидно, хотелось продолжить разговор, но он не знал, какой выбрать предмет.
– Вы, вероятно, давно живете в этом имении? – спросил он после минутного молчания.
– Скоро шестьдесят лет, как я впервые увидела Рэвенсвуд, – сказала Элис, и хотя она говорила учтивым и почтительным тоном, но, по-видимому, только подчинялась неизбежной необходимости отвечать на предлагаемые ей вопросы.
– Судя по вашему выговору, вы родились не в этих местах? – продолжал лорд-хранитель.
– Я родилась в Англии, милорд.
– Однако вы, кажется, очень привязаны к нашей стране и любите ее как родину?
– Здесь, милорд, – сказала слепая, – я знала и радости и горе, ниспосланные мне небом; здесь я прожила двадцать лет с нежнейшим и добрейшим из мужей; здесь я родила шестерых детей и здесь похоронила их. Они покоятся вон там, у полуразвалившейся часовни. При их жизни у меня не было другой родины, кроме их родины, и после их смерти мне не надобно иной.
– Но ваш дом в очень плохом состоянии, – заметил сэр Уильям, бросая взгляд на ветхое жилище.
– Ах, отец! – воскликнула Люси, ловя лорда-хранителя на слове. – Прикажите починить его! – И, смутившись, добавила: – Разумеется, если сочтете возможным.
– Мне бы не хотелось, чтобы милорд беспокоился из-за меня, дорогая мисс Люси, – сказала слепая. – На мой век мне хватит!
– Но прежде вы жили в хорошем доме, – настаивала Люси, – и были богаты, а теперь, под старость, вам приходится ютиться в такой лачуге.
– Для меня и этого достаточно, мисс Люси. Если мое сердце выдержало столько своих и чужих горестей, то, верно, уж закалено против всяких напастей, а мое старое тело не стоит ваших хлопот.
– Вы, вероятно, испытали немало превратностей на своем веку, – сказал сэр Уильям, – и опыт, разумеется, научил вас быть ко всему готовой.
– Он научил меня смирению, милорд, – последовал ответ.
– И вы не можете не знать, что годы всегда приносят с собой перемены.
– О да, милорд. Я знаю, что ствол, на котором вы сейчас сидите – остаток великолепного громадного ясеня, – должен рано или поздно сгнить, если прежде его не уничтожит топор дровосека. Но я надеялась, что мои глаза не увидят падения старого дерева, под сенью которого стояло мое жилище.
– Не подумайте, что я рассержусь на вас за то, что вы сожалеете о прежних владельцах моего поместья, – ответил сэр Эштон. – У вас, без сомнения, есть причины любить их, и я уважаю ваши чувства. Я прикажу починить ваш домик, и, надеюсь, мы будем друзьями, когда короче узнаем друг друга.
– В мои годы уже не обзаводятся новыми друзьями, – сказала Элис. – Я очень благодарна вам, милорд; вы, несомненно, говорите от души. Но я ни в чем не нуждаюсь и не могу ничего принять от вас.
– В таком случае, – продолжал лорд-хранитель, – позвольте мне, по крайней мере, сказать, что я рад встретить в вас женщину умную и воспитанную, и надеюсь, что вы будете жить в моих владениях до конца своих дней. Я освобождаю вас от арендной платы.
– Я тоже на это надеюсь, милорд, – спокойно ответила слепая. – Насколько мне помнится, освобождение от платы входит в одно из условий продажи вам Рэвенсвуда, хотя такое ничтожное обстоятельство могло легко ускользнуть из вашей памяти.
– В самом деле, – сказал лорд-хранитель, несколько смущенный, – я припоминаю… Но, я вижу, вы слишком привязаны к вашим старым друзьям, чтобы принять услугу от их преемника.
– Нисколько, милорд. Я благодарна вам за доброе отношение ко мне, хотя и не могу принять ваших милостей, и желала бы доказать вам мою признательность иначе, чем теми немногими словами, которые мне придется сейчас сказать вам.
Сэр Уильям не без удивления взглянул на нее, но не сказал ни слова.
– Милорд, берегитесь, – продолжала Элис, – вы на краю пропасти.
– Что вы говорите! – взволновался сэр Эштон, и его мысли тотчас обратились к политическому положению страны. – До вас дошли какие-нибудь слухи? Составлен заговор? Готовится мятеж?
– Нет, милорд. Люди, занимающиеся подобными делами, не посвящают в них старых, слепых и больных. Я хочу предостеречь вас от опасности совсем иного рода. Вы слишком далеко зашли, милорд, в отношении Рэвенсвудов. Верьте мне, это – лютый род, а люди, доведенные до отчаяния, всегда опасны.
– Что вы, что вы! – воскликнул лорд-хранитель. – Я тут ни при чем: таково решение суда, и если Рэвенсвуды недовольны тем, что я выиграл дело, пусть в суд и обращаются.
– Но они могут думать иначе и, изверившись в помощи закона, свершить правосудие собственными руками.
– Что вы хотите этим сказать? – воскликнул сэр Эштон. – Неужели вы думаете, что молодой Рэвенсвуд способен прибегнуть к насилию?
– Сохрани бог, чтобы я сказала что-либо подобное! Он честный, прямой – да, да, честный, прямой, – так я сказала и еще добавлю: чистосердечный, великодушный, благородный юноша; но все же он – Рэвенсвуд, он будет выжидать свой час. Не забывайте участи сэра Джорджа Локхарда.
Сэр Эштон невольно вздрогнул при этом намеке на недавнее трагическое происшествие, а слепая между тем продолжала:
– Чизли, убивший Локхарда, был родственником лорда Рэвенсвуда. Я сама слышала, как он открыто в присутствии нескольких свидетелей грозился исполнить жестокое дело, которое потом совершил. Я не выдержала, хотя по моему положению мне следовало молчать, и сказала ему: «Вы задумали страшное преступление и ответите за него перед всевышним судьей». Никогда не забуду его взгляда, когда он сказал: «Мне придется за многое ответить, так отвечу еще и за это!» Вот почему я говорю: не преследуйте человека, доведенного до отчаяния! В жилах Рэвенсвуда течет кровь Чизли, а одной капли этой крови достаточно, чтобы зажечь пожар. Говорю вам: берегитесь его!
То ли намеренно, то ли случайно, но слепая старуха задела слабую струну в сердце лорда-хранителя. Шотландские бароны не гнушались убийством врага из-за угла и под давлением обстоятельств или тогда, когда иначе нельзя было отплатить обидчику, к этому отчаянному и недостойному средству прибегали не только в те далекие, но и в недавние времена. Сэр Уильям превосходно знал об этом; он также знал, что причинил немало зла семейству Рэвенсвудов, и имел все основания опасаться мести – этого неизбежного следствия пристрастия судов – со стороны наследника разоренного им рода. Сэр Уильям постарался скрыть от слепой овладевшее им волнение; но человек даже менее проницательный, чем старая Элис, легко мог бы догадаться, что ее слова произвели на него сильное впечатление. Изменившимся голосом сэр Эштон возразил, что молодой Рэвенсвуд – человек чести, ну а если это не так, то судьба Чизли должна послужить достаточным предостережением всякому, кто вздумал бы пойти по его стопам. С этими словами он поспешно встал и, не дожидаясь ответа, вышел из сада.
Глава V
…Дочь Капулетти!
Так в долг врагу вся жизнь моя дана?
Шекспир{42}Лорд-хранитель прошел не останавливаясь около четверти мили. Его дочь, застенчивая от природы, к тому же воспитанная, как того требовали обычаи тех далеких лет, в почтении к родителям и в беспрекословном им повиновении, не смела прервать размышлений отца.
– Ты очень бледна, Люси, – заметил вдруг сэр Уильям, внезапно оборачиваясь к дочери и нарушая молчание.
По понятиям того времени, не дозволявшим молодой девушке высказывать свое мнение о важных предметах, пока к ней не обратятся, Люси должна была притвориться, что ничего не поняла из разговора между отцом и Элис, и потому объяснила свое волнение тем, что испугалась буйволов, пасшихся в той части огромного парка, по которой они как раз проходили.
Эти животные были потомками свирепых обитателей древних каледонских лесов{43}, и шотландская знать считала для себя вопросом чести держать в своих парках нескольких таких буйволов. Многие еще помнят, как они бродили в родовых поместьях Гамильтонов, Драмланриков и Камбернолдов. Судя по описаниям в летописях и тем огромным костям, которые иногда находят при осушении болот и топей, они уступали ростом и силой своим древним предкам. Самцы утратили свою косматую гриву, а вся порода измельчала; шерсть приобрела грязно-белый, или, лучше сказать, бледно-желтый цвет, копыта же и рога стали черными. Однако время почти не изменило их лютый нрав, так что было совершенно невозможно отучить их от дикой ненависти к человеку, и, когда к ним приближались без должной осторожности или как-нибудь иначе привлекали их внимание, они становились очень опасны. Вероятно, именно по этой причине дикие стада были уничтожены даже в тех угодьях, о которых говорилось выше, ибо иначе столь достойное украшение шотландских дубрав и баронских поместий, конечно, постарались бы сохранить. Однако, если не ошибаюсь, несколько буйволов еще существует и поныне в Нортумберленде, в Чилингемском парке, принадлежащем графу Тэнкервилу.
Люси решила, что лучше всего приписать свое волнение, на самом деле вызванное совсем иными причинами, близости нескольких таких животных, которых она, в сущности, не боялась, привыкнув видеть их во время прогулок по парку. К тому же в те времена отнюдь не считалось признаком хорошего тона у молодой леди падать в обморок по всякому поводу. Однако вскоре оказалось, что мнимая опасность могла сделаться действительной.
Едва Люси успела ответить на слова отца, собиравшегося было попенять дочери за трусость, как вдруг один из буйволов, раздраженный красным цветом ее плаща, а быть может, просто в приступе необъяснимой ярости, которой были подвержены эти животные, отделился от стада, мирно щипавшего траву на другом конце зеленой лужайки, почти скрытой от глаз густо переплетенными ветвями, и начал медленно приближаться к людям, вторгшимся в его владения. Время от времени он останавливался и неистово ревел, то взрывая копытами землю, то взметывая песок рогами, словно старался еще больше разжечь свою лютую злобу и ненависть.
Лорд-хранитель внимательно следил за движениями буйвола; предвидя близкую опасность, он крепко сжал руку дочери и удвоил шаг, надеясь убежать или скрыться от рассвирепевшего зверя. Но сэр Эштон не мог поступить хуже: животное, ободренное их бегством, тотчас бросилось за ними следом. Угроза неминуемой гибели могла бы испугать человека и более храброго, чем сэр Уильям, но родительская любовь, «любовь сильнее смерти», придала ему мужества. Не выпуская руки дочери, он продолжал тащить ее за собой, пока бедная девушка, лишившись от ужаса сил, не свалилась у его ног. Не имея другой возможности спасти дочь, сэр Эштон остановился и мужественно стал между нею и разъяренным животным, которое неслось теперь во весь опор, все более свирепея от погони, и уже было от них в нескольких шагах. У сэра Уильяма не было при себе оружия: его возраст и положение не позволяли ему носить даже маленькую шпагу – хотя, будь он при шпаге, едва ли это ему помогло бы.
Таким образом, отец или дочь, а быть может, оба вместе неминуемо должны были сделаться жертвой лютого зверя, как вдруг из соседней рощи раздался выстрел. Метко пущенная пуля попала буйволу в шею у основания черепа, и рана, которая, окажись она в любой другой части тела, только удвоила бы ярость взбешенного животного, вызвала почти мгновенную смерть. Буйвол, уже не владея своими конечностями, словно по инерции рванулся вперед и, весь покрывшись черным предсмертным потом и сотрясаясь в последних судорогах, с чудовищным ревом рухнул в трех шагах от остолбеневшего лорда – хранителя печати.
Люси лежала на земле без чувств, не сознавая чудесного своего избавления. Отец ее также находился в совершенном оцепенении, так быстро и неожиданно неизбежная смерть сменилась полной безопасностью. Животное, даже мертвое, внушало страх, и сэр Уильям оторопело смотрел на него с каким-то смутным удивлением, мешавшим ему вполне понять, что же, собственно, произошло. Все случившееся представлялось ему в тумане, и он, вероятно, подумал бы, что зверь убит грозою, если бы среди ветвей не заметил человека с коротким ружьем, иначе называемым мушкетоном.
Это заставило сэра Эштона тотчас прийти в себя, и, взглянув на дочь, он увидел, что она нуждается в немедленной помощи. Поэтому он решил окликнуть стрелка, которого принял за одного из лесничих, и поручить ему мисс Эштон, пока сам он отправится за людьми. Охотник подошел, и сэр Уильям увидел совершенно незнакомого ему человека, но был слишком взволнован и озабочен, чтобы обратить на это внимание. Неизвестный был намного моложе и сильнее его, а потому лорд-хранитель без долгих слов попросил своего избавителя снести дочь к соседнему источнику, сам же поспешил к лачуге Элис эа помощью.
Молодой человек, вмешательству которого лорд-хранитель и его дочь были обязаны своим спасением, по-видимому, не хотел оставлять доброго дела неоконченным. Взяв Люси на руки, он тропинками, очевидно хорошо ему известными, понес ее через чащу и, дойдя до источника, из которого струилась прозрачная вода, осторожно опустил драгоценную ношу на землю. Некогда над этим источником возвышался готический храм, но теперь от него остались одни лишь развалины; свод рухнул и раскололся, фонтан сломался и разрушился, и вода текла прямо из земли, пробиваясь между остатками разбитой скульптуры и поросшими мхом камнями, преграждавшими ей путь.
Об этом источнике, как и о всяком другом сколько-нибудь примечательном месте в Шотландии, существовала легенда, раскрывающая причину, по которой он удостоился особого поклонения. Рассказывали, что один из лордов Рэвенсвудов, охотясь в этих местах, встретил у источника прелестную молодую девушку, которая, подобно нимфе Эгерии{44}, завладела сердцем этого феодального Нумы. Они стали встречаться у родника, и всегда при закате солнца. Очарование ее ума довершило победу, начатую ее красотой, а таинственность придавала несказанную прелесть этим романическим свиданиям. Так как девушка всегда появлялась и исчезала близ источника, то ее возлюбленный решил, что между нею и водой существует необъяснимая связь. Красавица требовала соблюдения нескольких условий, также весьма таинственных: влюбленные виделись только раз в неделю, по пятницам, и разлучались, как только колокол в соседней обители, находившейся тогда невдалеке в лесу, а ныне уже давно разрушенной, возвещал о вечерне. На исповеди барон Рэвенсвуд поведал отшельнику тайну своей необыкновенной любви, и отец Захария тотчас пришел к совершенно непреложному и очевидному заключению, что его духовный сын попал в сети нечистого и что погибель угрожает не только бренному телу его, но и душе. Он употребил всю силу монашеского красноречия, чтобы заставить барона поверить в грозящую ему опасность, и в самых страшных красках нарисовал подлинный образ восхитительной наяды, которую не колеблясь объявил рукою дьявола. Влюбленный барон слушал его с упрямым недоверием и, только чтобы отделаться от настойчивых требований отшельника, согласился подвергнуть свою возлюбленную испытанию: по предложению отца Захарии в следующую пятницу колокол в вечерне должен был ударить на полчаса позже обычного. Монах уверял (и в подтверждение своего мнения ссылался на «Malleus Maleficarum» Sprengerus, Remigius[9] и других ученых демонологов), что злой дух, вынужденный благодаря этой хитрости оставаться на земле более положенного срока, примет свой настоящий вид и, представ перед устрашенным бароном исчадием ада, исчезнет в серном пламени. Раймонд Рэвенсвуд не без любопытства пошел на все это, хотя и был убежден, что ожидания монаха не оправдаются.
В назначенный час влюбленные, как обычно, встретились у источника, но оставались вместе дольше положенного времени, так как отшельник умышленно запоздал ударить в колокол. Ничто не изменилось в наружности нимфы, но, как только она заметила по удлинившимся теням, что час вечерни миновал, она вырвалась из объятий Раймонда и с воплем отчаяния, прощаясь с ним навеки, бросилась в источник. На поверхности воды показались пузыри, окрашенные кровью, и несчастный барон убедился, что его настойчивое любопытство стало причиной смерти этого обворожительного и таинственного существа. Угрызения совести и сожаления о прелестной возлюбленной были достойной карой в течение всей его кратковременной жизни, которой он лишился несколько месяцев спустя в битве при Флоддене{45}. Но перед тем как отправиться на поле брани, он в память о наяде решил предохранить источник, – где, казалось, все еще обитал ее дух, – от всякого осквернения и воздвигнул над ним небольшой храм, от которого теперь остались одни развалины. Говорят, что с этого времени начался упадок дома Рэвенсвудов.
Таково было поверье. Однако кое-кто, желая казаться умнее простого народа, утверждал, что основанием для этой легенды послужила история красавицы крестьянки, возлюбленной этого самого Раймонда, которую он убил в припадке ревности и чья кровь смешалась с водами заговоренного источника, как его называли в округе. Иные приписывали происхождение этого предания языческой мифологии. Но все сошлись на том, что это место – роковое для Рэвенсвудов и что испить воды из этого источника или даже подойти к нему близко было для них так же пагубно, как для Грэма – надеть зеленую одежду, для Брюса – убить паука или для Сен-Клера – переправиться через реку Орд в понедельник{46}.
На этом роковом месте Люси Эштон очнулась от своего продолжительного, почти смертельного обморока. Прекрасная и бледная, словно нимфа из старинной легенды, когда та навеки прощалась с Раймондом, Люси полулежала, прислонясь к обломку стены, и ее красный плащ, насквозь промокший от воды, с помощью которой неизвестный юноша старался привести ее в чувство, обрисовывал ее стройную, превосходно сложенную фигуру.
Придя в себя, Люси вспомнила о том, что заставило ее лишиться чувств, и тотчас подумала об отце. Она посмотрела вокруг, но его не было рядом с ней.
– Где он? Где мой отец? – испуганно воскликнула она.
– Сэр Уильям здоров и невредим, – ответил ей незнакомый голос. – Не бойтесь, он скоро придет сюда.
– Это правда? – спросила Люси. – Буйвол был от нас в двух шагах. Пустите меня, я пойду искать отца!
С этими словами Люси поднялась; но ее силы были настолько истощены, что она не смогла выполнить свое намерение и неминуемо упала бы на камни и сильно расшиблась, если бы незнакомец, стоявший подле нее, не поддержал ее. Однако он сделал это с какой-то странной неохотой, казавшейся непонятной в молодом человеке, которому выпало счастье предохранить от опасности красавицу. Легкая, воздушная фигурка девушки была словно слишком тяжела для мужественного атлета; не испытывая даже желания лишнюю минуту удержать ее в своих объятиях, незнакомец посадил Люси на камень, где она сидела раньше, и, отступив на несколько шагов, поспешно повторил:
– Сэр Уильям совершенно здоров и невредим. Он сейчас придет сюда. Не беспокойтесь о нем, на этот раз судьба была к нему милостива. Вы очень слабы, сударыня, и не должны уходить отсюда, пока кто-нибудь более умелый, чем я, не окажет вам необходимую помощь.
Люси, которая теперь уже совершенно пришла в себя, внимательно посмотрела на незнакомца. В его внешности она не обнаружила ничего такого, что могло бы помешать ему предложить руку молодой девушке, нуждающейся в его поддержке, или опасаться, что она не примет его услуги. Как ни была она взволнована, Люси не могла не заметить его холодности и нежелания подать ей руку. Охотничья куртка темного цвета, наполовину скрытая широким коричневым плащом, говорила о том, что юноша – знатного происхождения. Мягкая шляпа с черным пером, надвинутая на лоб почти по самые брови, скрывала его лицо – смуглое, с правильными чертами: оно отличалось гордым, хотя и несколько угрюмым, выражением. Тайная печаль или беспокойный дух какой-то темной страсти, должно быть, уничтожили в юноше естественную живость, столь свойственную его летам, так что нельзя было смотреть на него без сострадания или уважения; во всяком случае, молодой человек вызывал интерес и пробуждал любопытство.
Все это – то, о чем нам пришлось рассказывать так долго, – почти мгновенно промелькнуло в сознании Люси. И не успел ее взгляд встретиться с черными, пламенными глазами незнакомца, как она в смущении и страхе опустила голову. Однако нужно было сказать ему несколько слов, по крайней мере она считала своим долгом поблагодарить молодого человека; дрожащим голосом Люси начала говорить о грозившей ей и ее отцу опасности, от которой он с Божьей помощью спас их.
При этом изъявлении благодарности незнакомец вздрогнул и, прервав ее, сказал:
– Я оставляю вас, сударыня, – и его мелодичный, глубокий голос вдруг стал суровым, – я оставляю вас на попечении того, для кого сегодня вы, быть может, были ангелом-хранителем.
Эти загадочные, непонятные слова изумили Люси, сердце которой было полно самой безыскусственной, самой искренней благодарности, и она начала опасаться, не оскорбила ли она незнакомца каким-нибудь неловким словом, будто и вправду могла его обидеть.
– Я, быть может, недостаточно учтиво выразила вам мою признательность, – сказала она. – Я, право, не помню, что сказала, но прошу вас остаться и подождать, пока мой отец… пока лорд хранитель печати… Позвольте ему поблагодарить вас и узнать имя нашего избавителя.
– К чему вам имя? – ответил незнакомец. – Ваш отец… или, вернее, сэр Уильям Эштон узнает его достаточно скоро, но, боюсь, оно доставит ему мало удовольствия.
– Вы ошибаетесь! – с живостью воскликнула Люси. – Вы не знаете моего отца, он будет очень благодарен вам. Но, быть может, говоря, что он в безопасности, вы обманываете меня: он, верно, сделался жертвой лютого зверя.
В ужасе от этой мысли Люси вскочила, чтобы бежать туда, где произошла страшная сцена; в незнакомце, казалось, боролись два противоречивых желания: пойти вместе с ней или немедленно удалиться; из человеколюбия он решил уговорить, а если понадобится, то и заставить ее остаться.
– Даю вам честное слово, сударыня, – воскликнул он, – я сказал вам правду: ваш отец в полной безопасности. Вы только вновь подвергнете себя опасности, если вернетесь туда, где пасется это дикое стадо. Но если вы хотите идти, – ибо, вообразив, что ее отец в беде, Люси рвалась к нему, невзирая ни на какие уговоры, – если вы непременно хотите идти туда, то обопритесь по крайней мере на мою руку, хотя, быть может, я не тот человек, у которого вам следует искать защиты.
Люси приняла это предложение, не обращая внимания на последние слова.
– Если вы мужчина… если вы джентльмен, – сказала она, – помогите мне разыскать отца. Вы не покинете меня. Вы пойдете со мной. Быть может, пока мы здесь пререкаемся, отец истекает кровью.
И, не слушая извинений и уверений незнакомца, Люси приняла предложенную ей руку и потащила его за собой, думая лишь о том, что без этой поддержки ей не устоять на ногах и что необходимо удержать юношу подле себя. Но в эту минуту она увидела отца, приближавшегося к ним в сопровождении служанки слепой Элис и двух дровосеков, которых он встретил в лесу и позвал с собой. Радость сэра Уильяма, когда он увидел Люси целой и невредимой, заглушила в нем удивление, которое возбудило бы во всякое другое время представившееся ему неожиданное зрелище: его дочь непринужденно опиралась на руку незнакомого юноши.
– Люси, дорогая моя Люси! Ты невредима! Ты жива! – вот все, что мог сказать отец, нежно обнимая дочь.
– Все обошлось, отец, слава богу, – ответила Люси, – я счастлива, что снова вижу вас. Но что подумает обо мне этот джентльмен, – прибавила она, отпуская руку молодого человека и поспешно отодвигаясь от него; румянец залил щеки и шею девушки при одной мысли, что минуту назад она так настойчиво домогалась и даже требовала его помощи.