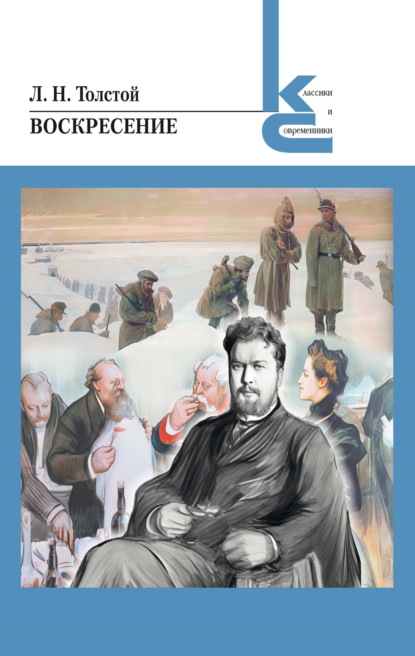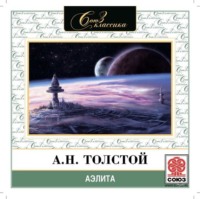Полная версия
Петр Первый
По Москве ходит рыжий поп Филька и, когда соберутся около него, начинает неистовствовать: «Послан-де я от Бога учить вас истинной вере, апостолы Петр и Павел мне сородичи… Чтоб вы крестились двумя перстами, а не тремя: в трех-де перстах сидит Кика-бес, сие есть кукиш, в нем вся преисподняя, – кукишом креститесь…» Многие тут же в него верят и смущаются. И никакой хитростью схватить его нельзя.
От поборов на крымский поход все обнищали. Говорят: на второй поход и последнюю шкуру сдерут. Слободы и посады пустеют. Народ тысячами бежит к раскольникам, – за Уральский камень, в Поморье, и в Поволжье, и на Дон. И те, раскольники, ждут антихриста, – есть такие, которые его уже видели. Чтоб хоть души спасти, раскольничьи проповедники ходят по селам и хуторам и уговаривают народ жечься живыми в овинах и банях. Кричат, что царь, и патриарх, и все духовенство посланы антихристом. Запираются в монастырях и бьются с царским войском, посланным брать их в кандалы. В Палеостровском монастыре раскольники побили две сотни стрельцов, а когда стало не под силу, заперлись в церкви и зажглись живыми. Под Хвалынском в горах тридцать раскольников загородились в овине боронами, зажглись и сгорели живыми же. И под Нижним в лесах горят люди в срубах. На Дону, на реке Медведице, беглый человек, Кузьма, называет себя папой, крестится на солнце и говорит: «Бог наш на небе, а на земле Бога не стало, на земле стал антихрист – московский царь, патриарх и бояре – его слуги…» Казаки съезжаются к тому папе и верят… Весь Дон шатается.
От таких разговоров Наталье Кирилловне страшно бывало до смертной тоски. Петенька веселился, забавлялся, не ведая, какой надвигается мрак на его головушку. Народ забыл смирение и страх… Живыми в огонь кидаются, этот ли народ не страшен!
Содрогалась Наталья Кирилловна, вспоминая кровавый бунт Стеньки Разина… Будто вчера это было… Тогда так же ожидали антихриста, Стенькины атаманы крестились двумя перстами. В смятении глядела Наталья Кирилловна на огоньки цветных лампад, со стоном опускалась на колени, надолго прижималась лбом к вытертому коврику…
Думала: «Женить надо Петрушу, – длинный стал, дергается, вино пьет, – все с немками, с девками… Женится, успокоится… Да пойти бы с ним, с молодой царицей по монастырям, вымолить у бога счастья, охраны от Сонькина чародейства, крепости от ярости народной…»
Женить, женить надо было Петрушу. Бывало раньше, – приедут ближние бояре, – он хоть часок посидит с ними на отцовском троне в обветшалой Крестовой палате. А теперь на все: «Некогда…» В Крестовой палате поставили чан на две тысячи ведер – пускать кораблики, паруса надувают мехами, палят из пушечек настоящим порохом. Трон прожгли, окно разбили.
Царица плакалась младшему брату Льву Кирилловичу. Тот вздыхал уныло: «Что ж, сестрица, жени его, хуже не будет… Вот у Лопухиных, у окольничего Лариона, девка Евдокия на выданье, в самом соку, – шестнадцати лет… Лопухины – горласты, род многочисленный, захудалый… Как псы, будут около тебя…»
По первопутку Наталья Кирилловна поехала будто бы на богомолье в Новодевичий монастырь. Через верную женщину намекнули Лопухиным. Те многочисленным родом – человек сорок – прискакали в монастырь, набились полну церковь, – все худые, злые, низкорослые, глаза у всех так и прыгали на царицу. В крытом возочке с большим бережением привезли Евдокию, полумертвую от страха. Наталья Кирилловна допустила ее к руке. Осмотрела. Повела ее в ризницу и там, оставшись с девкой вдвоем, осмотрела ее всю, тайно. Девица ей понравилась. Ничего в этот раз не было сказано. Наталья Кирилловна отбыла, – у Лопухиных горели глаза…
Одна радость случилась среди горя и уныния: двоюродный брат Василия Васильевича, князь Борис Алексеевич Голицын, вернувшись из крымского войска, из-под Полтавы, в самый день рождения правительницы, стоял обедню в Успенском соборе – мертвецки пьяный на глазах у Софьи, а потом за столом ругал Василия Васильевича: «Осрамил-де нас перед Европой, не полки ему водить – сидеть в беседке, записывать в тетради счастливые мысли», ругал и срамил ближних бояр за то, что «брюхом думаете, глаза жиром заплыли, Россию ныне голыми руками ленивый только не возьмет…» И с той поры зачастил в Преображенское.
Глядя на постройку Прешпурга, на экзерциции преображенцев и семеновцев, Борис Алексеевич не качал головой с усмешкой, как другие бояре, но любопытствовал, похваливал. Осматривая корабельную мастерскую, сказал Петру:
– При Акциуме римляне захватили корабли морских разбойников, да не знали, что с ними делать, – отрезали им медные носы, прибили на ростры, сиречь колонны. Но лишь научась сами рубить и оснащать корабли, завоевали моря и – весь мир.
Он долго говорил с Картеном Брандтом, пытая его знание, и присоветовал строить потешную верфь на Переяславском озере, что в ста двадцати верстах от Москвы. Прислал в мастерскую воз латинских книг, чертежей, листов, оттиснутых с меди, картин, изображающих голландские города, верфи, корабли и морские сражения. Для перевода книг подарил Петру ученого арапского карлу Абрама с товарищами Томосой и Секой, карлами же, ростом один – двенадцать вершков, другой – тринадцать с четвертью, одетых в странные кафтанцы и в чалмы с павлиньими перьями.
Борис Алексеевич был богат и силен, ума – особенной остроты, ученостью не уступал двоюродному брату, но нравом – невоздержан к питию и более всего любил забавы и веселую компанию. Наталья Кирилловна вначале боялась его, – не подослан ли Софьей? С чего бы такому знатному вельможе от сильных клониться к слабым? Но, что ни день, гремит на дворе Преображенского раскидистая карета – четверней, с двумя страшенными эфиопами на запятках. Борис Алексеевич первым долгом – к ручке царицы-матушки. Румяный, с крупным носом, – под глазами дрожат припухлые мешочки, – от закрученных усов, от подстриженной, с пролысинкой, бородки несет мускусом. Глядя на зубы его, засмеешься: до того белы, веселы…
– Как изволила почивать, царица? Единорог опять не приснился ли? А я все к вам да к вам… Надоел, прости…
– Полно, батюшка, тебе всегда рады… Что в Москве-то слышно?
– Скучно, царица, да уж так в Кремле скучно… Весь дворец паутиной затянуло…
– Что ты говоришь? Да ну тебя…
– По всем палатам бояре на лавках дремлют. Ску-у-ка… Дела пло-охи, никто не уважает… Правительница третий день личика не кажет, заперлась… Сунулся к ручке, к царю Ивану, – лежит его царское величество на лежаночке в лисьей шубке, в валеночках, так-то пригорюнился: «Что, – говорит мне, – Борис, скучно у нас? Ветер воет в трубах, так-то страшно. К чему бы?..»
Наталья Кирилловна догадалась наконец, – все шутит. Метнула взором на него, засмеялась…
– Только и приободришься что у вас, царица… Доброго ты сына родила, умнее всех окажется, дай срок… Глаз у него не спящий…
Уйдет, и у Натальи Кирилловны долго еще блестят глаза. Волнуясь, ходит по спаленке, думает. Так в беспросветный дождь вдруг проглянет сквозь тучи летящие синева, поманит солнцем. Значит – непрочен трон под Сонькой, когда такие орлы прочь летят…
Петр полюбил Бориса Алексеевича; встречая, целовал в губы, советовался о многом, спрашивал денег, и князь ни в чем не отказывал. Часто сманивал Петра с генералами, мастерами, денщиками и карлами гулять и шалить на Кукуе, – выдумывал необыкновенные потехи. Не раз, разгоряченный вином, вскакивал, – бровь нависала, другая задиралась, сверкали зубы, багровел нос… И по-латыни читал из Вергилия:
«Прославим богов, щедро наполняющих вином кубки, и сердце – весельем, и душу – сладкой пищей…»
Петр очарованно глядел на него. За окнами шумел ветер, летя через тысячеверстные равнины, лесную да болотную глушь, лишь задерет солому на курной избе, да повалит пьяного мужика в сугроб, да звякнет мерзлым колоколом на покосившейся колокольне… А здесь – взлохмачены парики, красные лица, дым валит из длинных трубок, трещат свечи. Шумство. Веселье…
– Быть пьяному синклиту нерушимо! – Петр приказал Никите Зотову писать указ: «От сего дня всем пьяницам и сумасбродам сходиться в воскресенье, соборно славить греческих богов». Лефорт предложил сходиться у него. С этого так и повелось. Зотов, самый горчайший, был пожалован званием архипастыря и флягой с цепью – на шею. Алексашку, во всем безобразии, сажали на бочку с пивом, и он пел такие песни, что у всех кишки лопались от смеху.
В Москву дошел слух об этих сборищах. Бояре испуганно зашептали: «На Кукуе немцы проклятые царя вконец споили, кощунствуют и бесовствуют». В Преображенское приехал князь Приимков-Ростовский, истовый старик, ударил Петру челом и с час говорил – витиевато, на древнеславянском – о том, как беречь византийское благолепие и благочестие, на коем одном стоит Россия. Петр молча слушал (в столовой палате играл с Алексашкой в шахматы, были сумерки). Потом толкнул доску с фигурами и заходил, грызя заусенец. Князь все говорил, поднимая рукава тяжелой шубы, – длиннобородый, сухой… Не человек – тень надоевшая, ломота зубная, скука! Петр нагнулся к Алексашкиному уху, тот фыркнул, как кот, ушел, скалясь. Скоро подали лошадей, и Петр велел князю сесть в сани, – повез его к Лефорту.
За столом на высоком стуле сидел Никита Зотов, в бумажной короне, в руках держал трубку и гусиное яйцо. Петр без смеха поклонился ему и просил благословить, и архипастырь с важностью благословил его на питье трубкой и яйцом. Тогда все (человек двадцать) запели гнусавыми голосами ермосы. Князь Приимков-Ростовский, страшась перед царем показать невежество, тайно закрестился под полой шубы, тайно отплюнулся. А когда на бочку полез голый человек с чашей, и царь и великий князь всея Великия и Малыя и прочая, указав на него перстом, промолвил громогласно: «Сие есть бог наш, Бахус, коему поклонимся», – помертвел князь Приимков-Ростовский, зашатался. Старика без памяти отнесли в сани.
С этого дня Петр велел называть Зотова всепьянейшим папой, архижрецом бога Бахуса, а сходбища у Лефорта – сумасброднейшим и всепьянейшим собором.
Дошел слух о том и до Софьи. В гневе послала она говорить с Петром ближнего боярина, Федора Юрьевича Ромодановского. Из Преображенского он вернулся задумчивый.
Докладывал правительнице:
– Шалостей и забав там много, но и дела много… В Преображенском не дремлют…
Ненавистью, смутным страхом зашлось сердце у Софьи. Не успели, кажется, и оглянуться, – подрос волчонок…
6
Неожиданно из Полтавы прибыл Василий Васильевич. Еще только брезжил рассвет, а уж в дворцовых сенях и переходах – не протолкаться. Гул, как в улье. Софья не спала ночь. Вышитое золотом, покрытое жемчужной сетью, платье, – более пуда весом, – бармы в лалах, изумрудах и алмазах, ожерелья, золотая цепь – давили плечи. Сидела у окна, сжав губы, чтобы не дрожали. Верка, ближняя женщина, дышала на замерзшее стекло:
– Матушка, голубушка, – едет!
Подхватила царевну под локоть, и Софья взглянула: по выпавшему за ночь снегу от Никольских ворот шла крупной рысью шестерка серых в яблоках, на головах – султаны, на бархатных шлеях – наборные кисти до земли, впереди коней бегут в белых кафтанах скороходы, крича: «Пади, пади!», у дверей низкого, крытого парчой возка скачут офицеры в железных латах, коротких епанчах. Остановились у Красного крыльца. Дворяне, в тесноте ломая бока друг другу, кинулись высаживать князя…
У правительницы закатились глаза. Верка опять подхватила ее, – «вот соскучилась-то сердешная!». Софья прохрипела:
– Верка, подай Мономахову шапку.
Она увидела Василия Васильевича, только когда всходила на трон в Грановитой палате. В паникадилах горели свечи. Бояре сидели по скамьям. Он стоял, пышно одетый, но весь будто потраченный молью: борода и усы отросли, глаза ввалились, лицо желтоватое, редкие волосы слежались на голове…
Софья едва сдерживала слезы. Оторвала от подлокотника полную, туго схваченную у запястья горячую руку. Став на колено, князь поцеловал, прикоснулся к ней шершавыми губами. Она ждала не того и содрогнулась, будто чувствуя беду…
– Рады видеть тебя, князь Василий Васильевич. Хотим знать про твое здравие… – Она чуть кашлянула, чтобы голос не хрипел. – Милостив ли Бог к делам нашим, кои мы вверили тебе?
Она сидела золотая, тучная, нарумяненная на отцовском троне, украшенном рыбьим зубом. Четыре рынды, по уставу – блаженно-тихие отроки, в белом, в горностаевых шапках, с серебряными топориками, стояли позади. Бояре с двух сторон, как святители в раю, окружали крытый алым сукном трехступенчатый помост трона. Происходило все благолепно, по древнему чину византийских императоров. Василий Васильевич слушал, преклоня колено, опустив голову, раскинув руки…
Софья отговорила. Василий Васильевич встал и благодарил за милостивые слова. Два думных пристава степенно подставили ему раскладной стул. Дело дошло до главного, – зачем он и приехал. Пытливо и недоверчиво Василий Васильевич покосился на ряды знакомых лиц, – сухие, как на иконах, медно-красные, злые, распухшие от лени, с наморщенными лбами, – вытянулись, ожидая, что скажет князь Голицын, подбираясь к их кошелям… Василий Васильевич повел речь околицами… «Я-де раб и холоп ваш, великих государей, царей и великих князей и прочая, бью челом вам, великим государям, в том, чтобы вы, великие государи, мне бы, холопу вашему Ваське с товарищи, вашу, великих государей, милость как и раньше, так и впредь оказали и велели бы пресвятые пречистые владычицы богородицы, милосердные царицы и приснодевы Марии образ из Донского монастыря к войску вашему, государеву, непобедимому и победоносному, послать, дабы пречистая богородица сама полками вашими предводительствовала и от всяких напастей заступала и над врагами вашими преславные победы и дивное одоление являла…»
Долго он говорил. От духоты, от боярского потения туман стоял сиянием над оплывающими свечами. Окончил про образ Донской богородицы. Бояре, подумав для порядка, приговорили: послать. Вздыхали облегченно. Тогда Василий Васильевич уже твердо заговорил о главном: войскам третий месяц не плачено жалованья. Иноземные офицеры, – к примеру полковник Патрик Гордон, – обижаются, медные деньги кидают наземь, просят заплатить серебром, от крайности хоть соболями… Люди пообносились, валенок нет, все войско в лаптях, и тех не хватает… А с февраля – выступать в поход… Как бы опять сраму не получилось.
– Сколько же денег просишь у нас? – спросила Софья.
– Тысяч пятьсот серебром и золотом.
Бояре ахнули. У иных попадали трости и костыли. Зашумели. Вскакивая, ударяли себя рукавами по бокам: «Ахти нам!..» Василий Васильевич глядел на Софью, и она отвечала горящим взглядом. Он заговорил еще смелее:
– Были у меня в стану два человека из Варшавы, монахи, иезуиты. Есть у них грамота от французского короля, чтоб им верить. Предлагают они великое дело. Вам (привстав, поклонился Софье), пресветлым государям, от того дела быть должна немалая польза… Говорят они так: на морях-де ныне много разбойников, французским кораблям ходить кругом света опасно, много товаров напрасно гибнет. А через русскую землю путь на восток прямой и легкий – и в Персию, и в Индию, и в Китай. Вывозить, мол, вам товары все равно не на чем, купцы ваши московские безденежны. А французские купцы богаты. И чем вам без пользы оберегать границы, – пустите наших купцов в Сибирь и дальше, куда им захочется. Они и дороги порубят в болотах, и верстовые столбы поставят, и взъезжие ямы. В Сибири будут покупать меха, платить за них золотом, а ежели найдут руды, то станут заводить и рудное дело.
Старый князь Приимков-Ростовский, не сдержав сердца, перебил Василия Васильевича:
– От своих кукуйских еретиков не знаем куда деваться. А ты чужих на шею накачиваешь… Конец православию!..
– Едва англичан сбыли при покойном государе, – крикнул думный дворянин Боборыкин, – а ныне под француза нам идти?.. Не бывать тому.
Другой, Зиновьев, проговорил с яростью:
– Нам на том крепко стоять, чтоб их, иноземцев, древнюю пыху вконец сломить… А не на том, чтоб им давать промыслы да торговлю… Чтоб их во смирение привести… Мы есть Третий Рим…
– Истинно, истинно! – зашумели бояре.
Василий Васильевич оглядывался, от гнева глаза посветлели, дрожали ноздри.
– Не менее вашего о государстве болею… (Он повысил голос.) Грудь… (Он ударил перстнями по кольчуге.) Грудь изорвал ногтями, когда узнал, как французские министры бесчестили наших великих послов Долгорукова и Мышецкого… Поехали просить денег с пустыми руками, – честь и потеряли на том… (Многие бояре густо засопели.) А поехали бы с выгодой французскому королю, – три миллиона ливров давно бы лежали в приказе Большого дворца. Иезуиты клялись на Евангелии: лишь бы великие государи согласились на их прожект и Дума приговорила, – а уж они головой ручаются за три миллиона ливров, кои получим еще до весны.
– Что ж, бояре, подумайте о сем, – сказала Софья, – дело великое.
Легко сказать – подумать о таком деле… Действительно было время, после великой смуты, – когда иноземцы коршунами кинулись на Россию, захватили промыслы и торговлю, сбили цены на все. Помещикам едва не даром приходилось отдавать лен, пеньку, хлеб. Да они же, иноземцы, приучили русских людей носить испанский бархат, голландское полотно, французские шелка, ездить в каретах, сидеть на итальянских стульях. При покойном Алексее Михайловиче скинули иноземное иго! – сами-де повезем морем товары. Из Голландии выписали мастера Картена Брандта, с великими трудами построили корабль «Орел», – да на этом и замерло дело, людей, способных к мореходству, не оказалось. Да и денег было мало. Да и хлопотно. «Орел» сгнил, стоя на Волге у Нижнего Новгорода. И опять лезут иноземцы, норовят по локоть засунуться в русский карман… Что тут придумать? Пятьсот тысяч рублей на войну с ханом выложи, – Голицын без денег не уедет… Ишь, ловко поманил тремя миллионами! Вспотеешь, думая…
Зиновьев, захватив горстью бороду, проговорил:
– Наложить бы еще какую подать на посады и слободы… Ну, хошь бы на соль…
Князь Волконский, острый умом старец, ответствовал:
– На лапти еще налогу нет…
– Истинно, истинно! – зашумели бояре. – Мужики по двенадцати пар лаптей в год изнашивают, наложить по две деньги дани на пару лаптей, – вот и побьем хана…
Легко стало боярам. Решили дело. Иные вытирали пот, иные вертели пальцами, отдувались. Иные от облегчения пускали злого духа в шубу. Перехитрили Василия Васильевича. Он не сдавался, – нарушив чин, вскочил, застучал тростью.
– Безумцы! Нищие – бросаете в грязь сокровище! Голодные – отталкиваете руку, протянувшую хлеб. Да что же, господь помрачил умы ваши? Во всех христианских странах, – а есть такие, что и уезда нашего не стоят, – жиреет торговля, народы богатеют, все ищут выгоды своей… Лишь мы одни дремлем непробудно… Как в чуму – розно бежит народ, – отчаянно… Леса полны разбойников. И те уходят куда глаза глядят… Скоро пустыней назовут русскую землю! Приходи, швед, англичанин, турок – владей…
Слезы чрезмерной досады брызнули из синих глаз Василия Васильевича. Софья, вцепясь ногтями в подлокотники, перегнулась с трона, – у самой дрожали щеки.
– Французов допускать незачем, – густо проговорил боярин князь Федор Юрьевич Ромодановский. Софья впилась в него взором. Бояре затихли. Он, покачав чревом, чтобы сползти к краю лавки, встал: коротконогий, с широкой спиной, с маленькой приглаженной головой, ушедшей в плечи. Холодно было смотреть в раскосые темные глаза его. Бороду недавно обрил, усы были закручены, крючковатый нос висел над толстыми губами. – Французских купцов нам не надо – последнюю рубашку снимут… Так… Вот недавно был в Преображенском у государя… Потеха, баловство… Верно… Но и потеха бывает разумная… Немцы, голландцы, мастера, корабельщики, офицеры, – дело знают. Два полка – Семеновский, Преображенский – не нашим чета стрельцам. Купцов иноземных нам не надо, а без иноземцев не обойтись… Заводить у себя железное дело, полотняное, кожевенное, стекольное… Мельницы ставить под лесопилки, как на Кукуе. Заводить флот – вот что надо. А что приговорим мы сегодня налог на лапти… А, да ну вас, – приговаривайте, мне все одно…
Он, будто рассердясь, мотнул толстым лицом, закрученными усами, попятился, сел на лавку… В этот день боярская Дума окончательно ничего не приговорила…
7
В морозный вечер много гостей собралось в аустерии. Дурень слуга все подбрасывал березовые дрова в очаг. «О, и жарко же у тебя, Монс!» – гости играли в зернь и карты, смеялись, пели. Иоганн Монс откупорил третью бочку пива. Он сбросил ватный жилет и остался в одной фуфайке. Шея его была сизая. «Эй, Иоганн, ты бы вышел постоять на морозе, у тебя много крови». Монс рассеянно улыбнулся, сам не понимая, что с ним. Шум голосов доносился будто издалека, на глаза навертывались слезы. Подхватил было десять кружек с пивом, – не смог их поднять, расплескал. Истома ползла по телу. Он толкнул дверь, вышел на мороз и прислонился к столбику под навесом. Высоко стоял ледяной месяц в трех радужных огромных кругах. Воздух – полон морозных переливающихся игол… Снег – на земле, на кустах и крышах. Чужая земля, чужое небо, смерть на всем. Он часто задышал… Что-то с невероятной быстротой близилось к нему… Ах, только бы еще раз взглянуть на родную Тюрингию, – где уютный городок в долине меж гор над озером!.. Слезы потекли по его щекам. Режущая боль схватила сердце… Он нащупал дверь, с трудом открыл, и свет свечей, дрожащие лица гостей показались пепельными. Грудь всколыхнулась, выдавила вопль, и он упал…
Так умер Иоганн Монс. Горем и удивлением надолго поразила его смерть всех немцев. После него осталась вдова, Матильда, четверо детей и три заведения – аустерия, мельница и ювелирная лавка. Старшую дочь, Модесту, этой осенью, слава богу, удалось выдать замуж за достойного человека, поручика Федора Балка. Оставались сиротами Анна и двое маленьких – Филимон и Виллим. Как часто бывает, дела после смерти главы дома оказались не так уж хороши, обнаружились долговые расписки. Пришлось отдать за долги мельницу и ювелирную лавку. В это горестное время много помог Лефорт деньгами и хлопотами. Дом с аустерией остался за вдовой, где Матильда и Анхен день и ночь теперь проливали горькие слезы.
8
– Маменька, звали?
– Сядь, ангел Петенька…
Петр ткнулся на табурет, с досадой оглядывал матушкину опочивальню. Наталья Кирилловна, сидя против него, ласково усмехалась. Ох, и грязен, платье порвано. Палец обвязан тряпкой. Волосики – вихрами. Под веками – тень, глаза беспокойные…
– Петруша, ангел мой, не гневайся – выслушай…
– Слушаю, маменька…
– Женить тебя хочу…
Стремительно Петр вскочил, размахивая руками, забегал от озаренных ликов святителей до двери вкривь и вкось по спальне. Сел. Дернул головой… Большие ступни повернулись носками внутрь.
– На ком?
– Присмотрена, облюбована уже такая лапушка, – голубь белый…
Наталья Кирилловна склонилась над сыном, проведя по волосам, – хотела заглянуть в глаза. У него густо залились румянцем уши. Вынырнул из-под ее руки, опять вскочил:
– Да некогда мне, маменька… Право, дело есть… Ну надо, – так жените… Не до того мне…
Задев плечом за косяк, сутуловатый, худой, вышел и побежал, как бешеный, по переходам, вдалеке хлопнул дверью.
Глава четвертая
1
Ивашка Бровкин (Алешкин отец) привез по санному пути в Преображенское воз мороженой птицы, муки, гороху и бочку капусты. Это был столовый оброк Василию Волкову, – домоправитель собрал его с деревеньки и, чтобы добро не гнило, приказал везти господину на место службы, где у Волкова, как у стольника, во дворце имелась своя каморка с чуланом. Въехав во двор, Ивашка Бровкин испугался и снял шапку. Множество богатых саней и возков стояло у Красного крыльца. Переговаривались на утреннем морозе кучки нарядных холопов; кони, украшенные лисьими и волчьими хвостами, балуясь, били чистый снег, зло визжали стоялые жеребцы. Вкруг дымящегося навоза суетились воробьи.
По открытой лестнице всходили и сбегали золотокафтанные стольники и офицеры в иноземных кафтанах с красными отворотами, с бабьими кудрявыми волосами. Ивашка Бровкин признал и своего господина, – на царских харчах Василий Волков раздобрел, бородка кудрявилась, ходил важно, держась за шелковый кушак.
«Эх, задержат меня, не в добрый час приехал!» – подумал Ивашка. Разнуздал лошадь, бросил ей сенца. Подошла царская собака, строго желтыми глазами посмотрела на Ивашку, зарычала… Он умильно распустил все морщины: «Собаченька, батюшка, что ты, что ты…» Отошла, сволочь сытая, не укусила, слава богу. Прошел мимо плечистый конюх.
– Ты что, бродяга, – кормить здесь расположился?..
Но тут конюха окликнули, слава богу, а то бы целым Ивашке не выпутаться… Сено он убрал, лошадь опять взнуздал. В это время малиново на дворцовой вышке ударили в колокола. Засуетились холопы, – одни повскакали верхами на выносных коней, другие прыгнули на запятки, зверовидные задастые кучера расправили вожжи… На лестнице на каждой ступени стали стольники, сдвинув шапки искривя. Из дворца повалили поезжане: отроки с иконами, юноши с пустыми блюдами, – дорогие шапки, зеленые, парчовые, алобархатные кафтаны и шубы загорелись на снегу под осыпанными инеем плакучими березами. Понимая приличие, Бровкин стал креститься. Вышли бояре… Среди них – женщина во многих шубах, одна дороже другой… Под рогастой кикой брови ее густо набелены – белые, веки – сизые – расписаны до висков, щеки кругло, клюквенно нарумянены… Лицо как блин… В руке – ветка рябины. Красивая, веселая, видно – хмельная… Ее вели с крыльца под руки. Дворовые девки, пробегая мимо Ивашки, говорили: