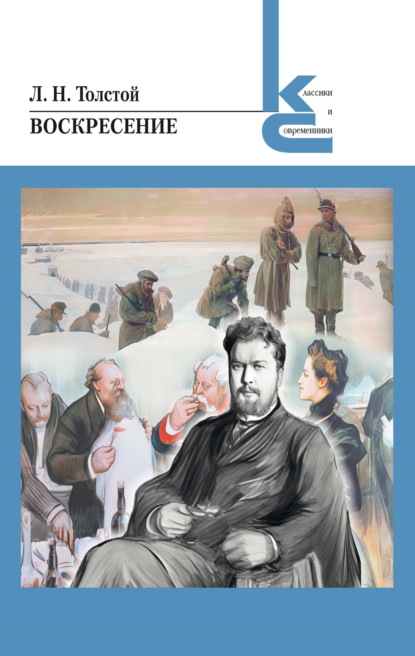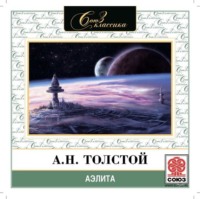Полная версия
Петр Первый
Торговлишка плохая. Своему много не продашь, свой – гол. За границу не повезешь, – не на чем. Моря чужие. Все торги с заграницей прибрали к рукам иноземцы. А послушаешь, как торгуют в иных землях, – голову бы разбил с досады. Что за Россия заклятая страна, – когда же ты с места сдвинешься?
В Москве стало два царя – Иван и Петр, и выше их – правительница, царевна Софья. Одних бояр променяли на других. Вот и все. Скука. Время остановилось. Ждать нечего. У памятного стрелецкого столба на Красной площади стоял одно время часовой с бердышом, да куда-то ушел. Простой народ кругом столба навалил всякого. И опять зароптали на базарах люди, пошло шептанье. Стали стрельцы сомневаться: не до конца тогда довели дело, шуму было много, а толку никакого. Не довершить ли, пока не поздно?
Старики рассказывали, – хорошо было в старину: дешевле, сытнее, благообразнее. По деревням мужики с бабами водили хороводы. На посадах народ заплывал жиром от лени. О разбоях не слыхивали. Эх, были, да прошли времена!..
В стрелецкой слободе объявилось шесть человек раскольников – начетчики, высохшие, как кость, непоколебимые мужики. «Одно спасение, – говорили они стрельцам, – одно ваше спасение скинуть патриарха-никонианина и весь боярский синклит, ониконианившийся и ополячившийся, и вернуться к богобоязненной вере, к старой жизни». Раскольники читали соловецкие тетради – о том, как избежать прелести никонианской и спасти души и животы свои. Стрельцы плакали, слушая. Старец-раскольник, Никита Пустосвят, на базаре, стоя на возу, читал народу по соловецкой тетради:
«Я, братия моя, видал антихриста, право, видал… Некогда я, печален бывши, помышляющи, как придет антихрист, молитвы говорил, да и забылся, окаянный. И вот на поле многое множество людей вижу. И подле меня некто стоит. Я ему говорю: чего людей много? Он же отвечает: антихрист грядет, стой, не ужасайся. Я подперся посохом двоерогим, стою бодро. Ан – ведут нагого человека, – плоть-то у него вся смрад и зело дурна, огнем дышит, изо рта, из ноздрей и из ушей пламя смрадное исходит. За ним царь наш последует, и власти, и бояре, и окольничьи, и думные дворяне… И плюнул я на него, дурно мне стало, ужасно… Знаю по писанию – скоро ему быть. Выблядков его уже много, бешеных собак…»
Теперь понятно было, что требовать. Стрельцы кинулись в Кремль. Начальник стрелецкого приказа, Иван Андреевич Хованский, стал за раскол. Шесть костяных раскольников с Никитой Пустосвятом, три дня не евши ни крошки, не пивши ни капли, принесли в Грановитую палату аналои, деревянные кресты и книги и перед глазами Софьи лаяли и срамили патриарха и духовенство. Стрельцы у Красного крыльца кричали: «Хотим старой веры, хотим старины». А иные говорили и тверже: «Пора государыне царевне в монастырь, полно царством-то мутить». Оставалось одно средство, и Софья гневно пригрозила:
– Хотите променять нас на шестерых чернецов – мужиков – невежд? В таком разе нам, царям, жить здесь нельзя, уйдем в другие города, возвестим всему народу о нашем разорении, о вашей измене…
Стрельцы поняли, чем пригрозила Софья, – испугались: «Как бы она, ребята, не двинула дворянское ополчение на Москву?..» Попятились! Стали договариваться. А уж по приказу Василия Васильевича Голицына выносили из царских погребов на площадь ушаты с водкой и пивом. Дрогнули стрельцы, закружились головы. Кто-то крикнул: «Черт ли нам в старой вере, то дело поповское, бей раскольников». Одному костяному старцу тут же отсекли голову, двоих задавили, остальные едва унесли ноги.
Опоили проклятые бояре простых людей, вывернулись. Москва шумела, как улей. Каждый кричал про свое. Не нашлось тогда одной головы, – бушевали вразброд. Разбивали царские кабаки. Ловили подьячих из приказов, рвали на части. По Москве ни проходу, ни проезду. Ходили осаждать боярские дворы, едва бояре отстреливались, – великие в те дни бывали побоища. Пылали целые порядки изб. Неубранные трупы валялись на улицах и базарах. Прошел слух, что бояре стянули под Москвой ополчение, – разом хотят истребить бунт. И еще раз пошли стрельцы с тучами беглых холопов в Кремль, прибив на копье челобитную о выдаче на суд и расправу всех бояр поголовно. Софья вышла на Красное крыльцо, белая от гнева: «Лгут на нас, и в мыслях того ополчения не было, крест на том целую, – закричала она, рвя с себя сверкающий алмазный наперсный крест, – то лжет на нас Матвейка-царевич». И с крыльца выкинули на стрелецкие копья всего лишь одного захудалого татарского царевича Матвейку: подавитесь!
Матвейку разорвали на мелкие клочья, – насытили ярость, и опять стрельцы ушли ни с чем… Три дня и три ночи бушевала Москва, вороньи стаи над ней взлетали высоко от набатного звона. И тогда же родилось у самых отчаянных решение: отрубить самую головку, убить обоих царей и Софью. Но когда Москва пробудилась на четвертый день, Кремль был уже пуст: ни царей, ни царевны, – ушли вместе с боярами. Ужас охватил народ.
Софья уехала в село Коломенское и послала бирючей по уездам созывать дворянское ополчение. Весь август кружила она около Москвы по селам и монастырям, плакалась на папертях, жаловалась на обиды и разорение. В Кремле со стрельцами остался Иван Андреевич Хованский. Стали думать: уж не кликнуть ли его царем, – человек любезный, древнего рода, старого обычая. Будет свой царь для простого народа.
Ожидая богатых милостей, дворяне бойко садились на коней. Огромное, в двести тысяч, ополчение сходилось к Троице-Сергиеву. А Софья, как птица, все кружила около Москвы. В сентябре посланный ею конный отряд, со Степкой Одоевским во главе, налетел на рассвете на село Пушкино. Там, объезжая со стрельцами подмосковные, ночевал на пригорке в шатре Иван Андреевич Хованский. Стрельцы спали беспечно. Их, сонных, всех порубили саблями. Иван Андреевич в исподнем белье выскочил из шатра, размахивая бердышом. Михайла Тыртов прямо с коня кинулся ему на плечи. Прикрутив Ивана Андреевича к седлу, повезли в село Воздвиженское, где Софья справляла свои именины. У околицы села на вынесенных скамьях сидели бояре, одетые по военному времени – в шлемах, в епанчах. Михайла Тыртов сбросил с седла Хованского, и тот от горя и стыда, раздетый, стал на колени на траву и заплакал. Думный дьяк Шакловитый прочел сказку о его винах. Иван Андреевич закричал с яростью: «Ложь! Не будь меня, – давно бы в Москве по колена в крови ходили…» Трудно было боярам решиться пролить кровь столь древнего рода. Василий Васильевич сидел белее снега. И он и Хованский были Гедиминовичами, и Гедиминовича судили сейчас худородные, недавние выскочки. Видя такое шатание, Иван Михайлович Милославский отошел к верхоконным и шепнул Степке Одоевскому. Тот во весь конский мах поскакал через село к шелковому шатру царевны Софьи и тем же махом, топча кур и малых ребят, вернулся. «Правительница-де приказала не сомневаться, кончать князя». Василий Васильевич торопливо отошел, закрыл глаза платочком. Дико закричал Хованский, когда Михайла Тыртов схватил его за волосы, таща в пыль на дорогу. Здесь же у околицы отрубили Хованскому голову.
Остались без головы стрельцы. Узнав о казни, в ужасе кинулись в Кремль, затворили ворота, зарядили пушки, приготовились к осаде, совсем как поляки, сто лет тому назад, когда Москву обложили войска новгородского купечества.
Софья поспешила в Троице-Сергиево под защиту неприступных стен. Начальствовать ополчением поручила Василию Васильевичу. И так стояли, грозясь, обе стороны, ожидая, кто первый испугается. Испугались стрельцы и послали в Троицу челобитчиков. Принесли повинную. Тем и кончилась их воля. Столб на Красной площади снесли. Вольные грамоты взяты были назад. Начальником стрелецкого приказа назначили Шакловитого, скорого на расправу. Многие полки разослали по городам. Народ стал тише воды ниже травы. И опять над Москвой, над всей землей повисла безысходная тишина. Потянулись годы.
2
В сумерках по улице вдоль заборов бежал Алексашка. Сердце резало, пот застилал глаза. Пылающая вдалеке изба мрачно озаряла лужи в колеях. Шагах в двадцати от Алексашки, бухая сапогами, бежал пьяный Данила Меншиков. Не плеть на этот раз была в руке у него, – сверкал кривой нож. «Остановись! – вскрикивал Данила страшным голосом. – Убью!..» Алешка давно остался позади, где-то залез на дерево.
Больше года Алексашка не видел отца, и вот – встретил у разбитого и подожженного кабака, и Данила сразу погнался за сыном. Все это время Алексашка с Алешкой жили хотя и впроголодь, но весело. В слободах мальчиков знали хорошо, приветливо пускали ночевать. Лето они прошатались кругом Москвы по рощам и речкам. Ловили певчих птиц, продавали их купцам. Воровали из огородов ягоды и овощи. Все думали – поймать и обучить ломаться медведя, но зверь легко в руки не давался. Удили рыбу.
Однажды, закинув удочку в тихую и светлую Яузу, что вытекала из дремучих лесов Лосинова острова, увидели они на другом берегу мальчика, сидевшего, подперев подбородок. Одет он был чудно – в белых чулках и в зеленом нерусском кафтанчике с красными отворотами и ясными пуговицами. Невдалеке, на пригорке, из-за липовых кущ поднимались гребнистые кровли Преображенского дворца. Когда-то он весь был виден, отражался в реке, нарядный и пестрый, – теперь зарос листвой, приходил в запустение.
У ворот и по лугу бегали женщины, крича кого-то, – должно быть, искали мальчика. Но он, сердито сидя за лопухами, и ухом не вел. Алексашка плюнул на червя и крикнул через реку:
– Эй, нашу рыбу пугать… Смотри, портки снимем, переплывем, – мы тебя…
Мальчик только шмыгнул. Алексашка опять:
– Ты кто, чей? Мальчик…
– А вот велю тебе голову отрубить, – проговорил мальчик глуховатым голосом, – тогда узнаешь.
Сейчас же Алешка шепнул Алексашке:
– Что ты, ведь это царь, – и бросил удилище, чтобы бежать без оглядки. У Алексашки в синих глазах засветилось баловство.
– Погоди, убежим, успеем. – Закинул, удочку, смеясь стал глядеть на мальчика. – Очень тебя испугались, отрубил голову один такой… А чего ты сидишь? Тебя ищут…
– Сижу, от баб прячусь.
– Я смотрю, – ты не наш ли царь. А?
Мальчик ответил не сразу, – видимо, удивился, что говорят смело.
– Ну – царь. А тебе что?
– Как что… А вот ты взял бы да и принес нам сахарных пряников. (Петр глядел на Алексашку пристально, не улыбаясь.) Ей-богу, сбегай, принесешь – одну хитрость тебе покажу. – Алексашка снял шапку, из-за подкладки вытащил иглу. – Гляди – игла али нет? Хочешь – иглу сквозь щеку протащу с ниткой, и ничего не будет…
– Врешь? – спросил Петр.
– Вот перекрещусь. А хочешь – ногой перекрещусь? – Алексашка живо присел, схватил босую ногу и ногой перекрестился.
Петр удивился еще больше.
– Еще бы тебе царь бегал за пряниками, – ворчливо сказал он. – А за деньги иглу протащишь?
– За серебряную деньгу три раза протащу, и ничего не будет.
– Врешь? – Петр начал мигать от любопытства. Привстал, поглядел из-за лопухов в сторону дворца, где все еще суетились, звали, аукали его какие-то женщины, и побежал с той стороны по берегу к мосткам.
Дойдя до конца мостков, он очутился шагах в трех от Алексашки. Над водой трещали синие стрекозы. Отражались облака и разбитая молнией плакучая ива. Стоя под ивой, Алексашка показал Петру хитрость – три раза протащил сквозь щеку иглу с черной ниткой, – и ничего не было: ни капли крови, только три грязных пятнышка на щеке. Петр глядел совиными глазами.
– Дай-ка иглу, – сказал нетерпеливо.
– А ты что же – деньги-то?
– На!..
Алексашка на лету подхватил брошенный рубль. Петр, взяв у него иглу, начал протаскивать ее сквозь щеку. Проткнул, протащил и засмеялся, закидывая кудрявую голову: «Не хуже тебя, не хуже тебя!» Забыв о мальчиках, побежал к дворцу, – должно быть, учить бояр протаскивать иголки.
Рубль был новенький, – на одной стороне – двуглавый орел, на другой – правительница Софья. Сроду Алексашка с Алешкой столько не наживали. С тех пор они повадились ходить на берег Яузы, но Петра видали только издали. То он катался на карликовой лошадке, и позади скакали верхом толстые дядьки, то шагал с барабаном впереди ребят, одетых в немецкие кафтаны с деревянными мушкетами, и опять те же дядьки суетились около, размахивая руками.
– Пустяками занимается, – говорил Алексашка, сидя под разбитой ивой.
В конце лета он ухитрился все-таки купить у цыган за полтинник худого, с горбом, как у свиньи, медвежонка. Алешка стал его водить за кольцо. Алексашка пел, плясал, боролся с медведем. Но настала осень, от дождей взмесило грязь по колено на московских улицах и площадях. Плясать негде. В избы со зверем не пускают. Да и медведь до того жрал много, – все проедал, да и еще норовил завалиться спать на зиму. Пришлось его продать с убытком. Зимой Алешка, одевшись как можно жалостнее, просил милостыню. Алексашка на церковных площадях трясся, по пояс голый, на морозе, – будто немой, параличный, – много выжаливал денег. Бога гневить нечего, – зиму прожили неплохо.
И опять – просохла земля, зазеленели рощи, запели птицы. Дела по горло: на утренней заре в туманной реке ловить рыбу, днем – шататься по базарам, вечером – в рощу – ставить силки. Алексашке много раз говорили люди: «Смотри, тебя отец по Москве давно ищет, грозится убить». Алексашка только сплевывал сквозь зубы на три сажени. И нежданно-негаданно – наскочил…
Всю старую Басманную пробежал Алексашка, – начало сводить ноги. Больше уже не оглядывался, – слышал: все ближе за спиной топали сапожищи, со свистом дышал Данила. Ну – конец! «Карауууул!» – пискливо закричал Алексашка…
В это время из проулка на Разгуляй, где стоял известный кабак, вывернула, покачиваясь, высокая карета. Два коня, запряженные гусем, шли крупной рысью. На переднем сидел верхом немец в чулках и широкополой шляпе. Алексашка сейчас же вильнул к задним колесам, повис на оси, вскарабкался на запятки кареты. Увидев это, Данила заревел: «Стой!» Но немец наотмашь стегнул его кнутом, и Данила, задыхаясь руганью, упал в грязь. Карета проехала.
Алексашка отдыхивался, сидя на запятках, – надо было уехать как можно дальше от этого места. За Покровскими воротами карета свернула на гладкую дорогу, пошла быстрее и скоро подъехала к высокому частоколу. От ворот отделился иноземный человек, спросил что-то. Из кареты высунулась голова, как у попа, – с длинными кудрями, но лицо – бритое. «Франц Лефорт», – ответила голова. Ворота раскрылись, и Алексашка очутился на Кукуе, в Немецкой слободе. Колеса шуршали по песку. Приветливый свет из окошек небольших домов падал на низенькие ограды, на подстриженные деревца, на стеклянные шары, стоявшие на столбах среди песчаных дорожек. В огородах перед домиками белели и чудно пахли цветы. Кое-где на лавках и на крылечках сидели немцы в вязаных колпаках, держали длинные трубки.
«Мать честная, вот живут чисто», – подумал Алексашка, вертя головой сзади кареты. В глазах зарябили огоньки. Проехали мимо четырехугольного пруда, – по краям его стояли круглые деревца в зеленых кадках, и между ними горели плошки, освещая несколько лодок, где, задрав верхние юбки, чтобы не мять их, сидели женщины с голыми по локоть руками, с открытой грудью, в шляпах с перьями, смеялись и пели. Здесь же, под ветряной мельницей, у освещенной двери аустерии, или по-нашему – кабака, плясали, сцепившись парами, девки с мужиками.
Повсюду ходили мушкетеры, – в Кремле суровые и молчаливые, здесь – в расстегнутых кафтанах, без оружия, под руку друг с другом, распевали песни, хохотали – без злобы, мирно. Все было мирное здесь, приветливое: будто и не на земле, – глаза впору протереть…
Вдруг въехали на широкий двор, посреди его из круглого озерца била вода. В глубине виднелся выкрашенный под кирпич дом с прилепленными к нему белыми столбами. Карета остановилась. Человек с длинными волосами вылез из нее и увидел соскочившего с запяток Алексашку.
– Ты кто, ты зачем, ты откуда здесь? – спросил он, смешно выговаривая слова. – Я тебя спрашиваю, мальчик. Ты вор?
– Это я вор? Тогда бей меня до смерти, если вор. – Алексашка весело глядел ему в бритое лицо со вздернутым носом и маленьким улыбающимся ртом. – Видел, как на Разгуляе отец бежал за мной с ножом?
– А! Да, видел… Я засмеялся: большой за маленьким…
– Отец меня все равно зарежет. Возьми, пожалуйста, меня на службу… Дяденька…
– На службу? А что ты умеешь делать?
– Все умею… Первое – петь, какие хошь, песни. На дудках играю, на рожках, на ложках. Смешить могу, – сколько раз люди лопались, вот как насмешу. Плясать – на заре начну, на заре кончу, и не вспотею… Что мне скажешь, то и могу…
Франц Лефорт взял Алексашку за острый подбородок. Мальчик, видимо, ему понравился.
– О, ты изрядный мальчик… Возьмешь мыла и вымоешься, ибо ты грязный… И тогда я тебе дам платье… Ты будешь служить… Но если будешь воровать…
– Этим не занимаемся, у нас, чай, ум-то есть али нет, – сказал Алексашка так уверенно, что Франц Лефорт поверил. Крикнув конюху что-то про Алексашку, он пошел к дому, насвистывая, выворачивая ступни ног и на ходу будто подплясывая, должно быть оттого, что неподалеку на озерце играла музыка и задорно визжали немки.
3
– Да уж будет тебе, Никита Моисеевич, как бы головка у ребенка не заболела…
Едва Наталья Кирилловна проговорила это, царь Петр бросил на полуслове читать Апостола, торопливо перекрестился запачканными в чернилах пальцами и, не дожидаясь, покуда учитель и дядька, Никита Моисеев Зотов, по уставу поклонится ему в ноги, поцеловал маменькину руку, беспомощно затрепетавшую, чтобы схватить, удержать на минутку сына, – и по скрипучим половицам и ступеням переходов и лестниц нетерпеливо понеслись его косолапые шаги, пугая прижилых старух в темных углах Преображенского дворца.
– Шапку-то, шапку, головку напечет! – слабо крикнула вслед царица.
Никита Зотов стоял перед ней истово и прямо, как в церкви, – расчесанный, чистый, в мягких сапожках, в темной из тонкого сукна ферязи, – воротник сзади торчал выше головы. Благообразное лицо с мягкими губами и кудрявой бородой запрокинуто от истовости. Благостный человек – и говорить нечего. Скажи ему: кинься, Никита, на нож, – кинется. Предан больше собачьего, но уж больно светел, легок духом. Не таков бы нужен был дядька норовистому мальчику.
– Ты, Никита Моисеевич, побольше с ним божественное читай. А то он и на царя-то не похож… Ведь не оглянешься, – скоро уж женить… До сих пор не научился стопами шествовать, – все бегает, как простой… Ну – вон, гляди…
Смотря в окно, царица слабо всплеснула руками. По двору бежал Петр, спотыкаясь от торопливости. За ним – долговязые парни из дворцовой челяди, – с мушкетами и топориками на длинных древках. На земляном валу, – потешной крепостце, построенной перед дворцом, – за частоколом стояли согнанные с деревни мужики в широких немецких шляпах. Велено было им также держать во рту трубки с табаком. Испуганно глядя на бегущего вприскочку царя, они забыли, как нужно играть. Петр гневно закричал петушиным голосом. Наталья Кирилловна с содроганием увидела Петенькины бешеные, круглые глаза. Он вскарабкался на верх крепостцы и, сердясь, ударил несколько раз мушкетиком одного из потешных мужиков, втянувшего голову в плечи.
– Не по его – так и убьет, – проговорила Наталья Кирилловна. – В кого только нрав у него горячий?
Игра пошла сызнова. Выстраивая долговязых парней с топориками, Петр опять рассердился, что его плохо понимают. Это была беда: горячась, он начинал говорить неразборчиво, захлебывался торопливостью, точно хотел сказать много больше того, чем было слов на языке.
– Что-то головка стала у него так дергаться? – сказала Наталья Кирилловна, со страхом глядя на сына. И вдруг заткнула уши.
Мужики в крепостце выкатили дубовую пушку, которую по строгому приказу царицы заряжали – чем помягче: пареной репой или яблоками, и выстрелили. И тотчас, побросав оружие, воздели руки – в знак того, что сдаются.
– Нельзя сдаваться! Биться должны! – кричал Петр, крутя и тряся головой. – Сначала! Все сначала!..
– Никита Моисеевич, затвори-ка окошко, очень шумят, голова разболелась, – проговорила царица.
Закрылось цветное окошко. Наталья Кирилловна склонила голову и чуть шевелила пальцами, перебирая афонские четки, святые раковинки. Тоскливо. От горя и слез за эти годы Наталья Кирилловна постарела, только брови да когда-то огненные темные глаза остались от ее красоты. Всегда была в черном, покрытая черным платком. Так в Угличе когда-то жила царица Марья Нагая с несчастным Димитрием… Не стряслось бы и здесь такой же беды… Правительница Софья сидит и видит – обвенчаться с Голицыным и царствовать. Уж и корону заказала для себя немецким мастерам.
В Преображенском дворце пустынно, только челядь бегает на цыпочках, да по темным углам шепчутся старухи – мамки, няньки. Царь хоть юн, но духу старушечьего не переносит: увидит, как нянька какая-нибудь, закапанная воском, пробирается вдоль стены, так цыкнет, – старушечка едва без памяти доползет до угла.
Бояре в Преображенском не бывают, – здесь ни чести, ни прибытка. Все толпятся в Кремле, поближе к солнцу. Чтобы не совсем было зазорно, Софья приказала быть при дворе царя Петра четырем боярам: князю Михайле Алегуковичу Черкасскому, князю Лыкову, князю Троекурову и князю Борису Алексеевичу Голицыну. А велик ли прок от них? Лениво слезут с коней у крыльца, подойдут к царицыной ручке, сядут и – молчат, вздыхают. Говорить мало о чем найдется с опальной царицей. Вбежит в горницу Петр, – бояре, поклонясь нецарствующему царю, справятся о его государевом здоровье, и опять вздыхают, качают головами: уж больно прыток становится царь-то, – гляди, царапина на щеке, руки в цыпках. Неприлично.
– Никита Моисеевич, сказывали мне – в Мытищах баба есть, Воробьиха, на квасной гуще гадает – так-то верно, – все исполняется… – проговорила царица. – Послать бы за ней!.. Да что-то боюсь… Не нагадала бы худого…
– Матушка государыня, чего же худого нагадать вам может подлая баба Воробьиха? – нараспев, приятным гласом ответил Зотов. – В таком разе Воробьиху в клочья растерзать мало.
Наталья Кирилловна подняла пальчик, поманила. Зотов подступил неслышно в мягких сапожках.
– Моисеич… Давеча в поварне, – стрелецкая вдова решето ягод приносила, – сказывала: Софья-де во дворце кричала намедни, и все слышали: «Жалко, говорит, стрельцы тогда волчонка не задушили с волчицей…»
У Натальи Кирилловны затряслись губы, задрожал охваченный черным платом двойной подбородок, большие глаза налились слезами.
Что ей ответить? Чем утешить? У Софьи – стрелецкие полки, за Софью – все дворянское ополчение, а у Петра – три десятка потешных дураков-переростков да деревянная пушка, заряженная репой… Никита Зотов развел ладони, закинул голову, покуда не уперся затылком в жесткий воротник…
– Пошли за Воробьихой, – прошептала царица. – Пусть уж скажет правду, а то так-то страшнее…
Долог, скучен летний день. Белые облака плывут и не плывут над Яузой. Знойно. Мухи. Сквозь марево видны бесчисленные купола Москвы, верхушки крепостных башен. Поближе – игла немецкой кирки, ветряные мельницы на Кукуе. Стонут куры, навевая дремоту. В поварне стучат ножами.
Бывало, при Алексее Михайловиче, – смех и шум в Преображенском, толпится народ, ржут кони. Всегда потеха какая-нибудь – охота или медвежья травля, конские гонки. А теперь – глядишь – и дорога-то сюда от каменных ворот заросла травой. Прошла жизнь. Сиди – перебирай четки.
В стекло чем-то бросили, Зотов открыл окно. Петр позвал, стоя под липой, – весь в пыли, в земле, потный, как мужичонок:
– Никита, напиши указ… Мужики мои никуда не годятся, понеже старые, глупые… Скорее!
– О чем указ прикажешь писать, твое царское величество? – спросил Никита.
– Нужно мне сто мужиков добрых, молодых… Скорее…
– А написать для чего мужики сии надобны?
– Для воинской потехи… Мушкетов прислали бы не ломаных и огневого зелья к ним. Да две чугунных пушки, чтобы стрелять. Скорей, скорей… Я подпишу, пошлем нарочного… – Царица, отогнув ветвь липы, склонилась в окошко: – Петенька, свет мой, будет тебе все воевать… Отдохнул бы, посиди около меня…
– Маманя, некогда, маманя, потом…
Он убежал. Царица долгим вздохом проводила сына. Зотов, сотворив крестное знамение, вынул из кармана гусиное перо и ножичек и со тщанием перо очинил, попробовал на ноготь. Еще раз перекрестясь, с молитвой, отогнул рукав и сел писать полууставом: «Божьею милостью, мы, пресветлейший и державнейший великий государь, царь и великий князь Петр Алексеевич, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец…»
Царица от скуки взяла почитать Петрушкину учебную тетрадь. Арифметика. Тетрадь – в чернильных пятнах, написано – вкривь и вкось, неразборчиво: «Пример адиции… Долгу много, а денех у мена менше тово долгу, и надобает вычесть – много ли езчо платить. И то ставися так: долг выше, а под ним денги, и вынимают всякое исподнее слово ис верхнева. Например: один ис двух осталось один. А писать сверху два, ниже ево единица, а под единицей ставь смекальную линию, под смекальной линией – число, кое получится, или смекальное число…»