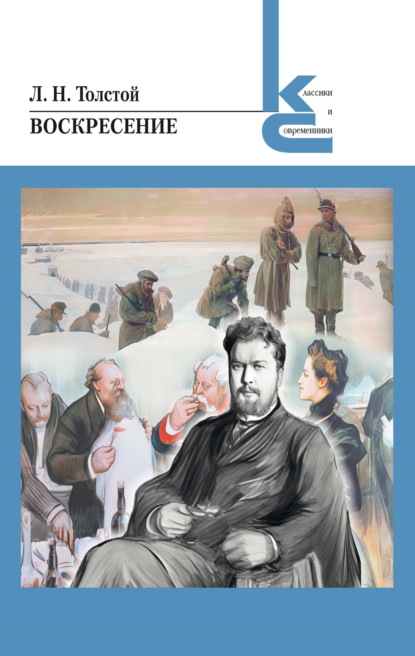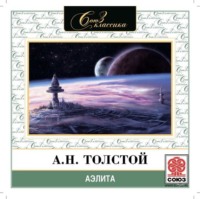Полная версия
Петр Первый
– Верка, – позвала она тихо, низко. – Про Ваньку Бутурлина не забудь напомнить, когда буду в лавре…
По руке скользнули холодные Веркины губы. В серых сумерках стала чудиться голая спина Ваньки, скручены посиневшие руки, мелькнуло лезвие, вздулись и опали у него лопатки, на месте головы – пузырь кровавый… Не невежничай!.. Софья сдержанно передохнула.
Послом из Троицы едет Троекуров. Две недели назад его же она посылала из Кремля к Петру, – вернулся, ни о чем не договорившись. Софья тогда же в сердцах не допустила его к руке. Оскорбился или струсил? Боярин ума гораздо среднего, только что страшен видом. Софья спустила с постели полные ноги, одернула подол над бархатными башмаками.
– Верка, подай ларец.
Верка поставила на перину окованный ларец, к углу его прилепила восковую свечечку, долго, – так что Софьины плечи опять сотряслись досадой, – чиркала огнивом. Завонял трут, зажгла бумажку, зажгла свечу, и над огоньком склонилась Софья, обирая со щеки падающие волосы. Перечитывала грамоту больного брата, царя Ивана, – писал он Петру, чтоб помирились, не надо-де больше крови, умолял патриарха о милосердной помощи: подвинуть к любви ожесточенные сердца Петра и Софьи.
Читая, усмехнулась недобро. Но, все равно, – придется пройти и через это унижение. Лишь бы выманить волчонка из Троицы… Задумалась она так крепко, что не слышала, как въехали в ворота. Когда в сенях густой голос Троекурова спросил о ней, Софья схватила с кровати черный плат, накинула на голову и встретила князя стоя. Он, влезши боком в узкую дверь, поклонился – пальцами до полу, выпрямился – медный лицом, высокий до потолка, глаза в тени, только большой нос блестел от огонька свечечки… Софья спросила о здоровье царя и царицы. Троекуров прогудел, что, слава богу, все здоровы. Провел по бороде, скребанул подбородок и так и не спросил о Софьином здоровье. Поняв, она похолодела. И надо бы ей сесть, не унижаться еще дальше, и не села. Сказала:
– Ночевать хочу в лавре, здесь мне голодно, неприютно. – И все силилась проглянуть сквозь тени в его глаза. Гордость ее стонала от того, что ведь вот – боится она, правительница, этого дурака в трех шубах, и от бабьего, забытого страха голова уходит в плечи.
Троекуров проговорил:
– Без охраны, без войска напрасно к нам затеяла ехать, царевна… Дороги опасны…
– Не мне бояться: войск у меня поболее, чем у вас…
– Да что в них толку-то…
– Оттого и еду без охраны, – не хочу крови, хочу мира…
– Про какую, царевна, кровь говоришь, крови не будет… Разве вор, бунтовщик Федька Шакловитый с товарищи крови-то все еще жаждут, так мы их и разыщем за это…
– Ты зачем приехал?! – сдавленно крикнула Софья… (Он потянул из кармана свиток с красной на шнуре печатью.) – Указ привез? Верка, возьми указ у боярина… А мой указ будет такой: вели лошадей впрячь, ночевать хочу в лавре…
Отстранив Веркину руку, Троекуров развернул свиток и не спеша, торжественно стал выговаривать:
– Указом царя и великого князя всея Великие и Малые и Белые России самодержца велено тебе, не мешкав, вернуться в Москву и там ждать его государевой воли, как он, государь, насчет тебя скажет…
– Пес! – Софья выхватила у него свиток, смяла, швырнула… Черный плат упал с ее головы. – Вернусь со всеми полками, твоя голова первая полетит…
Троекуров, кряхтя, нагнулся, поднял указ и, будто Софья и не бесновалась перед ним, окончил сурово:
– А буди настаивать станешь, рваться в лавру, – велено поступить с тобой нечестно… Так-то!..
Софья подняла руки, ногтями впилась в затылок и с размаху упала на постель. Троекуров осторожно положил указ на край лавки, опять поскреб в бороде, думая, – как же ему, послу, в сем случае поступить: кланяться или не кланяться? Покосился на Софью, – лежала ничком, как у мертвой торчали из-под юбки ноги в бархатных башмаках. Медленно надел шапку и вытиснулся в дверь без поклона.
20
«… А что ты мешкаешь в таком великом деле, то нет того хуже…»
Письмо дрожало в руке Василия Васильевича. Придвинув свечу, он всматривался в наспех нацарапанные слова. Снова и снова их перечитывал, силясь уразуметь, собрать мысли свои. Двоюродный брат, Борис, писал: «Полковник Гордон привел к Троице Бутырский полк и был допущен к руке, Петр Алексеевич его обнял и целовал многократно со слезами, и Гордон клялся служить ему до смерти… С ним же прибыли иноземные офицеры, и драгуны, и рейтары… Кто же остался у вас? Небольшая часть стрельцов, коим лавки свои да промыслы, да торговые бани покидать неохота… Князь Василий, еще не поздно, спасти тебя могу, – завтра будет поздно… Федьку Шакловитого завтра будем ломать на дыбе…»
Борис писал правду. С того дня, как Софью не пустили в лавру, ничем нельзя было остановить бегства из Москвы ратных и служилых людей. Бояре уезжали средь бела дня, нагло. Неподкупный и суровый воин, Гордон пришел к Василию Васильевичу и показал указ Петра явиться к Троице…
– Голова моя седа, и тело покрыто ранами, – сказал Гордон и глядел, насупясь, собрав морщинами бритые щеки, – я клялся на Библии, и я верно служил Алексею Михайловичу, и Федору Алексеевичу, и Софье Алексеевне. Теперь ухожу к Петру Алексеевичу. – Держа руки в кожаных перчатках на рукояти длинной шпаги, он ударил ею в пол перед собой. – Не хочу, чтоб голова моя отлетела на плахе…
Василий Васильевич не противоречил, – бесполезно: Гордон понял, что в споре между Петром и Софьей Софья проспорила. И он ушел в тот же день с развернутыми знаменами и барабанным боем. Это был последний и сильнейший удар. Василий Васильевич уже много дней жил, будто окованный тяжелым сном: видел тщетные усилия Софьи и не мог ни помочь ей, ни оставить ее. Страшился бесславия и чувствовал, что оно близко и неминуемо, как могила. Властью оберегателя престола и большого воеводы он мог бы призвать не менее двадцати полков и выйти к Троице – разговаривать с Петром… Но брало сомнение, – а вдруг вместо послушания в полках закричат: «Вор, бунтовщик?..» Сомневаясь, – бездействовал, избегал оставаться с Софьей с глазу на глаз и для того сказывался больным. С верным человеком тайно пересылал в Троицу брату Борису письма по-латыни, где просил не начинать военных действий против Москвы, излагал различные способы примирить Софью с Петром и возвеличивал свои заслуги и страдания на царской службе. Все было напрасно. Именно как во сне кто-то, будто видимый и непроглядный, наваливался на него, душа стонала и ужасалась, но ни единым членом пошевелить он был не в силах.
На огонек сгоревшей наполовину восковой свечи налетела муха; упав – закрутилась. Василий Васильевич положил локти на стол, обхватил голову…
Вчера ночью он приказал сыну Алексею и жене Авдотье (жившей давно уже в забросе и забвении) выехать, не мешкая, в подмосковное имение Медведково. Дом опустел. Ставни и крыльца были заколочены. Но сам он медлил. Был день, когда казалось – счастье повернется. Софья, приехав из-под Троицы, рук не умыла, куска не проглотила, – приказала послать бирючей и горланов кликать в Кремль стрельцов, гостиные и суконные сотни, посадских и всех добрых людей. Вывела на Красное крыльцо царя Ивана, – он стоять не мог, присел около столба, жалостно улыбаясь (видно уже, что не жилец). Сама, в черном платке на плечах, с неприбранными волосами, – как была с дороги, – стала говорить народу:
– Нам мир и любовь дороже всего… Грамот наших в Троице не читают, послов выбивают прочь… И вот, помолясь, села я на лошадок да поехала сама – с братцем Петром переговорить любовью… До Воздвиженского только меня и допустили… И там срамили меня и бесчестили, называли девкой, будто я не царская дочь, – не чаю, как жива вернулась… За сутки вот столечко от просфоры только и съела… В селах окрест все пограблено по указам Льва Нарышкина да Бориса Голицына… Они братца Петра опоили… По все дни пьяный в чулане спит… Хотят они идти на Москву с боем, князю Василию голову отрубить. Житье наше становится короткое… Скажите, – мы вам ненадобны, то пойдем с братцем Иваном куда-нибудь подалее искать себе кельи…
Из глаз ее брызнули слезы… Не могла говорить, взяла крест с мощами, подняла над головой. Народ глядел на крест, на то, как царевна громко плакала, как зажмурился, поникнул царь Иван… Поснимали шапки, многие вздыхали, вытирали глаза… Когда царевна спросила: «Не уйдете ли вы к Троице, можно ли на вас надеяться?» – закричали: «Можно, можно… Не выдадим…»
Разошлись. Вспоминая, что говорила царевна, крутили носами. Конечно, в обиду бы давать не следовало, но – как не дашь? Хлеба на Москве стало мало, – обозы сворачивают в Троицу, в городе разбои, порядка нет. На базарах – не до торговли. Все дело стоит, – смута. Надоело. Пора кончать. А что Василий, что Борис Голицын – одна от них радость…
Сегодня тысяч десять народу ввалились в Кремль, махали списками с Петровой грамоты, где было сказано, чтобы схватить смутьяна и вора Федьку Шакловитого с товарищами и в цепях везти в лавру. «Выдайте нам Федьку!» – кричали и лезли к окнам и на Красное крыльцо, совсем как много лет назад. «Выдайте Микитку Гладкого, Кузьму Чермного, Оброську Петрова, попа Селиверстку Медведева!»… Стража побросала оружие, разбежалась. Челядь, дворцовые бабы и девки, шуты и карлы попрятались под лестницы и в подвалы.
– Выдь, скажи зверям, – не отдам Федора Левонтьевича, – задыхаясь, сказала Софья, потянула Василия Васильевича за рукав к двери…
Не помнил он, как и вышел на Красное крыльцо, – жаром, ненавистью, чесночным духом дышал вплоть придвинувшийся народ, кололи глаза выставленные острия копий, сабель, ножей. Он – не помнил, что – крикнул, и задом вполз назад в сени… Сейчас же дверь затрещала под навалившимися плечами… Он увидел белую, с остановившимися, без зрачков, глазами Софью… «Не спасти его, выдавай», – сказал. И дверь с треском раскрылась, повалили люди. Софья спиной прижалась к нему, все тяжелей давило ее тело. Хотел ее подхватить. Воплем, низко, закричала, оттолкнула, побежала… Когда оба стояли в Грановитой палате, услышали дурной крик Федьки Шакловитого… Его взяли в царевниной мыльне.
И все же Василий Васильевич медлил бегством. Дорожная карета с вечера ждала у черного крыльца, домоправитель и несколько старых слуг дремали в сенях. Василий Васильевич сидел перед свечой, сжав голову. Муха с опаленными крыльями валялась кверху лапками. Огромный дом был тих, мертв. Чуть поблескивали знаки зодиака на потолке, и греческие боги сквозь потемки глядели на князя. Живы были лишь сожаления, раздиравшие Василия Васильевича. Не мог понять, почему так все случилось? Кто виноват в сем? Ах, Софья, Софья!.. Теперь он не скрывался от себя, – из запретных тайников вставало тяжелое, нелюбимое лицо неприкрашенной женщины, жадной любовницы, – властная, грубая, страшная… Лицо его славы!
Что он скажет Петру, что ответит врагам? С бабой приспал себе власть, да посрамился под Крымом, да написал тетрадь: «О гражданском бытии или поправлении всех дел, яже надлежит обще народу…» Сорвав с затылка кулаки, он ударил по столу… Стыд! Стыд! От недавней славы – один стыд!
Сквозь щель ставни тускло краснело… Неужели заря? Или месяц кровавый встал над Москвой? Василий Васильевич поднялся, оглянул поблескивающий сумрак сводчатой палаты со знаками зодиака над его головой… Обманули астрологи, волхвы и колдуны… Пощады не будет… Он медленно на самые брови надвинул шапку, положил в карман два пистолета и еще смотрел, как в подсвечнике догорала свеча, – фитилек свалился в растопленный воск, – треща, погас…
На темном дворе засуетились люди с фонарями. Чуть занималась заря сквозь дальнее зарево. Василий Васильевич, садясь в дорожную карету, подал управителю ключ:
– Приведи его…
В карету укладывали чемоданы, сзади привязывали коробья. Вернулся управитель, толкая перед собой гремевшего цепью Ваську Силина. Колдун громко охал, крестился на четыре стороны и на звезды. Челядинцы впихнули его к Василию Васильевичу под ноги.
– Пускай, с Богом! – тихо-важно проговорил кучер.
Шестерик застоявшихся сивых вышел крупной рысью на бревенчатую мостовую. Свернули в гору по Тверской. Улицы были еще малолюдны. Коровий пастух играл на рожке, бредя по пыли мимо ворот, откуда с мычанием выходили коровы. На папертях просыпались продрогшие нищие, чесались, переругивались. Кое-где дьячок, зевая, отворял низенькие церковные двери. В переулке кричал мужик: «Лей… лей!» – на возу с углями. Бабы выплескивали на улицу помои, высыпали золу, разинув рот, глядели на мчавшихся снежно-белых коней, на ездовых с павлиньими перьями, подскакивающих в высоких седлах, на зверовидного кучера, державшего в вытянутых ручищах двенадцать белого шелка вожжей; на двух великанов с саблями наголо на запятках кареты. И у бабы ведро валилось из рук, прохожие сдергивали шапки, иные для бережения становились на колени…
В последний раз так-то пролетел по Москве Василий Васильевич. Что будет завтра? Изгнание, монастырь, пытка? Он спрятал лицо в воротник дорожного тулупчика. Казалось – дремал. Но когда Васька Силин попробовал пошевелиться, князь со всей силой ударил его ногой…
«Во как», – удивился Васька. У князя подергивалась щека под закрытым глазом. Когда выехали на заставу, Василий Васильевич сказал тихо:
– Ложь, воровство, разбой еси твое волхвованье… Пес, страдный сын, плут… Кнутом тебя ободрать – мало…
– Не, не, не сомневайся, отец родной, все, все тебе будет, и – царский венец…
– Молчи, молчи, вор, бл… сын!
Василий Васильевич закинулся и бешено топтал колдуна, покуда тот не заохал…
В версте от Медведкова мужик-махальщик, завидев карету, замахал шапкой, на опушке березовой рощи отозвался второй, на бугре за оврагом – третий. «Едет, едет!»… Человек пятьсот дворни, на коленях, кланяясь в мураву, встретили князя. Под ручки вынесли из кареты, целовали полы тулупчика… Испуганные лица, любопытные глаза. Василий Васильевич неласково оглянул челядь, – больно уж низко кланяются, торопливы, суетливы… Посмотрел на частые стекла шести окон бревенчатого дома под четырехскатной голландской крышей, с открытым крыльцом и двумя полукруглыми лестницами… Кругом широкого двора – конюшни, погреба, полотняный завод, теплицы, птичники, голубятни…
«Завтра, – подумал, – налетят подьячие, перепишут, опечатают, разорят… Все пойдет прахом…» С важной неторопливостью Василий Васильевич вошел в дом. В сенях кинулся к нему сын Алексей, повадкой и лицом, покрытым первым пухом, похожий на отца. Прильнул дрожащими губами к руке, – нос холодный. В столовой палате Василий Васильевич, словно с досадой, нехотя перекрестился, сел за стол против веницейского зеркала, где отражались струганые стены, в простенках – шпалерные ковры, полки с дорогой посудой… Все пойдет прахом!.. Налил чарку водки, отломил черного хлеба, окунул в солонку и не выпил, не съел, – забыл. Облокотился, опустил голову. Алексей стоял рядом, не дыша, готовый кинуться, рассказать что-то…
– Ну? – спросил Василий Васильевич сурово.
– Батюшка, были уж здесь…
– Из Троицы?
– Двадцать пять человек драгун с поручиком и стольник Волков…
– Вы что сказали?
– Сказали, – батюшка-де в Москве, а сюда и не думает, мол… Стольник сказал: пусть князь поторопится к Троице, коли не хочет бесчестья…
Василий Васильевич криво усмехнулся. Выпил чарку, жевал хлеб и не чувствовал вкуса. Видел, что сын едва себя сдерживает, – плечо повисло, ступни по-рабски – внутрь, половица мелко трясется под ним. Чуть было Василий Васильевич не гаркнул на сына, но взглянул в испуганное лицо и стало его жаль:
– Не дрожи коленкой, сядь…
– И мне, батюшка, приказали быть с тобой к Троице…
Тогда Василий Васильевич побагровел, приподнялся, но и тут удержала его гордость. Прикрылся ресницами. Налил вторую чарку, отрезал студня с чесноком. Сын торопливо пододвинул уксусницу…
– Собирайся, Алеша, – проговорил Василий Васильевич. – Отдохну, – в ночь выедем… Бог милостив… (Жевал, думал горько. Вдруг испарина выступила на лбу, зрачки забегали.) Вот что надо, Алеша: мужика одного с собой привез… Поди присмотри, чтоб отвезли его под речку, в баню, да заперли бы там, берегли пуще глаза…
Когда Алексей ушел, Василий Васильевич опустил нож с дрожащим на конце его куском студня, ссутулился, – морщинами собралось лицо, оттянулись мешочки под веками, отвалилась губа…
* * *Васька Силин сидел в баньке, на реке под обрывом. Весь день кричал и выл, чтоб дали ему есть. Но безлюдно вокруг шумели кусты, плескалась плотва в речке, спасаясь от щук, да стая скворцов, готовясь к перелету, летала и переливалась крылышками в синеве, что видна была колдуну сквозь волоковое окошко. Утомились птицы, сели на орешник, защебетали, засвистели, не пугаясь человеческих вздохов…
«Родная моя Полтавщина, – шептал колдун, – черт меня занес в проклятую Московщину! Чтоб вас чума взяла, чтоб вам всем врозь поразойтись, чтоб все города у вас позападали…»
Закатное солнце залило светом узкое окошечко и опустилось за лесные вершины. Васька Силин понял, что есть не дадут, и лег на холодный полок, под голову положил веник. Задремал и вдруг вскинулся, с испугу выставил бороду: на пороге стоял Василий Васильевич. На голове черная треухая шляпа, под дорожным тулупчиком черное иноземное платье, хвостом торчит шпага…
– Что теперь скажешь, провидец? – спросил князь странным голосом.
Сплоховал Васька Силин, – задрожал, затрясся… А понять бы ему, что оставалась еще вера у князя в его провиденье… Схватить бы князя сильно за руку да завопить: «К царю на смертную муку идешь! Иди, не бойся… Четыре зверя когти разжали… Четыре ворона прочь отлетели… Смерть отступилась… Вижу, все вижу…» Вместо этого Васька со страху, с голоду понес околесицу все про те же царские венцы, заплакал, стал просить:
– Отпусти меня, Христа ради, на Полтавщину… От меня ни вреда, ни проносу не будет…
Василий Васильевич бешеными глазами смотрел на него с порога. Вдруг выскочил, привалил дверь из предбанника поленом, навесил замок… Забегал около бани. Васька понял: хворостом заваливает!.. Закричал: «Не надо!»… Князь ответил: «Много знаешь, пропади!»… И дул, покашливая, раздувая трут. Потянуло гарью. Васька схватил шайку, разбил ее о дверь, но двери не выбил. Просунул боком голову в волоковое окошечко, стал кричать, – глотку забило дымом… Хворост, разгораясь, затрещал, зашумел… Между бревен осветились щели. Огонь поднимался гудящей стеной. Васька полез под самый низ полка, – спастись от жара. Скорежилась крыша. Пылали стены…
В ночном безветрии, гася звезды, полыхало пламя высоко над речкой. И долго еще красноватые тени от шести сивых коней, от черной кожаной кареты, уносившейся к ярославской дороге, летели по жнивьям, то растягивались в глубину сырого оврага, то взлетали на косогоры, то, скользя, ломались на стволах березовой рощи…
– Где горит? Отец… Не у нас ли? – не раз и не два спрашивал Алексей.
Василий Васильевич не отвечал, дремля в углу кареты…
21
На воловьем дворе в подземелье, где в Смутное время были пороховые погреба, теперь – подвалы для монастырских запасов, плотники расчистили место под низкими сводами, утвердили меж кирпичных столбов перекладину с блоком и петлей, внизу – лежачее бревно с хомутом – дыбу, поставили скамью и стол для дьяков, записывающих показания, и вторую, обитую кумачом, скамью для высших, и починили крутую лестницу – из подполья наверх, в каменный амбар, где в цепях второй день сидел Федька Шакловитый.
Розыск вел Борис Алексеевич. Из Москвы, из Разбойного приказа, привезли заплечного мастера, Емельяна Свежева, известного тем, что с первого удара кнутом заставлял говорить. На торговых казнях у столба он мог бить с пощадой, но если бил без пощады, – пятнадцатым ударом пересекал человека до станового хребта.
Допрошено было много всякого народу, иные сами приносили изветы и давали сказки. Удалось взять Кузьму Чермного. Хитростью захватили близкого Софье человека, пристава Обросима Петрова, два раза отбившегося саблей от бердышей и копий. Но Никита Гладкий с попом Медведевым ушли, для поимки их посланы были грамоты во все воеводства.
Очередь дошла до Федора Шакловитого. Вчера на допросе Федька на все обвинения, читаемые ему по изветам, сказкам и расспросам, отвечал с горячностью: «Поклеп, враги хотят меня погубить, вины за собой не знаю…» Сегодня приготовили для него Емельяна Свежева, но он этого не знал и готовился по-прежнему отпираться, что-де бунта не заводил и на государево здоровье не умышлялся…
Петр в начале розыска не бывал на допросах, – по вечерам Борис Алексеевич приходил к нему с дьяком, и тот читал опросные столбцы. Но когда были захвачены Чермный и Петров с товарищами – Огрызковым, Шестаковым, Евдокимовым и Чечеткой, когда заговорили смертные враги, Петр захотел сам слушать их речи. В подполье ему принесли стульчик, и он садился в стороне, под заплесневелым сводом. Уперев локти в колена, положив подбородок на кулак, не спрашивал, только слушал. Когда в первый раз заскрипела дыба и на ней повис, голый по пояс, широкогрудый и мускулистый Обросим Петров, – рябоватое лицо посерело, уши оттянулись, зубы, ощерясь, захрустели от боли, – Петр подался со стулом в тень за кирпичный столб и, не шевелясь, сидел во все время пытки. Весь тот день был он бледен и задумчив. Но раз за разом попривык и уже не прятался.
Сегодня Наталья Кирилловна задержала его у ранней обедни: патриарх говорил слово, поздравляя с благополучным окончанием смуты. Действительно, – Софья была еще в Кремле, но уже бессильная. Оставшиеся в Москве полки посылали выборных – бить челом царю Петру на прощение и милость, соглашались идти хоть в Астрахань, хоть на рубежи, только бы оставили их живу с семьями и промыслами.
Из собора Петр пошел пешком. На воловьем дворе полно было стрельцов. Зашумели: «Государь, выдай нам Федьку, сами с ним поговорим…» Нагнув голову, торопливо махая руками, он побежал мимо к ветхому амбару, срываясь на ступеньках, спустился в сырую темноту подвала. Запахло кожами и мышами. Пройдя между кулей, мешков и бочек, толкнул низкую дверь. Свеча на столе, где писал дьяк, желто освещала паутину на сводах, мусор на земляном полу, свежие бревна пыточного станка. Дьяк и сидевшие рядом на другой скамье – Борис Алексеевич, Лев Кириллович, Стрешнев и Ромодановский – важно поклонились. Когда опять сели, Петр увидел Шакловитого: он на коленях стоял в шаге от них, кудрявая голова уронена, дорогой кафтан, – в нем его взяли во дворце, – порван под мышками, рубаха в пятнах. Федька медленно поднял осунувшееся лицо и встретил взгляд царя. Понемногу зрачки его расширились, красивые губы растянулись, задрожали будто беззвучным плачем. Весь подался вперед, не сводя с Петра глаз. Покосился на царя и Борис Голицын, осторожно усмехнулся:
– Прикажешь продолжать, государь?
Стрешнев проговорил сквозь густые усы:
– Воруй и ответ умей давать, – а что же мы так-то бьемся с тобой? Государю хочется знать правду…
Борис Алексеевич повысил голос:
– У него один ответ: слов таких не говаривал да дел таких не делывал! А по розыску – на нем шапка горит… Пытать придется…
Шакловитый, будто толкнули его, побежал на коленках в сторону, как мышь, – хотел бы спрятаться за вороха кож, за бочки, воняющие соленой рыбой… И – припал. Замер. Петр шагнул к нему, увидел под ногами толстую бритую Федькину шею. Сунул руки в карманы ферязи. Сел, – важный, презрительный, и – сорвавшимся юношеским голосом:
– Пусть скажет правду.
Борис Алексеевич позвал:
– Емеля…
За дыбой из-за свода вышел длинный, узкоплечий человек в красной рубахе до колен. Шакловитый, должно быть, не ждал его так скоро, – сел на пятки, – голова ушла в плечи, глядел на равнодушное лошадиное лицо Емельяна Свежева, – лба почти что и нет, одни надбровья, большая челюсть. Подошел, как ребенка, поднял Федьку, тряхнув – поставил на ноги. Бережливо и ловко, потянув за рукава, сдернул кафтан, отстегнул жемчугом вышитый ворот; белую шелковую рубаху разорвал пальцем до пупа, сдернул, оголил его до пояса… Федька хотел было честно крикнуть, – вышло хрипло, невнятно:
– Господи, все скажу…
Бояре на скамье враз замотали головами, бородами, щеками. Емельян завел назад Федькины руки, связал в запястьях, накинул ременную петлю и потянул за другой конец веревки. Изумленно стоял Шакловитый. Блок заскрипел, и руки его стали подниматься за спиной. Мускулы напряглись, плечи вздувались, он нагибался.
Тогда Емельян сильно толкнул его в поясницу, присев, поддернул. Руки вывернулись из плеч, вознеслись над головой, – Федька сдавленно ахнул, и тело его с раскрытым ртом, расширенными глазами, с ввалившимся животом повисло носками внутрь на аршин над землей. Емельян укрепил веревку и снял с гвоздя кнут с короткой рукояткой…
По знаку Бориса Алексеевича дьяк, воздев железные очки и приблизив сухой нос к свече, начал читать:
– «И далее на расспросе тот же капитан Филипп Сапогов сказал: „В прошлом-де году, в июле, а в котором числе – того не упомнит, приходила великая государыня Софья Алексеевна в село Преображенское, а в то время великого государя Петра Алексеевича в Преображенском не было, и царевна оставалась только до полудня. И с нею был Федор Шакловитый и многие разных полков люди, и Федор взял их затем, чтобы побить Льва Кирилловича и великую государыню Наталью Кирилловну убить же… В то время он, Федор, вышел из дворца в сени и говорил ему, Филиппу Сапогову: „Слушайте, как учинится в хоромах крик…“ А того часу царица загоняла словами царевну, крик в хоромах был великий… “Учинится-де крик, будьте готовы все: которых вам из хором станем давать, вы их бейте до смерти…“»