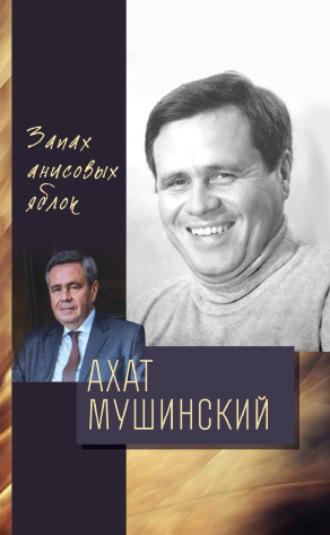
Полная версия
Запах анисовых яблок
Далеко-далеко за холмом воскресало невидимое солнце.
Она лежала рядом, прижав простыню подбородком, и смотрела на меня.
Несмотря на то, что я выпил почти всю бутылку один, быстро захмелел и потом, и после всего… как-то незаметно провалился в сон, я сразу же всё вспомнил, будто и не засыпал. Голова была тяжёлой, и душу сверлила непонятная боль. Опять вру. Понятная, примитивная, с банальным названием «А поутру они проснулись».
Нет, не засыпал я, просто разум мой на некоторое время отрешился от меня, скотины, чтоб вернуться и напомнить, что родился-то я человеком. Я и ей сказал, что не спал.
– Спал, спал, – улыбнулась она, – очень сладко спал.
– Вообще-то я страдаю бессонницей. А тут каких-то полбутылки выпил… – говорил я, а сам тайком наблюдал за ней. Но почему я за ней наблюдал? Обычно после случайной связи, и особенно под этим делом, становилось противно – не то что на объект минутной слабости смотреть (тьфу, какая железобетонная конструкция! И это о женщине! Но ни шагу назад. Вперёд, вперёд!)… не то что на неё смотреть, а и глаз не хотелось разлеплять. А тут смотрел и смотрел… Запутался вконец. То тяжело было на душе, то не так, как всегда после…
– Сколько же я спал? – спросил я.
– Один час сорок минут, – выдала она, как компьютер, информацию.
– Ответ, достойный математика.
– Остроумие, недостойное поэта.
– И всё это время ты подглядывала за мной?
Когда я выпью, то становлюсь язвительным. И ещё даже хуже – злым. Мне не раз говорили. С какой-то безмолвной и нелепейшей злостью я ведь и то своё доброе дело сотворил, ту её неслыханную просьбу выполнил. Слыханное ли дело, чтоб к тебе пришла женщина и попросила, чтобы её (слово «удовлетворили» в нашем с нею случае, понятно, не подходит)… чтобы ты её обслужил… Не намёками-полунамёками попросила, не глазками, не ножкой под столом, не случайно расстёгнутой кофточкой на груди или распахнувшимся разрезом юбки выше колен, а вот так, членораздельно, словами, вслух… Однако чего не вычеркнешь, того не вычеркнешь – я жалел её, по-хорошему как-то жалел, и щадил. И злился, и жалел – бывает, оказывается. Я зло целовал её и тискал, обшарил всё её женское, но при этом ни разу не прикоснулся к тому, что стесняло её больше всего, к её, так сказать, пожизненному кресту…
Но до злости и до жалости было удивление. Не недоумение, когда она попросила, это недоумение – само собою. А именно удивление. Впрочем, не знаю. Дело в том, что она пришла ко мне со своей простынкой, которую извлекла из сумочки, не примеченной мной до самого последнего момента. Надо же так вычислить меня, прийти ко мне с такой уверенностью! Тогда как понимать её слёзы, мольбу? Всё нормально, всё естественно – решалось, сбудется ли расчёт. Расчёт, расчёт… Но как иметь такой выверенный расчёт, не имея никакого практического опыта? Я, как опытный донжуан и ловелас (а поэт им всегда должен быть), сразу заметил, что она в любовных делах чрезвычайно неопытна, даже как будто книг не читала. Но всё у неё всё равно получалось как-то естественно. Естественно и старательно, как у ребёнка во время серьёзной игры.
…Она что-то говорила мне, а я возьми да и перебей её какой-то изжёванной словесной колючкой, какая в голову взбредёт лишь под градусом да после овладения… (Какого овладения? Вернее, кого кем?) Короче, сострил я, думал, оценит, посмеётся или парирует, но она вдруг вспыхнула и двинулась, чтобы уйти. Глаза её сделались пустыми, невидящими, всё живое пролилось из них. Не может какую-то пуговку застегнуть, не может… Тут я остановил её. Да, остановил её, просил прощения и просил побыть ещё немножко. И вот, по-моему, с этого-то момента я стал настоящим мужчиной по отношению к ней, а она полнокровной женщиной. Настоящим мужчиной – это слишком, конечно. Бурбоном в постели перестал быть – это верно.
Я схватил её за руку, посадил… Нет, я сам вскочил за ней следом, какие-то слова стал говорить – не помню… Помню, она ничего не ответила, легонько коснулась моего шрама на брови:
– Кто тебя?
– Сам, в детстве, об угол табуретки…
– А это?
– А это… – Я стал рассказывать о боевых зарубках моего лихого детства. Да, детства, потому что все они были оттуда.
Так деликатно она простила мне мою злую не злую, скорее дурацкую, глупую колючку. Как мать с ребёнком, взяла и переключила меня незаметно и ласково на другое:
– А это…
Говорят, детство – единственная и настоящая родина, взрослая же жизнь, хоть в родной деревне, хоть в родном закоулке родного города – чужбина. Поэтому всё, что связано с детством, светло и безвинно, поэтому постоянная по нему ностальгия, поэтому соприкосновение с ним – живительный глоток родниковой воды в выжженной пустыне. И, вспоминая своё детство, рассказывая о нём человеку, который сохранил его до встречи со мной (а все девственницы, я считаю, – дети), я почувствовал какое-то необыкновенное облегчение, просветление какое-то и родственность с этим прожившим четверть века ребёнком, сидящим рядом и прикасающимся тонкими пальчиками к отметинам моей босоногой эры. Желчь и подозрительность вернулись в свои норы, что-то старое внутри рассыпалось в прах и что-то новое родилось.
Пуговичку, которую она с трудом застегнула, я расстегнул…
Когда она ушла, я взял бутылку и посмотрел в горлышко на свет, на солнце сквозь бутылочное дно, которое осталось без капли влаги.
Что это было?На другой день вечером она пришла на пятьдесят две минуты позже условленного.
В течение тех пятидесяти двух минут я не переставал ловить себя на мысли, что, хоть и держу в руках книгу, на самом же деле занимаюсь одним-единственным делом – ожиданием. А ведь утром, после её ухода, силясь заснуть, забыться, пропустив завтрак и процедуры, я надеялся в обед сказать ей о своём нездоровье и отложить нашу встречу до лучших времён. Но в столовой я её не увидел, не нашёл и в номере, лишь с соседкой её, благочестивой старушкой, повидался и, удручённый, вернулся к себе, чтобы уж больше сегодня не выходить, попытаться одолеть депрессию за пишущей машинкой. Работа, как и следовало ожидать, не пошла. Я попусту изводил бумагу и себя, но продолжал упорствовать, понимая, что всё равно ничего путного не выйдет, но что было делать?
По всем правилам заваренный чай бесполезно стыл на столе. Сама же, в конце концов, время назначила, представительница точных наук…
Я бросил книгу, загулял по комнате из угла в угол. Какие необязательные люди эти женщины! Было бы что выпить, махнул б да завалился спать. Вышел на балкон. Мой зелёный холм потемнел, коровы с него давно убежали.
Не слышал я, как дверь открылась, но взметнувшаяся на сквозняке занавеска сразу вернула мне равновесие. Надо же, разволновался! Как мальчишка. Точно в первый раз… Это она впервые. И этот первый у неё – я. И никуда она не денется, пока сам того не захочу. Ещё и захочешь не развяжешься, поведись с девственницей… Однако развязываться пока не хотелось, вернее, завязывать (интересное слово «завязывать». Можно сказать: завязывать отношения, а можно: завязывать с ней, то есть рвать отношения). Размышляя так, я гоголем шагнул в комнату.
Она стояла на пороге, так же близоруко щурясь, в том же тёмно-синем учительском костюме, с сумочкой, повисшей на согнутой руке, и, оправдываясь, говорила:
– Стучу, стучу… Думала уж, дома никого…
На сей раз отпустил я её, когда уже захлопали утром двери первых «жаворонков», заскрипели половицы…
Последующие ночи были повторением предыдущей. Замечу существенное обстоятельство: дела свои мы с ней творили без помощи алкоголя.
Итак, днём мы принимали грязи, завтракали, обедали, я работал у себя, она участвовала в культмассовых мероприятиях, а ночью… А ночью мы познавали друг друга.
Конспирации нашей хватило на неделю. Затем всё перемешалось – день, ночь… ночь, день… Рукопись свою я забросил… Что это было со мной? Одно могу сказать точно: стабильность. Я перестал нервничать, шарахаться из настроения в настроение, я, знаете ли, стал добрее и внимательнее. Не к себе, как всегда, а к другим, к ней.
Я и предположить не мог, какое сердце бьётся под лацканом её пиджака. Но сперва, и более всего, меня удивили познания математички средней школы в литературе. Она наизусть читала то, что я, так сказать, профессионал, слышал впервые. Она отшучивалась:
– Знать стихи – что! Творить вот!..
Скажете: в постели литературой занимались? И занимались! А что?
Меня ещё поразило то, что в общении с нею я сильно разоткровенничался. Порой признавался в таких вещах, в которых себе-то не признавался. Обычно с женщинами словоохотливость моя била ключом лишь до постели, а тут… и до, и после, и во время…
Но главная невероятность заключалась в том, что я ей и в любви объяснился. Я никому не говорил, что люблю, если этого чувства у меня не было. Зачем врать? Были у меня свои принципы, были. Ну а с ней? Я подумал, если этих слов, ради которых человек, по сути дела, и на свет появляется, я не скажу ей, то кто скажет? Именно так я подумал, когда шепнул ей волшебное слово «люблю». В детстве мне внушали: волшебным словом является слово «пожалуйста», теперь-то я знаю – «люблю». Ни «пожалуйста» (одно из слов обыкновенного этикета), ни красота (пусть Достоевский и близок к истине), а Любовь, и только Любовь спасёт мир.
Ответных объяснений в любви я не дождался. Но зачем слова? И без слов всё было ясно. И не только мне, а и всем, всему санаторию. Мы были центром внимания, о нас судачили, нас разглядывали, на нас оглядывались, мы были гвоздём заезда, а может, и всего сезона. Но меня это мало волновало.
Меня волновало, почему же ей не сказать мне того, о чём говорили её глаза, руки, поступки?.. Ведь они не оставляли никаких сомнений. С другой стороны, я же прекрасно знал, зачем она ко мне пришла, с каким математическим расчётом. Это унижало и злило меня. Но и побуждало вести борьбу за достоинство, чтобы расчёт её, если он и был, перерос в человеческое чувство. А то бык-осеменитель я, и только.
Эта мысль навязчиво преследовала меня, и я изо всех сил старался, говоря попросту и откровенно, влюбить её в себя. Нормальные мужики хотят влюбить в себя женщин до постели, а я вот захотел после. Для меня не постель была важна, тут уж другая игра пошла, другие струны были задеты. И я из кожи вон лез, чтобы быть хорошим, великодушным, красивым, добрым, талантливым, честным, возвышенным, утончённым, мужественным, необыкновенным. И я таким, ей-богу, был.
Я сказал – честным. И точно. Я, например, рассказал ей о своих былых связях… Не обо всех, само собою разумеется, но о главных. Сперва и не хотел. К чему? Однако она так пододвинула меня к этому, что я и сам не помню, как выложил одну из моих историй. Она сказала, что ревнует меня к моему прошлому, к женщинам, которые ко мне прикасались. Ревнует? Ого, это уже то, что нужно… Ведь ревность – это почти любовь. Я рассказал ещё одну историю, самую свою сокровенную и драматичную, и получил вдруг такое сладкое душевное удовлетворение, позабыв при этом первоначальную цель своего рассказа. Мне стало легко, точно я святому исповедался, будто матери признался в какой-то своей страшной шалости. Непередаваемо… Надо было только незаметно и внимательно наблюдать, что я и делал. Сначала лицо её оставалось спокойным. Но на второй истории она занервничала, отвела взгляд в сторону, слушает, на меня не смотрит… Я уж о чём-то другом стал говорить, когда губы её детские дрогнули, задрожали, сломались, и она бросилась было прочь от меня, но я преградил ей дорогу.
На какой день это было, на какое утро? Она отстранилась от меня, дёрнула шторы в разные стороны, они разлетелись, и солнце изгнало из комнаты остатки предрассветных полутеней и полутёмных моих опытов.
Но ненадолго.
Когда она успокоилась, я подумал: не слишком ли быстро успокоилась? Решила задачу со всеми неизвестными? Узнала, какой я подлинный? Подлинный и подленький? Или просто не смог возбудить в ней полноценного чувства ревности? Значит – и любви? Значит, остаётся одно – расчёт?
Так я терзался с ней. С красавицами-то проще, всё у них снаружи, а эта… как мутное озеро посреди нашего города, в котором, говорят, ханская казна покоится, и никто не может до неё добраться. Глубина озера большая, толща ила с многоэтажный дом… Специальные экспедиции снаряжались, водолазы лазали – без толку. Так и я с ней. Продолжая сравнение с озером, накупался, наглотался, а главная, глубинная тайна её так и осталась тайной.
На мостуМы стояли с ней на стареньком мосту через безымянную речушку и следили, как за лугами садится на макушки деревьев далёкого леса по-крестьянски натруженное, красное солнце. В затоне неистово квакали лягушки, по большаку, незаметно приближаясь, пылила корова, погоняемая босоногим одуванчиком в вислом, с чужого плеча пиджаке. Это был последний наш с нею день в санатории.
– Скоро вернёмся… – сказала она. – Скоро вернёмся – каждый к своей жизни.
– Да-а…
– Ты выпустишь книжку. Шумный успех, поклонницы…
– Да-а…
– У тебя много поклонниц?
– Уйма.
– К которой ты в первую очередь-то?
– Там видно будет.
– Ты выпустишь книгу, а я выпущу в свет своих питомцев, школяров своих неугомонных, и возьмусь за новых, совсем ещё беспомощных, желторотых, возьму каждого за ручку… Ты помнишь свою первую классную руководительницу?
– Я всех их помню, но вот помнят ли они меня?
– Разве всех учеников упомнишь?
– Точно. Недавно встретил свою первую учительницу, – сказал я, отвернувшись от стремительно исчезавшего солнца.
Она не последовала моему примеру, продолжала следить, как дородное, расплывшееся солнце погружается в зыбкую серо-голубую дымку за лесом.
– И что?
– Я долго разъяснял, кто я такой. Думал, приятно будет, а ей всё равно. А ведь в любимчиках ходил. Как ни странно, помнит меня та, которая в школе терпеть меня не могла. Злющая была. Теперь ничего, мило здороваемся, беседуем.
– Вот и солнце зашло, – вздохнула она.
– На следующий год опять возьмёшь путёвку в какой-нибудь санаторий…
– Два года подряд не получится. Да если и возьму, всё равно… Тебя-то там не будет.
– Другого найдёшь, – пошутил было я, но она шутки не приняла. Не надо было мне так… Комплимента захотелось, ласкающих душу слов? Нет, признания, полновесного признания… «Тебя-то там не будет» – это, конечно, существенно. Но неужели нельзя без обиняков сказать то, что чувствуешь? И я спросил. Не помню точно как, какими словами, но она с полуфразы поняла, я и доспросить не успел.
– Не надо сейчас, – прикрыла она мне ладошкой рот.
– А когда?
– Потом.
– Когда потом? Когда разъедемся?
Это был последний наш с нею вечер, и моя досада была понятна. Я сказал укоризненно, что я ей в любви объяснился чуть ли не в первый же день… Она ответила:
– Это и обидело.
– Обидело? – меня точно ледяной водой окатили. – Ничего себе!..
– Да, обидело. Ты признался мне в том, чего в тебе не было. Я была удивлена. Такими словами разбрасываться… И, откровенно говоря, не поверила. Неужели ты посчитал меня такой глупышкой? Или…
– Или что?
Она не ответила. По скрипучему настилу моста застучала копытами усталая корова. Монотонно тенькало на её шее ботало. Было в том теньканье, в том смешанном запахе бескрайних лугов, навоза и парного молока что-то бесконечно длящееся, что-то вечное и незыблемое. Но не для нас с нею.
Глава вторая
Была веснаКак-то, не помню уж по какому поводу, заполнял я анкету, писал автобиографию и вот о чём подумал. Сколько за одну свою единственную жизнь человек автобиографий пишет! И всё в них, родимый, добросовестно укажет – когда в институт поступил, где оперился, на повышение двинулся… А вот когда ты впервые влюбился, когда затаив дыхание поцеловал свою избранницу, когда на земле этой наследник твой появился и впервые улыбнулся прелестным беззубым ртом – это, оказывается, не столь важно для человека, это фиксировать не надо, лишнее. Всё-то у нас с ног на голову, всё перевёрнуто, передёрнуто, не по-человечески. А ведь если здраво подумать, только то в жизни и важно, что приносит новую жизнь, только то и смысл имеет. Чего мудрствовать!
С бывшей женой моей я учился в одной группе. В этом чисто мужском по своему профилю учебном заведении девчат было почему-то не меньше нас, и они, вчерашние чебурашки, или, как мы их называли, – «промокашки», здесь вдруг как-то разом превратились в представительниц…
И среди них, представительниц, стало быть, прекрасной части человечества, моя будущая (читай: бывшая) жена была, скажу беспристрастно, наиболее заметной и привлекательной. Я думал, старшекурсница в нашу аудиторию зашла навестить младшую приятельницу, когда она, обдав «духами и туманами», прошла к своей подруге и присела к ней за стол около окна. Не стану описывать её внешность, скажу лишь: это была яркая блондинка, на которую несколько дней напролёт взирала, вывернув шеи, поочерёдно и скопом вся группа.
Я тоже разместился за последним столом, но у двери, через ряд от неё. Моё внимание тоже притягивала «камчатка» у окна. В ту сторону записки шли со всего света, в той стороне постоянно шептались и хихикали, там, в углу у окна, был центр Вселенной. Однако, помню, первое впечатление о ней было почему-то неблагоприятное. Насторожила, испугала броская красота её? Раскованность, свобода движений, слов, поступков, которые можно было принять за распущенность? Вполне возможно, вполне… Но вот прислала она мне записку: «Чего скучаешь?» – и…
(Я всё вспоминаю, как она подписала эту записку. Смешным именем каким-то… Но никак не вспомню.)
…И на неё перестали оглядываться, потому что, во-первых, попривыкли; во-вторых же, и в главных, её внимание застопорилось на моей персоне. Умел я напустить на себя этакого поэтического тумана. И внешность у меня была соответствующая, не Аполлон Бельведерский, но… Но мешков под глазами тогда ещё не было, и лицом я был побледнее. И сработало. Долго я хранил эту её первую записку. И все остальные хранил – записок мой старый портфельчик, в который у нас дома никто не заглядывал, в который совсем никто не заглядывал, включая и меня самого, заглянувшего потом лишь ради того, чтобы, не перечитывая, уничтожить их.
Сработало также то, что любовью ко мне воспылала и её подруга. А аукцион, как известно, очень хорошо подстёгивает. Раз, два, три… и безделушка превращается в драгоценность, реликвию, икону, во что угодно, но непременно дороже самоё себя во много раз. Вдобавок – откуда они это взяли?! – подругам взбрело в голову, что я чудесно играю на скрипке и по скромности талант свой скрываю. Воистину не кровь – фантазия влюблённые сердца питает.
Выбора мне делать не пришлось. Моя будущая (бывшая) жена заявила о своих правах на меня уверенно и властно, не оставив подруге никаких шансов. Её подруга стала автоматически и моей подругой. В компании были ещё два гвардейца, в одного из которых она (подруга) не замедлила после меня влюбиться. Мы настоятельно советовали «счастливчику» разуть глаза, плели всем миром сети и дружно подталкивали его в них: «какую Нефертити тебе ещё надо?!» Не получилось. Так, коммуной, и ходили впятером. С уроков в кино сбегали, организовывали коллективные пьянки – на языке преподавателей, в нашем же понимании – пикники, домашние дискотеки… Таким образом, жизнь группы МХ-ДРГ- 214 (надо же, не забыл!) вращалась вокруг нашей великолепной пятёрки, а жизнь пятёрки – вокруг меня с будущей (…) женой.
Это по анкете с будущей. На самом же деле мужем и женой мы были уже со второго семестра, с майской поездки на пароходике за город. И дату назову – с восьмого мая.
Помню, собралась ехать вся группа, но что-то расстроилось, и поехала лишь «пятёрка». У нас было с собой две палатки. В одной из них и состоялась наша первая брачная ночь. Как сухо я и скупо пишу, а ведь это была моя первая близость с женщиной, девушкой, девочкой. Это была будущая мать моей будущей дочери.
Девятого мая, значит. А до этого…
Куда она девается?…была зима.
Кстати, забыл: учиться поступили мы после восьмилетки. И в том памятном мае было нам с ней всего лишь по пятнадцать годков от роду. Это уже после девятого числа нам стукнуло по 16 (майские мы с нею, по звёздному календарю – близнецы). Так что, достопочтенные папаши и мамаши, будьте бдительны со своими пятнадцатилетними малышами.
Итак, до весны, стало быть, была зима.
Впрочем, нет, не буду я описывать ту звёздную и пушистую зиму перед тем маем, не пойдёт губерния писать о том, как в стужу целовались мы в нелюдимом, утопшем в сугробах парке, как коченели ноги в полуботиночках и как иней искрился на её белоснежной чёлке (не поймёшь – то ли снег на лбу, то ли локоны её белокурые из-под шапки выбились), и как тепло было у неё дома – сидеть у урчащей печи с урчащим котом на коленях и будто бы делать уроки, и как сладко было после ночного перехода через околевший город засыпать в отчем доме с мыслью о новой встрече…
Всё это можно было бы описать, расписать, и я это собирался добросовестно сделать, но чувствую: надо скорее идти дальше, дальше, минуя умопомрачительную зиму, минуя откровенный май – май, ошарашивший меня невиданными мироощущениями. Да, природа перед неминуемыми муками обдаёт человека девятым валом безумного счастья. Но дальше, дальше… «О любви-с до брака всё известно, – любит повторять один мой знакомый штабс-капитан, – а вот после-с куда она девается? Или её после-с вообще богом не предусмотрено?»
Глупый и позорныйОдна моя глава – это один мой рабочий день за пишущей машинкой, с помощью которой я набираю скорость и держу её до самопроизвольной остановки. Одна глава – это одни мои рабочие сутки, в которых может быть и двадцать четыре часа, и час… Интересно, за сколько листо-часов, главо-суток я вновь проживу ту жизнь, которую я однажды уже прожил? Говорят, невозможно войти в одну и ту же реку дважды. А я вот пытаюсь. Мазохизм какой-то! Пытаюсь воскресить почившую в бозе жизнь. Как убийца к месту убийства, всё возвращаюсь к ней и возвращаюсь.
На втором курсе моя будущая законная (…) жена объявила мне, что собирается стать матерью. Нет, просто она не очень точно выразилась, употребив всем известный штамп, и не собиралась, и не хотела она стать матерью. Матерью в шестнадцать лет. Или ей тогда исполнилось бы шестнадцать?.. Какая разница – шестнадцать, только-только семнадцать?! Всё равно несовершеннолетство. Что скажут родители, что скажут в техникуме? «Допрыгались», – скажут мудрые педагоги-провидцы. Где и на какие шиши жить? Жить… если её мамаша не убьёт её, а меня – мой папаша. Нас обуял ужас. Я лишился сна. Я днём и ночью думал об одном и том же – что делать, что делать? Жизнь зашла в тупик так бездарно, бестолково… Ещё вчера были какие-то мечты, строились какие-то планы. Всё рушилось, я задыхался в петле, ловко намыленной на моей шее коварной старухой судьбой. Но и этого ей оказалось мало. Моя мама попала в больницу, предстояла сложная операция. Отец из-за каких-то конфликтов (это он умеет) с треском вылетел с работы. А тут ещё я подарочек готовил. Эгоист, высшей марки эгоист, я и в этой ситуации больше всего думал о себе. О родителях всё-таки тоже думал. О ней вот меньше всего. Нет, правильнее будет сказать: я думал о ней, переживал за неё больше всего, потому что от её благополучия, от её судьбы зависела вся моя жизнь, весь я со всеми своими телячьими потрохами. О родителях переживал, видать, по той же причине. Страшно глупое и позорное прошлое.
Она предпринимала отчаянные попытки вытравить из себя на удивление основательно заложенное нашей слепой, щенячьей любовью. Она старалась – ничего не получалось. Её виртуозно тонкая талия стала стремительно полнеть. Хитроумные пояса мало помогали. Замочки на юбочках расхотели застёгиваться, пошли в ход всевозможные блузки, кофточки навыпуск… И всё-таки наши ухищрения в какой-то мере помогли. Сенсация, грандиозная сплетня вспыхнуть не успела, любимая тётка моей будущей жены произвела подпольное вмешательство в беспрестанно растущее произведение нашей любви в обмен на моё обещание жениться. И крах, позор, кошмары были развеяны. Я смотрел на безжизненное тельце моего не успевшего родиться сына и ничего не чувствовал, кроме лёгкого шума в голове с нескольких стопок водки.
Потом мы вместе с моей будущей (бывшей) женой были на преддипломной практике, вместе писали-чертили дипломный проект, вместе не поехали по распределению в другой город, так как я собирался в армию, а моя невеста имела справку, что она моя невеста и мы вот-вот должны расписаться.
Моя армияТогда всё обошлось. И мама после операции поправилась, и отец восстановился на своей работе, и я, получив диплом специалиста-технаря, шумно и весело на папины деньги обженившись, а затем без сожаления обрившись под Котовского, отправился служить в армию.
С армией мне повезло. Не скрыв своих природных способностей в области изобразительного искусства, я попал в комендантский взвод, где в группе себе подобных был брошен на роспись казарм, стендов на плацу, стадионе и по всему военному городку.



