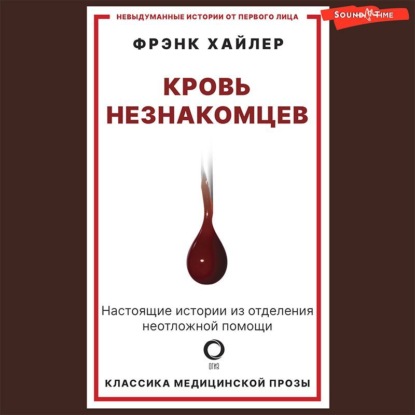Полная версия
Записки врача неотложной помощи. Жизнь на первом этаже
Щелчок.
Секция значительных заболеваний. В глаза со всех сторон бьет яркий свет. За столами консультантов ординаторы изучают результаты анализов и рассматривают снимки на экранах в поисках деталей, которые бы подошли под тот или иной диагноз. Один из них снимает очки и кладет голову на стол. Рядом с ним коллега, сонно моргая, смотрит на рентгеновский снимок грудной клетки; на экране компьютера – белые кости.
Когда-то на их месте был я. С тех пор, как я окончил ординатуру, никто уже не заглядывает мне через плечо, следя, чтобы не допустил ошибки, и я уже не задерживаюсь так подолгу после работы. Правда, работать все равно приходится в несколько смен. Кто-то ведь должен дежурить и на Рождество и в ночную смену в воскресенье. Если не я, то кто-то такой, как я. Мы делим сутки на восьмичасовые интервалы. С рассвета до глубокой ночи четверо или пятеро из нас работают в разных местах отделения, еще один дежурит у телефона на случай серьезной травмы, но вот на ночные дежурства, какими бы интересными они ни казались поначалу, никто оставаться не жаждет. В конце концов, все исследования говорят, что это вредно для здоровья (хотя это и без исследований понятно), поэтому ночью приходится работать в одиночку.
И работать нужно быстро. Население крупных городов постоянно растет, люди живут все дольше, потребляют все большее количество лекарств, которые вызывают все больше побочных эффектов; все больше становится операций и осложнений; специализация медицины разбивает тела на все меньшие и меньшие части; люди проводят больше времени в экранах гаджетов, чем на улице, растет уровень их тревожности. Как результат всего этого, у нас в отделении неотложной помощи с каждым днем увеличивается число пациентов.
Вместо того, чтобы спросить совета у бабушки, люди вбивают свои симптомы в поисковую строку и ставят себе самый худший из возможных диагнозов, точно так же, как я сам в начале учебы в медицинском институте, до того, как я узнал, что определенные совокупности симптомов появляются только в больном организме, но не в здоровом.
Будучи еще студентом, я нащупал у себя на шее лимфатический узел размером с горошину. Он и сейчас на том же месте. У меня сердце упало, когда я прочитал про лимфому. Я был уверен, что это она. На лабораторной по нейроанатомии у меня вдруг все поплыло перед глазами. Пока мои одногруппники раскрашивали нервные пучки, я подошел к нейрохирургу, который вел занятие, и с серьезным видом рассказал ему про свою опухоль. Он мне сказал успокоиться и сесть на место. Это был приступ мигрени. Зрение через некоторое время прояснилось. Больным себя чувствуешь тогда, когда знаешь, что болен. Именно поэтому так приятно лечить маленьких детей: их разум еще не умеет опровергать то, что подсказывает тело.
Всего несколько лет назад у нас крайне редко бывало такое, чтобы за сутки через отделение проходило 200 пациентов. А теперь редко бывают дни, когда их меньше двухсот. Скоро на ночном дежурстве будет мало одного врача. Уже сейчас приходится всю ночь бегать туда-сюда и все равно ничего не успеваешь.
За столом в секции значительных заболеваний сидит Том и смотрит на виртуальную карту отделения на экране компьютера. Все палаты помечены красным цветом, это значит, что палата полная. Я ставлю на стол рядом с ним свою чашку кофе.
– Как дела? – спрашиваю я, вынимая из лотка принтера лист бумаги.
– Просто предел мечтаний, – говорит он, потянувшись, и зевает.
Неподалеку нерешительно мнется девушка в белом халате.
– Вы практикантка, сегодня на ночном дежурстве?
Она кивает.
– Ну, подходите поближе, – говорю я, плюхаясь в кресло.
– Тут еще где-то старший ординатор, – говорит Том. – Она даже, можно сказать, вовремя пришла.
– Очень интересно. Почему?
– Сам спроси у нее. Она уже пациента осматривает.
– Это хороший знак.
– Да, она молодец. Я с ней работал на днях. Ну, ладно, пора мне собираться…
Я придвигаюсь ближе.
– Койка один: мужчина, 70 лет, в анамнезе сердечная недостаточность, поступил час назад с затруднением дыхания. Сначала выглядел плохо, но после нитроглицерина и диуретиков стало получше. Даже кислород уже не нужен.
Я киваю. Нитроглицерин расширяет вены, снижает давление на сердце, чтобы ему было легче биться. Диуретики выводят соль из почек, а с ней и лишнюю воду из ослабевшего сердца, просочившуюся через мембрану легких.
– Флюорография… вот.
Он берет со стола снимок, на котором видны ребра и отекшее сердце в середине. Легкие, обычно такие же невидимые, как и наполняющий их воздух, белее в тех местах, куда просочилась жидкость из-за того, что сердце не справлялось с работой.
– Неплохо, – говорю я, показывая практикантке, на что мы с Томом смотрим. – Получается, что он не принимал лекарства, мы об этом говорили. Ждем результаты анализа крови, но если тест с ходьбой пройдет, то, думаю, можно будет его выписать под амбулаторное наблюдение.
Эти 10 минут самые опасные в нашем отделении. Я не видел никого из тех людей, о которых сейчас говорит Том. Если потребуется, я осмотрю, но у нас уже есть и новые пациенты, их с каждой минутой все больше. Нужно, чтобы ты мог довериться человеку, который заканчивает дежурство, и спокойно продолжать выбранный им план лечения.
Том с этим справляется. Все, что он рассказал, мне кажется вполне логичным, все детали сходятся. Если бы что-то вызывало подозрение, мы бы еще раз все обсудили или он бы попросил меня обследовать пациента еще раз.
– Вторая койка: мужчина, 35 лет…
Я наскоро записываю пятнадцать историй разных людей, умещая проблемы каждого в одну – две строчки, обвожу в кружок те, что требуют особого внимания.
– Это ваше первое ночное дежурство здесь… Зайнаб? – спрашиваю я практикантку, посмотрев на бейджик.
– Да.
– Что ж, будет интересно, – говорю я, выхожу из-за стола на сестринском посту и беру карточки пациентов, которых нужно осмотреть. Она идет за мной.
– Так. Расскажу вкратце. Все вот эти койки, – я обвожу рукой полукруг из занавесок, – секция значительных заболеваний.
Она кивает.
– Пациенты в тяжелом состоянии. Инфаркт или что-то, что может оказаться инфарктом. Инсульт. Передозировка. Травма. Низкое давление, слишком быстрое или слишком медленное сердцебиение. Потеря сознания. Этим людям нужно постоянное наблюдение: либо потому, что их состояние ухудшается, либо потому, что собранная со временем информация поможет нам определить, нужно ли им оставаться в больнице или можно их отправить домой.
Я показываю на экран, на котором с разной скоростью бьется дюжина разных сердец.
– Скажем, поступил пациент после падения, и он не может точно сказать, что случилось – споткнулся он или потерял сознание. Мы наблюдаем за его состоянием, чтобы посмотреть, как у него бьется сердце, не пропускает ли удары. Можно перемотать обратно и посмотреть сердцебиение за все время, что он был подключен к монитору. Круто, да?
– Да, – говорит она.
– Если у пациента есть дом, то мы его туда отправляем, если для него это безопасно. А если нет или требуется лечение, которое возможно только в больнице, мы его госпитализируем. В этой секции больше медсестер, примерно по одной на каждые две койки. В этом отличие от секции средних заболеваний. Там мы заступаем на дежурство в час ночи. Пациенты тоже подключены к мониторам, но медсестер меньше, и времени на каждого пациента тоже меньше.
Из-за занавески у койки 11 выходит женщина в белом халате и подходит к нам. Я улыбаюсь ей.
– Рассказываю Зайнаб про отделение. В средней секции бывают пациенты с болью в животе. Бывают камни в почках, влагалищное кровотечение. Обычно жизненные показатели в норме, и человек может подождать час – другой, хотя иногда приходится ждать и дольше. Там все время есть охранник, поэтому в эту секцию отправляют людей с признаками психоза, попытками суицида или под кайфом. По наркотикам… почему-то сейчас очень много к нам попадает людей на метамфетамине. Бывает крэк. Но вообще всего хватает. ГОМК, МДМА, героин, фентанил, «Оксиконтин», – я задумываюсь на секунду. – И пьяные. Много пьяных. Бывают довольно агрессивные, поэтому одной лучше к пациенту не заходить, лучше предупредить меня или одну из медсестер.
Зайнаб не сводит с меня глаз, внимательно слушает каждое слово. Я тоже когда-то таким был. Для меня это было самое интересное место в мире.
– Ну и, наконец, секция незначительных заболеваний. Там работы больше всего. Лишь пара медсестер, мониторов тоже мало. Большие очереди, мелкие проблемы. Ну, для нас, по крайней мере. Для пациента это может быть худший день в жизни.
Старший ординатор улыбается, кивает.
– Давайте будем делать вот как. Вы, – я указываю на Зайнаб, – будете собирать анамнез и проводить осмотр, потом рассказывать мне, что, по вашему мнению, происходит с пациентом, и мы вместе будем определять план лечения. Идет? А вы, – я поправляю бейджик на лацкане старшего ординатора (Эллен, последний год ординатуры, на травматологической практике, возможно, хочет остаться у нас работать), – будете сообщать мне, прежде чем направить пациента на КТ или выписывать кого-то. Будем связываться примерно каждый час, чтобы держать друг друга в курсе. Если будут пациенты с травмами, они все ваши.
– Отлично.
– Ах, да, а если кто-то из вас услышит по громкой связи, что куда-то просят явиться доктора Маскалика, вы тоже должны бежать туда. Значит, там что-то интересное.
Обе кивают с довольными лицами.
– Ладно, пока все. Поработаем немного в секции значительных заболеваний, потом отпустим домой других врачей.
Я перебираю карты пациентов, которых нужно осмотреть. Боль в груди. Затруднение дыхания. Спутанность сознания. Имена отходят на второй план. Каждый пациент сейчас превращается в болезнь и номер больничной койки.
– Вот, держите, – говорю я, вручая Зайнаб верхнюю карточку. – Боль в груди. Звучит довольно страшно.
Она проходит к койке 8, останавливается перед занавеской, изучает красную линию ЭКГ.
– Я с ней работал на днях в секции незначительных, – говорит Том у меня за плечом, сгребая свои бумаги, лежащие в беспорядке по всему столу. – Она тоже молоток.
– Хорошо. Спокойной ночи.
Я просматриваю остальные карты. Пациент со спутанным сознанием, поступил в 23:23. Пациент с затруднением дыхания, поступил в 23:40. Лучше всего не копаться, выбирая, кого осмотреть дальше, просто брать следующую карту.
Впрочем, отдавать предпочтение при этом нужно пациентам в самом тяжелом состоянии. Это самый главный фактор, который неизменно влияет на порядок приема. Сортировочная сестра первой бегло осматривает пациента, проверяет основные показатели (частоту сердцебиения, кровяное давление, температуру), также смотрит на то, как человек держится, как одет, не ведет ли себя беспокойно. Задает ряд важнейших вопросов: есть ли боль в груди, насколько внезапно пациент почувствовал слабость.
Уже в смотровой еще одна медсестра расспрашивает пациента более тщательно, обращая при этом внимание на мельчайшие детали: например, что пациент охает, переодеваясь в больничную рубашку, или что у него на теле видны следы повреждений. Через 20 минут она возвращается посмотреть, не изменилось ли его состояние. Если заболевание действительно серьезное, то состояние меняется. Если было сложно дышать, то человек может начать задыхаться; если у него было спутанное сознание, он может потерять сознание.
В третий раз человек рассказывает про свою проб-лему мне. Рассказывает в подробностях, как получилось, что теперь к нему подключены все эти аппараты и датчики. Некоторых пациентов это расстраивает, но мне нужно все слышать лично. Мне всегда нужно быть настороже, не доверять никакой полученной заведомо информации, только тому, что мне удалось увидеть и услышать самому. Я взвешиваю в уме диагноз и лечение, решаю, кого выписать, а кого направить на госпитализацию, то есть определяю продолжение и окончание их истории пребывания в отделении неотложной помощи. С точки зрения закона, моя ошибка имеет самое критическое значение. Поэтому я всегда задаю два вопроса, повторяя их в разных формулировках, чтобы убедиться, что полученные ответы однозначны: «Что именно заставило вас обратиться к нам?» и «Почему именно сегодня?».
Потом я смотрю на обувь пациента. На самом деле, я первым делом смотрю на обувь, а если обуви нет, то на ноги. Это позволяет мне определить, насколько состоятелен пациент и, следовательно, какое лечение он, скорее всего, сможет себе позволить после того, как уйдет из отделения.
С того самого дня, когда учителя впервые доверили мне пациента с затруднением дыхания, когда стало понятно, что теперь я сам могу отличить сердце, которому нужен электрошок, от сердца, биение которого лучше замедлить, и знаю, как мало шансов, что человек с босыми ногами, почерневшими от асфальта, будет продолжать лечение после того, как выйдет из больницы, с того самого дня моей работой было знать отделение неотложной помощи как свои пять пальцев. Какую койку оставить для пациента, состояние которого быстро ухудшается; какую медсестру лучше позвать, чтобы поставить капельницу малышу.
Тяжелого больного, на какой бы койке он ни оказался после появления в отделении, мы всегда примем первым, а потом уже всех остальных, как можно скорее, но в порядке живой очереди. Я так часто говорю это людям, уставшим ждать в очереди, что мне даже хочется, чтобы это предложение написали неоновыми буквами прямо под вывеской «Отделение неотложной помощи». А рядом с ним можно добавить какую-нибудь пальму из неоновых лампочек для поднятия настроения.
Порядок приема мы не поменяем ни для самого богатого пациента, ни для самого скандального, ни для человека, который встал пораньше, чтобы занять очередь еще до открытия, но для самого слабого и тяжелобольного мы всегда постараемся сделать все что можно. Нигде больше нет такой безупречной логики, как в работе отделения неотложной помощи. Поэтому я здесь и работаю. Этот принцип заслуживает того, чтобы стоять за него горой.
Я допиваю свой кофе. Одна из медсестер выключает свет. Некоторые из пациентов, принятых Томом, пребывают в состоянии дремоты, их сознание притуплено морфином; им остается ждать, когда ординатор, который сейчас спит, уронив голову на стол, отдаст распоряжение об их госпитализации. Все тихо (по крайней мере, пока), но в отделении неотложной помощи никогда, совсем никогда нельзя произносить эти слова. Это наш единственный предрассудок. Да, и еще койки 13 у нас нет, так что можно сказать, предрассудка у нас два.
Я прохожу мимо мужчины на койке 1: дыхание у него ровное. Пациент на койке 6 на ИВЛ, его дыхание – это щелчки и жужжание аппарата, он неподвижен и без сознания. Для него готовят место в блоке интенсивной терапии. Если бы у нас в блоке интенсивной терапии не было места (такое бывает крайне редко), этого пациента доставили бы на вертолете в другую больницу, может быть, он бы даже очнулся в другом городе. Вот был бы сюрприз.
В ярко освещенных коридорах отделения – в секции значительных заболеваний, средних, незначительных – сидят, мучимые тревогой, порядка двадцати пациентов в сопровождении родственников. Для них – это долгие часы ожидания. Для нас – одна короткая встреча длиной в 5 минут за другой такой же короткой встречей, и так до самого утра.
Я стою рядом с койкой человека с помутнением сознания. Скольких других людей я видел на этой же самой койке. В судорогах. В крови. Человека на амфетаминах, который вопил как умалишенный, выпучив глаза, а охрана пыталась удержать его на кровати.
Смотрю на историю болезни: 86 лет. Отодвигаю занавеску.
Выглядит он старше. Сопровождающих с ним нет. Глаза закрыты, губы, за которыми скрываются беззубые десны, плотно сжаты. Лицо чисто выбрито.
Интересно, кто его брил? Так аккуратно, ни одного пореза. Наклоняюсь ближе. Пахнет лосьоном после бритья.
Может, он и сам побрился.
Стридора не слышно. Насыщение крови кислородом нормальное, 98 %. Сердцебиение – линия на черном экране – медленное и равномерное. Он может подождать несколько минут. Беру следующую историю болезни.
Койка 14. Затруднение дыхания. Отодвигаю занавеску, и на меня смотрит человек, которого я уже видел несколько раз. Он сидит без рубашки, свесив ноги с кровати, ссутулившись и сдвинув острые плечи, с каждым вдохом его тело поднимается и опускается. Когда он вдыхает воздух, ноздри раздуваются, когда выдыхает, щеки, наполовину скрытые кислородной маской, от которой шланг идет к стене, кажутся толстыми.
– Здрасьте… док…
– Саид. Снова астма?
– Да.
– Все куришь?
– Уже… меньше… пять… в день…
– Хорошо.
Я прислоняю раструб стетоскопа к его спине. Хрипы.
– Мокрота откашливается? Жара нет? А ингалятором пользуешься?
На все ответ отрицательный. Я торопливо пишу в истории болезни назначение: ингаляции, стероиды, чтобы уменьшить воспаление в его покрытых рубцами легких. Через час он выйдет отсюда с ингалятором в кармане и с рецептом на еще несколько ингаляторов. Каждый раз одно и то же. Он всегда говорит, что ему нужно еще. У него, наверное, уже их сотня. Что он с ними делает? Я не спрашиваю.
Оставляю назначения на сестринском посту и иду к койке человека с помутнением сознания.
– Сэр! – кричу я. Даже глазом не моргнул. Я наклоняюсь к его уху. – Сэр! – Ничего.
Стучу легонько пальцем по его груди. Ответа нет. Здесь, скорее, не помутнение сознания, он, похоже, вовсе без сознания. Я тру костяшками пальцев вдоль грудины. Он морщится, тянет руки к моим рукам. Это хорошо. Что-то – это уже лучше, чем ничего.
Нащупываю пульс на руке, которая хватается за мою. Кожа у него на запястье тонкая, как папиросная бумага. С кожей это бывает, когда человек стареет. Она тускнеет, утрачивает жировую прослойку и эластичность. Бывает, к нам поступает старый человек, который ударился обо что-нибудь ногой, и кожа у него с голени просто отслаивается куском. Когда пытаешься наложить швы – это все равно что сшивать оберточную бумагу, нитки просто разрывают ее. Я приловчился использовать для этого медицинскую ленту.
Между сухожилиями на его руке бьется жилка. Он негромко похрапывает. Его дыхание пахнет кремом для протезов.
Я подробнее изучаю его историю болезни. Из дома престарелых. Болезнь Альцгеймера. В анамнезе инсульт. Самостоятельно не передвигается. Не ест, не пьет уже 3 дня. Глюкоза крови в норме. Семьи нет. Бланк распоряжения подписан государственным попечителем: перевод в больницу, антибиотики согласованы. Отказ от реанимации.
Сквозь занавеску доносятся неразборчивые звуки голосов.
Этого человека я тоже уже видел раньше. Точнее, разные версии этого человека: так много версий, что я уже сбился со счета. Всех их уже нет в живых.
Когда я увидел его возраст и причину обращения, передо мной были два пути. Проверить, нет ли успокоительных в числе принимаемых им лекарств; сделать анализ крови, флюорографию, анализ на инфекцию мочевых путей, КТ мозга. Если на КТ обнаружится кровь, нужно будет отменить аспирин, который он принимает.
Или просто дать ему умереть. Процесс уже запущен. Даже если мы, притворяясь, что отсрочиваем смерть, пытаемся бороться со страхом перед ней, ему это ни к чему, он все равно ничего этого не осознает. Если бы я мог поговорить с ним, не уверен, что он выразил бы желание продлить эту часть своей жизни. Но поговорить с ним нельзя.
Это основная причина напряжения, которое всегда ощущается в отделении. Самая главная сложность не в том, чтобы, перекрикивая десяток других голосов, попросить нужный препарат и докричаться до нужного человека, и не в том, чтобы не просмотреть крохотное белое пятнышко – кровь – на снимке КТ в 4 часа утра, когда уже глаза слипаются от желания спать. Сложность в том, как поделить доставшееся тебе огромное богатство между всеми этими людьми, причем так, чтобы кому-то от него досталась реальная польза. Если укладывать в отделение интенсивной терапии каждого пациента, который не приходит в сознание, то отделение заполнится за один день. Если переливать кровь каждому, у кого не останавливается кровотечение, запасы крови скоро закончатся, а пациенты все равно будут умирать. И такие решения приобретают особую реальность в таких местах, как Эфиопия, где запасы донорской крови – не двадцать доз на человека, а две.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.