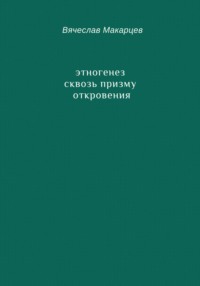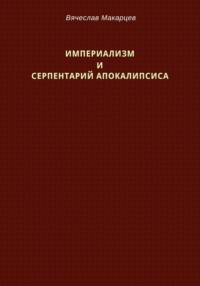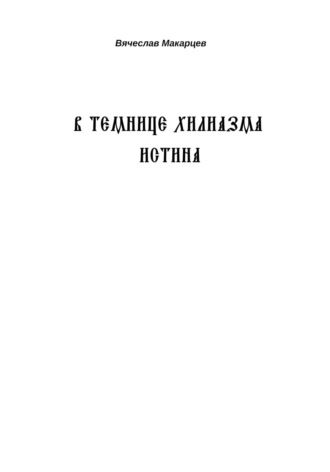 полная версия
полная версияВ темнице хилиазма истина
Современные православные богословы, из числа противников этого учения, и не скрывают того, что в вопросе «тысячелетнего Царства» они опираются не на Предание Церкви, а на «высокий интеллектуальный и образовательный уровень». Вот что пишет один из них: «…С первых веков святые отцы успешно опровергали хилиастически примитивные взгляды, а некоторые сомнительные высказывания ранних авторитетных христианских писателей следует отнести к перегибам в их борьбе с гностицизмом, нежели к собственным хилиастическим убеждениям, как например, в случае со св. Иринеем Лионским. Здесь надо отметить только одну общую и важную в дальнейшем тенденцию – ученые и богословы с личным высоким интеллектуальным и образовательным уровнем, как правило, решительно боролись с распространением хилиастических взглядов. "Там, где греческая философия проникала в Церковь, относились, в большинстве, отрицательно и враждебно к ожиданию земного царства. Так, для востока знамениты Климент Александрийский и, особенно, Ориген преодолением хилиастических надежд"60. Итак, на востоке, общими усилиями христианских мыслителей, – утверждает наш автор, – хилиазм с самого начала своего существования встретил жесткий отпор и никогда не занимал в церковном сознании главенствующего положения»61. Удивляет голословное утверждение автора цитаты о «жестком отпоре» со стороны «христианских мыслителей». Хотелось бы узнать, какие святые отцы или хотя бы просто «христианские мыслители» «с первых веков… успешно опровергали хилиастически примитивные взгляды»? Первое «опровержение» прозвучало в начале III века (возможно, в конце II-го…) из уст «римского пресвитера» (?) Кая, который не принадлежит к святым отцам Церкви. Во времена святых Иустина Мученика и Иринея Лионского открыто никто из других святых отцов не возвысил свой голос против учения о христианском «хилиазме», которое они возвещали. «Некоторые из почитаемых за правоверующих», о которых сообщает св. Ириней Лионский, тоже промолчали. Так кто же эти «успешно опровергающие»?
Зачем отвечать за св. Иринея о его собственных убеждениях? Он их высказал, письменно засвидетельствовав. Более того, обличил тех, кто не принимает учение Церкви о не аллегорическом, а реальном «первом воскресении», в «увлечении еретическими речами». При этом епископ Лионский ссылается на апостольское Предание, то есть на Священное Предание Церкви. А на чем, позвольте спросить, выстроены богословские утверждения по поводу святоотеческого учения о «тысяче лет» современных амилленаристов?
Кстати, об Оригене, раз уж он был упомянут. Вот что писал в этой связи православный историк Яков Иванович Алфионов в историческом очерке «Хилиазм первых трех веков христианства»: «По своим философским убеждениям Ориген, как известно, был одним из усердных приверженцев и ревностных почитателей Платона. Самое высшее счастье и блаженство человека он видел в совершенном отрешении души от оков чувственности и в возможно большем приближении к Божеству. Человек, по его мнению, должен желать и ожидать, прежде всего, возможно скорейшего и совершеннейшего отрешения от уз тела, а не утешать себя надеждами, что душа, освободившись некогда от телесных оков, снова возвратится в них… Вторичное возвращение души на землю и ее поселение на ней, по взгляду Оригена, должно быть для нее самым тяжким бременем и даже осквернением»62.
Мы видим, что амилленаристы сами о себе свидетельствуют: они опираются на «личный высокий интеллектуальный и образовательный уровень», на авторитет Оригена и греческой философии, но не на Предание Церкви. Что и говорить: творчество древнегреческих философов входит в «духовную сокровищницу человечества». Однако, при чем здесь христианство? Разве не Предание Церкви задает ориентиры богословию?
Совершенно очевидно стремление Оригена связать святоотеческий «хилиазм» с хилиазмом еретическим, дабы легче опровергнуть его. Вот как об этом пишет современный исследователь Войтенко: «Почему Ориген пишет о крайностях? Возможно, что здесь (во 2-й книге «О началах» – В. М.) он полемизирует именно с теми, кто придерживался крайних взглядов. Однако, если вспомнить, что идея земного "тысячелетнего царства" была для Оригена абсолютно неприемлема, то можно предположить и иное: ему были известны и другие взгляды на "тысячелетие", но он выбрал наиболее радикальные, чтобы опровергнуть эту идею в принципе. Это необходимо иметь в виду и по другой причине: все исторические сведения о милленаризме в Египте середины III в. мы получаем от двух верных последователей Оригена, свт. Дионисия Александрийского и Евсевия Кессарийского, для которых представления о земном царстве Христа в конце времен были вздором»63. Анализируя те данные о диспуте с последователями епископа Непота, что приводит Евсевий, Войтенко приходит к выводу, что «богословский спор завершился каким-то консенсусом, и свт. Дионисий согласился с некоторыми мнениями оппонентов – правда, нам трудно судить о масштабах уступок»64. Пожалуй, это предположение верное: нет оснований для того, чтобы приписывать свт. Дионисию любовное пристрастие к греческой философии…
В связи со сказанным, не удивительно, что «нищие духом», опирающиеся на Предание Церкви, более восприимчивы к святоотеческому учению о «тысяче лет». Греческая же философия, «проникая в Церковь», насаждала «отрицательное и враждебное отношение» к учению Церкви о «первом воскресении». И вообще, что это за феномен такой – древнегреческая философия? Думается, не будет преувеличением утверждение, что греческая философия, в особенности философия Платона, – это не что иное, как «языческое богословие». Конечно, отсюда нельзя делать вывод о недопустимости использования каких-то чисто технических наработок «богословского аппарата» «языческого богословия». Перегибом является не учение св. Иринея о «первом воскресении»: какой может быть перегиб в «главном русле церковного Предания»? Явным перегибом является отрицание его, ибо оно (отрицание) находит опору в древнегреческой философии, в «личном высоком интелектуальном уровне», а не в Предании Церкви. Это отрицание еще можно понять, когда оно, как в случае с ревностью св. Дионисия Александрийского или мнением блаженных Августина и Иеронима, преследует цель икономии. В противном случае – это, по слову Иринея Лионского, явное «увлечение еретическими речами». Как представляется, нет ни малейших оснований для сомнения в том, что св. Ириней является верным церковным свидетелем святоотеческого учения о «тысяче лет».
Кое-кто в качестве аргумента против этого приводит то место из творения св. Иринея, где он высказывает частное богословское мнение о том, что Христу было около пятидесяти лет ко времени распятия65. Вот, мол, святой Ириней и на Апостолов ссылается при этом… Но это предание касается, если можно так выразиться, «исторических фактов», а не учения веры. Это с одной стороны. С другой стороны, ничего удивительного в самом этом предании нет, поскольку, вне всякого сомнения, св. Ириней прав: «Он прошел чрез все возрасты, – сделался младенцем для младенцев, и освятил их; сделался малым для малых, и освятил имеющих такой возраст, вместе с тем подав им пример благочестия, правоты и послушания; сделался юношею для юношей, являясь для них образцом и освящая их для Господа. Он был также старцем для старцев, дабы по всему явиться совершенным учителем, – не только по изъяснению истины, но и по возрасту…»66. И чуть далее св. Ириней объясняет важность этого с точки зрения психологии: «…Как бы Он учил, если не имел учительского возраста?»67
Вывод отсюда может быть следующий. Действительно, Апостолы сообщили пресвитерам, от которых это услышал св. Ириней, что Христу на вид было больше сорока, то есть Он выглядел старше своих лет. А так как Апостол Лука сообщает, что «Иисус, начиная [Свое служение], был лет тридцати» (Лук. 3:23), то отсюда св. Ириней высказал частное мнение: раз человеческой природе Христа на вид было далеко за сорок лет к моменту распятия, стало быть, продолжительность Его общественного служения была значительно больше. К такому выводу, несомненно, подталкивал и невероятный для человеческого ума объем дел, совершенных Христом за три с половиною года: «Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг» (Ин. 21:25). В том, что Христос выглядел значительно старше своих лет, ничего удивительного нет, так как о Своем возрасте Христос так сказал иудеям: «истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь» (Ин. 8, 58). То есть Он имел на это право: выглядеть «совершенным учителем» и внешне. История с этим частным мнением показывает, как почтительно относился св. Ириней к апостольскому преданию, что, на наш взгляд, лишь подчеркивает его достоинство как неподкупного свидетеля Священного Предания, в том числе и относящегося к Апокалипсису.
Автор статьи «Ириней епископ Лионский» в Православной Энциклопедии68, в продолжение политики борьбы с Преданием по вопросу святоотеческого «хилиазма», приводит следующее рассуждение исследователей об отношении к Преданию св. Иринея: «В учении И. выделяют Предания двоякого рода: те Предания, к-рые И. почитает несомненной истиной Церкви, он называет Преданиями апостольскими и церковными (т. е. к-рые через преемство пресвитеров хранятся в Церкви). Др. группу составляют Предания, к-рые имеют признак апостольства, но к-рые И., по-видимому, не считает общецерковными.
К 1-й группе относится правило истины (regula veritatis), к-рое исповедуется при крещении… Библейскую основу его И. видит в Евангелии от Иоанна, прежде всего в прологе. <…> В др. группу Преданий, – продолжает автор статьи в Православной Энциклопедии, – включаются те, к-рые, хотя и сообщаются как предания пресвитеров, возводятся к апостолам, но не считаются церковными, т. е. переходящими через преемство епископов и повсюду согласными себе. К ним относится, напр., утверждение, что время земного служения Христа продолжалось более 10 лет (Ibid. II 22. 5), а также хилиазм, к-рого придерживался И.».
Во-первых, удивляют слова «по-видимому, не считает»: в таких случаях принято приводить какие-то доказательства… Во-вторых, исследователь, на которого ссылается автор указанной статьи69, явно противоречит логике: как можно говорить о том, что св. Ириней не считал церковным Предание о «тысяче лет» и «воскресении первом», если он прямо предупреждает тех, кто не следует этому учению, что они «увлекаются еретическими речами»? Но, по всей видимости, «богословская корпорация» использует в войне против святоотеческого «хилиазма» лозунг: если логика противоречит аллегорическому пониманию «тысячи лет», то тем хуже для логики…
II.3. О перегибе
Проигнорировав Предание, современные противники святоотеческого учения о «начале нетления» не придумали ничего лучшего, как обвинить святителя Иринея Лионского в перегибе: мол, увлекшись борьбой с гностицизмом, он стал склоняться к хилиазму. Но для такого рода обвинения нужны серьезные основания. Было ли нечто подобное в жизни Иринея Лионского? Напротив, не является ли то, что он стал признанным церковным авторитетом в борьбе с ересями, свидетельством его особого дара не уклоняться со стези истины? Нет, как представляется, ни малейших оснований обвинять его в перегибе. Во всяком случае, без серьезных доказательств такого рода обвинение можно расценивать как клевету на святителя. А вот его критик – святитель Дионисий – допускал самые настоящие перегибы в борьбе с еретиками, в чем его обличал святитель Василий Великий в «Письме к Максиму Философу»: «Не все хвалю у Дионисия, иное же и вовсе отметаю, потому что, сколько мне известно, он почти первый снабдил людей семенами этого нечестия, которое столько наделало ныне шуму; говорю об учении аномеев. И причиной сему полагаю не лукавое его намерение, а сильное желание оспорить Савеллия. Обыкновенно уподобляю я его садовнику, который начинает выпрямлять кривизну молодого растения, а потом, не зная умеренности в разгибе, не останавливается на середине и перегибает стебель в противную сторону. Подобное нечто, нахожу я, было и с Дионисием. В сильной борьбе с нечестием Ливиянина чрезмерным своим ревнованием, сам того не примечая, вовлечен он в противоположное зло. Достаточно было бы доказать ему только, что Отец и Сын не одно и то же в подлежащем, и удовольствоваться такой победой над хульником. Но он, чтобы во всей очевидности и с избытком одержать верх, утверждает не только инаковость Ипостаси, но и разность сущности, постепенность могущества, различие славы, а от сего произошло, что одно зло обменял он на другое и сам уклоняется от правого учения. Таким образом далее разногласит с собою в своих сочинениях: то отвергает единосущие, потому что противник худо воспользовался сим понятием, когда отрицал Ипостаси, то принимает оное, когда защищается против своего соименника. Сверх же сего и о Духе употребил он речения, всего менее приличные Духу, – исключает Его из поклоняемого Божества и сопричисляет к какому-то дольнему, тварному и служебному естеству. Такой-то сей Дионисий!»70.
В борьбе с хилиазмом мы видим то же самое поведение: нет бы, осудив «иудейские басни» и «тысячелетие объедения», остановиться на этом, но в чрезмерной ревности свт. Дионисий ставит под сомнение каноническое достоинство Откровения святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова71, и, более того, пишет об этом книгу, рассеяв семена неприятия Апокалипсиса в Церкви. Судя по всему, святой Дионисий обладал ярко выраженным холерическим темпераментом, для которого характерно преобладание возбуждения над торможением. Об этом, кстати, говорит и его поездка в Арсиноитский ном по поводу хилиазма: три дня с утра и до вечера держал людей в напряжении и не уехал, пока не добился своего72. В жизни Иринея, епископа Лионского, ничего, подобного этому, не было. Вероятнее всего, судя по особой скрупулезности в исследовании ересей, его темперамент был ближе к флегматическому. В любом случае, аргумент о перегибе в борьбе с гностицизмом не не выдерживает никакой критики.
А вот семена неприятия Апокалипсиса в качестве канонической книги, рассеянные свт. Дионисием Александрийским, до сих пор дают обильные всходы. Конечно, особую роль в этом сыграл Евсевий Памфил, ставший первым христианским «придворным богословом» Римской империи, но не осознававшим, по-видимому, особую ответственность в связи с таким положением. Сомнение относительно канонического достоинства Апокалипсиса, укрепившееся благодаря Евсевию, было во второй половине четвертого века настолько сильным, что даже вселенские учители и святители не выступали открыто в поддержку Откровения Иоанна Богослова. Не замечать этого невероятного перегиба сегодня, когда каноническое достоинство Апокалипсиса у подавляющего большинства православных не вызывает сомнений, довольно-таки странно, особенно когда это демонстрируют члены «богословской корпорации». Такое возможно лишь при условии отвержения Предания Церкви относительно рассматриваемого вопроса. Если бы свт. Дионисий не ставил под сомнение достоинство свт. Иринея как свидетеля Апостольского Предания, он искал бы не доказательства того, что Апокалипсис написан «другим Иоанном», но объяснения, почему такого рода расхождения в языке имеют место.
5
Глава III. Греческая философия и проблема «воскресения первого»
Исследователи проблемы миллениума, придерживающиеся амилленаристских взглядов, обратили внимание, как мы уже указывали выше, на то, что существует определенная зависимость между греческой философией (уровнем образованности) и проблемой «тысячелетнего царства». Они убеждены в том, что, чем выше уровень «греческой образованности», тем более слабые позиции в такой среде у сторонников хилиазма, в том числе и святоотеческого «хилиазма», естественно. Но разве, скажем, Иустин Философ или Ириней, епископ Лионский, были людьми не «с личным высоким интеллектуальным и образовательным уровнем»? Скорее, здесь тенденция другого рода: «личный высокий интеллектуальный и образовательный уровень» «истовых интеллигентов» часто мешал восприятию Предания Церкви, вступал с ним в конфликт. Как бы там ни было, но греческая философия по факту исполняла роль «языческого богословия»…
Заместитель Патриаршего Местоблюстителя митр. Сергий (Страгородский) в Указе Московской Патриархии о софиологии, обличая С. Булгакова в игнорировании Предания Церкви, говорит: «…Как истый интеллигент, он смотрит на церковное предание несколько свысока, как на ступень, уже пройденную и оставшуюся позади»73. Это, конечно, беда не только С. Булгакова, но и многих христианских богословов, в том числе современных: «истый интеллигент», как правило, ощущает стесненность «ненаучностью» церковного Предания. Вот как раскрывает этот момент в комментарии к Указу Владимир Лосский: «…Булгаков горячо отвергает упрек м. Сергия в нецерковности мысли… Булгаков указывает, что, наоборот, как раз священное предание он считает самым важным догматическим основанием Православия. Но в дальнейшем тут же обнаруживается, что именно он разумеет под преданием Церкви. "Нет ни одного исследования, – говорит он, – по которому я не привлекал бы к рассмотрению всего содержания церковного предания, насколько оно было мне доступно, в разных его образах: святоотеческого, литургического, иконографического и т. д., я это делал не только по долгу научной совести, но прежде всего из чувства послушания Церкви, ища подлинного предания, стремясь расслышать его настоящий голос. Разумеется, при этом неизбежна и необходима известная критическая работа отбора и различения". Вот что понимает о. С. Булгаков, – продолжает Лосский, – под преданием Церкви: не таинственный ток ведения тайны, неиссякающий в Церкви и сообщаемый Духом Святым Ее членам, а просто "памятники церковной культуры", если можно так выразиться, мертвый сам по себе материал, т. е. не Предание, а то, что в той или иной мере создавалось Преданием, не самую реку, а те пески, хотя бы и золотые, которые она отлагает в своем течении. Если так понимать предание Церкви, – замечает Владимир Лосский, – и все же считать при этом, что именно предание есть важнейшее догматическое основание Православия, то во что же превратится Православие? – в объект археологического исследования. Достоверность или недостоверность так понимаемого "предания" будет устанавливаться научной критикой, чтобы затем на этой почве православные богословы могли строить те или иные теологумены. Именно это отрицание живого Предания, – подчеркивает Лосский, – как постоянного внутреннего самосвидетельства Истины, неумолкающего учительного голоса в Церкви, м. Сергий и имеет в виду, когда говорит, что для о. C. Булгакова предание Церкви пройденный этап, оставшийся позади, что для него богословская мысль омертвела еще в Византии и что протестантское кенотическое богословие (независимо от оценки его утверждений) воспринимается им как "возрождение" этой мысли. К этому мертвенному восприятию предания Церкви и относятся слова: "как истый интеллигент", конечно, не заключающие никакого порицательного смысла по отношению к образованности и культуре, поскольку они не становятся препятствием к отрешенному постижению Истины в живом токе Предания Церкви. Это же отношение к Преданию и к Самой Церкви, – продолжает В. Лосский, – характерное для всякого "истого интеллигента", неожиданно прорывается у о. С. Булгакова в следующем замечании: "Неужели мне нужно объяснять ученому богослову, что греческая философия была теми дрожжами, на которых вскисало все (курсив о. Б.) святоотеческое богословие: Ориген и отцы каппадокийские, Леонтий Византийский и св. Иоанн Дамаскин, Тертуллиан и блаж. Августин? Для какой же цели преподавалась в д. Академиях древняя философия?". Древняя философия преподавалась в Духовных Академиях для развития и культуры ума, – отвечает Лосский, – а отнюдь не ради постижения через ее посредство истин Откровения. Для той же цели и Отцы в юные годы учились в школах философов. Отсюда делать заключение о зависимости богословия от философии, тем более сравнивать последнюю с Евангельскими "дрожжами в трех мерах муки", значит заменять Предание Церкви "преданием человеческим, стихиями мира" (Кол. 2:8)»74, – замечает Лосский.
III.1. Связка философии с религией
Конечно, нельзя сказать, что греческая философия всегда и во всем была «языческим богословием» несомненно, она обладала и определенной самостоятельностью. Вот как об этом взаимодействии рассуждал русский философ Орест Новицкий: «…Тремя фазисами своего развития Философия поставляется в трех отношениях к Религии: 1) сначала Философия заключается в пределах Религии, но рассматривает общее с ней свое содержание своим особенным образом; держится на почве непосредственных убеждений, но высказывает их не на основании данного, религиозного авторитета, а во имя человеческого разума; сознает и выражает свое содержание в общем воззрении, но не исключает начатков вникающего мышления; потом 2) отделяется от Религии, становится независимою от нее в своем развитии, получает совершенно другую форму, форму отчетливых и самостоятельных соображений рассудка и нередко поставляет себя во враждебное отношение к Религии, не хочет признать своего знания о вере; наконец 3) Философия обращается к Религии, старается примириться с нею, признать разумом то, что Религия признает сердцем, соединить ее веру с доверием к самому разуму и опять является в форме общности, но отчетливой и ясной»75, – заканчивает свою мысль Орецкий.
«Третий фазис» языческой религии и философии – «александрийский синкретизм», для «религии знания» которого был характерен следующий взгляд: «Тело есть темница, в которой душа, скованная чувственностью, всеми способами должна бороться с беспорядочными возбуждениями. Освободить ее из этой темницы и возвратить к лучшему состоянию есть дело божественных посланников…, а средством к тому служит истинная Философия»76. Христианство, едва появившись на свет, сразу же вступило в борьбу с «александрийским синкретизмом», наиболее известной разновидностью которого является гностицизм. Но и противник гностицизма – неоплатонизм – придерживался той же идеи: «…Материя, по понятию Плотина, есть только тень бытия, крайний предел выхода явлений в конечность и даже самое зло. Это дуалистически-идеалистическое мировоззрение отразилось и в этике неоплатоников. Оттого Плотин, по свидетельству биографа его, Порфирия… почти стыдился того, что его я находится в теле»77. Нет ничего удивительного в том, что многие «ученые и богословы с личным высоким интеллектуальным и образовательным уровнем», получая образование, пропитанное «александрийским синкретизмом», встречали святоотеческий «хилиазм», что называется, в штыки.
Орест Новицкий высказал мнение, что имеет место и развивается и христианская философия, по аналогии с языческой: «Те же изменения Философии находим и в мире христианском. И здесь философская мысль сначала заключается в пределах христианской Религии, развивается под ее влиянием и выражает свое содержание в общем виде: такова Философия Отцов Церкви и Схоластическая; такова же и Философия Аравитян в ее отношении к исламизму. Потом Философия отрешается от Религии, вступает на путь самостоятельного исследования вещей и в своей ревности к своеобразному развитию иногда явно противопоставляет себя религиозным идеям: такова Философия новая – Англичан, Французов, Немцев. Наконец, надобно ожидать еще третьего периода, – возвращения Философии к христианской Религии. Такое ожидание не есть предсказание будущего недоступного для нас; как скоро в мире христианском даны два периода, соответствующие двум первым из трех периодов мира языческого, то по здравой аналогии следует ожидать и третьего, – как из двух посылок – заключения. И теперь уже чувствуется потребность сближения Философии и Религии и приближается время, когда убеждения религиозные и созерцания философские сольются в гармоническое единство по высшим требованиям разума и веры; но пока – это есть еще предмет желаний и надежд. Итак, трояким отношением Философии к Религии определяются три периода истории философских учений как в Философии языческой, так и в христианской»78, – заключает Орест Новицкий. Выскажем ряд замечаний относительно этого мнения Новицкого.
Во-первых, как представляется, нет оснований для того, чтобы вести речь о «Философии Отцов Церкви», отдельной от христианского богословия. То, что многие отцы древней Церкви имели философское образование и использовали философские конструкции в христианском богословии, еще, думается, не есть свидетельство существования «Философии Отцов Церкви» вне ее (Церкви) богословия. Во всяком случае, эдикт св. Юстиниана 529 года, которым было запрещено преподавание философии в Афинах, не позволяет говорить о развитии «Философии Отцов Церкви»: этот эдикт острием своим был направлен против «первого христианского философа» – Оригена. Здесь, как представляется, больше оснований говорить о том, что Церковь к этому времени увидела определенную опасность в языческой философии для христианского сознания, что и выразил император Юстиниан эдиктом. Конечно, «метафизические идеи философии, пересаживаемые в христианскую церковь, здесь перерождались и получали другой высший и духовный смысл и, как в других областях жизни, так и здесь, в сфере философии, христианская религия извлекла все свежие соки, преобразовала их сообразно своему собственному духу, и усвоила себе, как принадлежащую себе собственность»79. Но в таком случае, как представляется, надо говорить о богословии. К тому же, в «процессе извлечения свежих соков» из философии легко было увлечься, что и приводило довольно часто к ересям, потому что «при всем формальном сходстве между неоплатонизмом и христианством, в их конечных итогах, в самом существе их учения обнаруживается громадная разница»80.