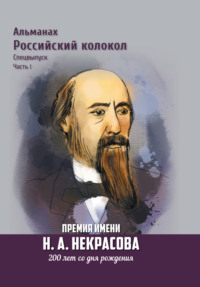Полная версия
Альманах «Российский колокол». Спецвыпуск. 150 лет со дня рождения Надежды Тэффи
Ничего удивительного. Лицемерный Запад на своем уровне. Потеряны фундаментальные основы, на которых возникла и зиждилась западная цивилизация. Но общество, где уже нельзя называть вещи своими именами, где извращения и пороки возведены на уровень добродетели, – такое общество не имеет никакого морального права присваивать себе статус защитника свободы. Общество, где отменяют половые различия и нормальную семью, – такое общество не может насаждать свою меру ценностей, стараясь навязать ее силой. Ибо это общество современных идолопоклонников, бездуховное общество крайнего гедонизма.
Что такое одинокий голос? Его не слышно в общем хоре шельмования и демонизации, но как писатель, думающий и пишущий по-русски, я протестую против преследования носителей великого языка и великой культуры и выражаю поддержку всем, на кого обрушился неоправданный гнев «прогрессивно мыслящих». А тем, кто взялся судить, хотелось бы напомнить: «Не судите, да не судимы будете»!
В Литовской дивизии
отрывок из романа «Рог Мессии»
Выходец из Литвы, в прошлом состоятельный коммерсант Юда Айзексон против своей воли в 1942 году попадает в формирующуюся Литовскую дивизию Красной Армии. Его семья уничтожена литовскими нацистами, и это обстоятельство, подкрепленное рассказами других, помогает Юде стать настоящим солдатом.
Несколько дней спустя эшелон Юды Айзексона прибыл в Балахну. Начались солдатские будни, и были они, хоть и тыловые, гораздо тяжелее для Юды, чем в армии Андерса. За день он так уставал, что к вечеру подгибались ноги, и только окружающая обстановка помогала переносить трудности. В Литовской дивизии на десять тысяч человек личного состава приходилось почти три тысячи евреев, и Юда чувствовал себя так, словно не покидал Каунас. На учениях, политзанятиях, в нарядах – всюду звучала еврейская речь, и литовцы, даже командиры, воспринимали это совершенно естественно. Они к такому привыкли. Непривычно было остальным видеть это и слышать.
Литовская дивизия являлась единственным подразделением Красной Армии, где еврейский язык имел почти те же права, что литовский и русский. Ораторы на собраниях говорили на идиш, еврейские песни звучали на маршах, а религиозные солдаты собирались в миньяны[4]. Было что-то неуловимо похожее на польскую армию Андерса, только с советским уклоном. Но если попав к Андерсу, Юда был счастлив, когда стал каптенармусом, то теперь, сам себе удивляясь, он не стремился занять подобную должность. Что-то случилось с Юдой, он отважно постигал непривычную и трудную для него солдатскую науку и уже с переменным успехом стрелял из винтовки, которую вначале боялся брать в руки. Но не эти учебные стрельбы сыграли с ним злую шутку, а занятия по штыковому бою. Набросившись на соломенное чучело, Юда промахнулся, потерял равновесие и, пытаясь удержаться, машинально схватился голой рукой за штык. Подбежавшему сержанту оставалось только смачно выругаться:
– И какой же это му…ила руками за штык хватается?! А приклад у тебя для чего?!
Сержант был русским, одним из многих, специально направленных в Литовскую дивизию, где не хватало военных специалистов. Добавив несколько крепких выражений, он сам отвел Юду в санчасть. Рану зашили, и черноволосая медсестра с симпатичным, но каким-то застывшим лицом еще долго после этого возилась с неудачником. Юде показалось, что она улыбнулась, и это подобие улыбки он истолковал по-своему. Конечно, над таким недотепой посмеяться не грех.
Но оказалось, что черноволосая и не думала смеяться. Ее лицо и взгляд говорили о гнездящейся в сердце тоске, только Юда, который стискивал зубы, чтобы не застонать, был не в состоянии разобраться.
– Терпите, – не меняя выражения лица, сказала медсестра. – Вы же солдат.
«“Вы”, – несмотря на боль, подумал Юда, ощущая себя стариком рядом с этой интересной, но странной медсестрой. – Сколько же ей лет? Наверно, двадцать пять, не больше…»
Вернувшись к себе, Айзексон почувствовал, что его охватывает знакомое волнение, приходившее всегда, когда ему нравилась женщина. Он все еще думал о ней, когда дня через два медсестра сама показалась в роте.
– Что же вы на перевязку не пришли? – с укором сказала она, поднимая на Юду печальные глаза. – А если рана загноится?
Юда и впрямь забыл, что должен был явиться на перевязку. Он с радостью устремился в санчасть.
– Мое имя Шейна, – поменяв повязку, неожиданно сказала медсестра. – А ваше?
– Юда. Я из Каунаса.
– А я из Шауляя. Там меня звали Ше́йнеле.
– Отличное имя. Мне нравится. А как вы попали в дивизию?
– Как и многие из нас. Добровольно. А вы?
Юда неопределенно пожал плечами.
– Давайте встретимся вечером, – предложил он. – Я вам все расскажу.
Ему показалось, что Шейна смутилась. Несколько минут она молчала и лишь потом ответила:
– Хорошо.
Из-за раненой руки Юда в общих занятиях не участвовал. Зато его назначили дневальным, и как раз в этот вечер он должен был дежурить. Юда понимал: надо что-то придумать, нельзя откладывать встречу, и подошел к Грише Марго́лису. Гриша, парикмахер из Плу́нге, никогда не бравший в руки даже охотничьего ружья, знакомый лишь с ножницами и бритвой, в военном деле делал успехи и уже стал командиром отделения.
– Гриша, подмени на часок. Очень надо.
Юда был уверен, что Гриша не откажет, но тот покачал головой:
– Не получится. Зверь в роте.
Зверем прозвали командира роты лейтенанта Гриба́ускаса. Тот служил в довоенной литовской армии и славился на всю дивизию требовательным и жестким характером. Юде от него пока еще не доставалось. Поранив руку, он ожидал разноса и очень удивился, когда лейтенант, не сказав ему ни слова, обратился к Марголису:
– Научи своих бойцов винтовку держать, иначе сам будешь каждый день штыковой бой отрабатывать.
Юда сник. Если Зверь здесь, с мечтой о санчасти можно распрощаться. На перевязке он сегодня уже был. Неожиданно грозный лейтенант, ни на кого не глядя, быстрым шагом прошел к выходу. Проводив его взглядом, Юда решился.
– Если что, скажешь: мол, рука разболелась, – бросил он Грише, выскакивая на улицу.
Уверенный в том, что его ждут, Юда почти бежал и был неприятно удивлен, увидев Шейну, беседующую с каким-то мужчиной в белом халате, по виду врачом. На Юду она не обратила внимания, и тот замешкался, не зная, как быть. Спустя несколько минут он осмелился кашлянуть. Медсестра обернулась.
– Я скоро. Пройдите в перевязочную, – официальным, ничего не выражающим голосом сказала Шейна. – Это боец, которому ты ладонь зашивал, – пояснила она собеседнику. – На перевязку пришел.
Юда вспомнил молодого доктора, зашивавшего руку, и расстроился еще больше. Возомнил, старый дурак. Захотел понравиться. Да ведь она, эта Шейна, моложе Дарьи! И с врачом на «ты». А он? Кому он такой, как сейчас, нужен?
Хотя дверь была открыта, разговора Юда не слышал. Наконец доктор встал, и Юда увидел, что Шейна улыбнулась.
«Значит, умеет», – подумал он. Юду не покидало ощущение какой-то двусмысленности. Он подозревал, что Шейна ведет себя неискренне, и если она не готова раскрыться, то зачем ему раскрываться перед ней? Но эта молодая женщина нравилась Юде все больше, и он не знал, как быть. Задумавшись, Юда не видел, что Шейна вошла в перевязочную, и очнулся, услыхав свое имя:
– Юда!
Взяв стул, Шейна придвинулась к нему:
– Вы обещали рассказать, как попали сюда.
Юда неуверенно посмотрел на Шейну. Он не узнавал себя. Где решительность, напористость, умение подчинить? Ничего не осталось. И с Дарьей спасовал тогда. Неужели и теперь так же будет? Тогда что-то вообразил и сейчас. А впрочем… Ведь не забыла же она про его обещание. Значит, ей интересно.
Рассказ Юды Шейна выслушала молча, без всякого выражения на застывшем лице. Юда даже усомнился, слушала ли она, но Шейна сказала все тем же бесцветным, монотонным голосом:
– Я тоже видела, как убивали евреев. Так же близко, как ваша Рива.
– Она не моя… – начал было Айзексон.
Но Шейна, не слыша его и не меняя тона, стала рассказывать.
Части вермахта прошли через Шауляй не задерживаясь. Контрудар, который попытались нанести отступавшие советские войска, не удался, и путь на Ригу был открыт. Поэтому в городе осталось лишь небольшое количество немцев, а расправлялись с евреями главным образом повстанцы из Фронта литовских активистов. Врывались в еврейские дома, забирали все ценное, а жильцов или убивали на месте, или уводили в лес на расстрел. На третий день белоповязочники пришли в квартиру родителей Шейны, где она жила с мужем и годовалой дочкой. Подгоняя прикладами, выгнали всех на улицу. Братья и сестры Шейны, жившие с семьями неподалеку, тоже были в толпе. Лишь одной сестры не хватало – Рины. Уже несколько лет она жила в Палестине, и там случилась беда: началось арабское восстание против англичан и евреев, и ее мужа убили.
– В семье у нас говорили: «Зачем поехала? Чтобы Зелику перерезали горло, как какому-нибудь петуху?» Разве знали мы, что нас самих ждет?
Пристрелили нескольких глубоких стариков и инвалидов, которые не могли идти, остальных погнали в лес. Шейне было плохо. Она не могла смириться с тем, что скоро умрет, во всем винила мужа, который отказался уходить с русскими, и, почти теряя сознание, чуть не уронила ребенка. Сестра взяла у нее девочку. На подходе к лесу колонна остановилась: несколько евреев стали громко молиться, конвоиры кинулись к ним, и в этот момент муж Шейны неожиданно резким и сильным движением столкнул ее в придорожный овраг. Оглушенная, она видела, как убили молившихся, остальные повернули в лес. Когда хвост колонны скрылся за деревьями, Шейна с трудом вылезла из оврага и, прячась за кустами, добралась до большой поляны. Обреченные уже находились там, и несколько молодых евреев рыли одну большую – на всех – могилу.
– Отбирали троих-четверых, ставили на край, – рассказывала Шейна, – выстраивали «композицию»: специально подбирали или стариков со старухами, или молодых – юношей и девушек, которых заставляли раздеваться догола и лизать друг другу гениталии, или только подростков. Насиловали женщин. На детей поменьше не тратили пуль: разбивали прикладом голову. А мою дочку подбросили, как мячик, и какой-то литовец поймал ее на штык.
Она по-прежнему говорила тусклым, унылым голосом, и Юда решил, что Шейна уже давно выплакала все слезы, похоронила своих мертвых. На ее глазах убили родителей и сестер, братьев, племянников и других многочисленных родственников, но глаза эти были сухими, только боль, навсегда застывшая в них, делала их непроницаемыми. Во время расстрела литовцы пили, но стреляли почти без промаха. А беззвучно рыдавшая Шейна потеряла сознание. Очнулась ночью. Надо было двигаться, но Шейна не знала, куда идти. Пошла наугад. На краю какой-то деревни постучала в дом. Открывшая дверь пожилая хозяйка сразу все поняла, дала хлеба и молока, но у себя не оставила.
– И тебе, и мне смерть, – сказала она, показывая рукой на восток, – туда иди. Может, выберешься еще…
По лесу Шейна скиталась две недели. Она сама не понимала, как ей удалось выжить. Ела ягоды, сырые грибы. Вышла снова к какой-то деревне. Впустивший в дом человек говорил по-русски, и Шейна узнала, что она в Белоруссии. Здесь ей позволили переночевать на сеновале, накормили и отправили дальше. Никто не решился, рискуя жизнью, укрывать долгое время еврейку, и она бродила по лесам еще несколько дней, пока не наткнулась на выбиравшихся из окружения красноармейцев. Командовал молодой офицер, а кто – тогда еще Шейна не разбиралась в званиях. Кажется, у него было три зеленых квадрата. То ли она ему приглянулась, то ли он ее пожалел, но этот командир разрешил Шейне идти с ними, предупредив обо всех опасностях. На это Шейна ответила, что ей уже все равно, и рассказала о том, что происходило в Литве.
Военные верили с трудом. Они еще не видели настоящих ужасов, а Шейна побывала в аду. Ей было неуютно, много раз она ловила на себе голодные мужские взгляды, хотя сильно исхудала. Тем не менее никто ее не тронул, и где-то за Смоленском они удачно перешли линию фронта. Оттуда Шейну отправили в тыл. Она была в плохом состоянии, лежала, не вставая, и, наверно, умерла бы от голода, если бы, собрав всю свою волю, не пошла на курсы медсестер. Шейна стремилась на фронт: ничто не держало ее в тылу, а смерти она не боялась. И еще ей хотелось убить хотя бы одного немца. Несмотря на то, что ее близких расстреливали литовцы, немцы их направляли, поощряли и позволили убивать, потому что именно они решили истребить всех евреев. Это Шейна хорошо понимала.
Слушая Шейну, Юда снова переживал рассказ Ривы. И хотя от Ривы он узнал о гибели семьи, то был рассказ со счастливым концом. Рива с ребенком не погибли, им удалось спастись, а Шейне повезло меньше. Она уцелела, но казнила себя сама, ибо видела гибель своей семьи и осталась после этого жить. Как только у нее рассудок не помутился? Нет, она человек нормальный, вот только голос и взгляд…
Юда встал. Шейна продолжала сидеть не двигаясь, а затем покачнулась, уронила голову и неожиданно для Юды пронзительно и горько зарыдала. Успокаивающим, как ему казалось, движением Юда ладонью провел по ее волосам, но Шейна сбросила его руку. Понимая, что ничем не может ей помочь, он вышел за дверь и побрел не разбирая дороги, пока не вспомнил, что должен вернуться в роту. Хотя время было позднее, лейтенант Грибаускас, словно специально кого-то поджидая, стоял у входа. Юда знал, что ему несдобровать, но случилось невероятное. Взглянув на Юду, Зверь посторонился и молча дал ему пройти. Сам же Юда не видел своего лица, но если бы увидел – все понял.
Эдуард Дипнер
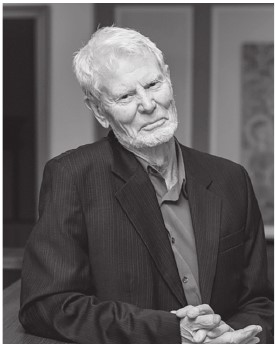
Родился в Москве. Окончил Уральский политехнический институт (заочно). Инженер-механик. Работал начиная с 16 лет рабочим-разметчиком, затем конструктором, главным механиком завода. С 1963 года работал главным инженером заводов металлоконструкций в Темиртау Карагандинской области, в Джамбуле (ныне Тараз), в Молодечно Минской области, в Первоуральске Свердловской области, в Кирове, а также главным инженером концерна «Легконструкция» в Москве. С 1992 по 2012 год работал в коммерческих структурах техническим руководителем строительных проектов, в том числе таких, как «Башня 2000» и «Башня Федерация» в Москве, стадион в Казани и др.
Пишет в прозе о пережитом и прочувствованном им самим.
Остров Мечты
рождественский рассказ
Самолет резко опустил левое крыло, и земля далеко внизу пошла ему навстречу, круто накренившись, и закружилась в плавном, медленном движении, отчего у Герки в восторге захватило дух. Земля была бугристой, кремнистой, выжженной солнцем, лишенной жизни. Самолет закончил разворот, покачав крыльями, а горы внизу расступились широкой дугой, и в эту дугу ворвалась голубизна водной глади.
«Океан, Атлантический океан», – понял Герка.
Он сидел у левого окна, уткнувшись носом в прохладный пластик, и старался не пропустить ни одной детали, запечатлеть в памяти каждый штрих фантастического полета. Люся уступила ему место, ей было неинтересно четыре часа таращиться на небо и облака, и она уткнулась в книжонку, купленную накануне в Москве, книжка была о здоровом сердце. Не очень увлекательно, но хоть чем-то можно заполнить долгие часы полета.
Прозрачная голубизна внизу густела, в нее добавили синьки и усеяли белыми крупинками манки. Коротенький обрезок спички прилип к ней, оставляя за собой тоненькую белую ниточку шлейфа. Время остановилось, самолет, как попавшая в паутину муха, висел неподвижно в центре гигантского голубого кокона без границ и ориентиров. Но вот впереди, там, где небо смыкалось с океаном, появилась расщелина, она росла, заполняя горизонт, и из нее вылепился темный конус. Ровный, мерный гул самолета стал глуше, самолет клюнул носом, и навстречу с ускоряющейся стремительностью понеслись скалы, одетые белой пеной. Уставший самолет весело пробежался по посадочной полосе и лихо подкатил к невысокому зданию аэропорта. Герка вышел на причаленный трап, вдохнул сказочно-теплый, наполненный дивными ароматами воздух и узнал его. Это был воздух Острова Мечты, мечты его далекого детства.
* * *Среди плоской казахстанской степи затерялся поселок Трудовой – кучка мазанок, прилепившаяся к речушке Шидертинке, ближайшая станция железной дороги – в двадцати восьми верстах. Ветер, родившись далеко на юге, в Заилийском Алатау, ничем не задержанный, гуляет по безбрежной степи, поднимая фонтанчики пыли, высушивая каменистую почву; осенью он гоняет стеблистые шары перекати-поля, или курая по-местному, и они катятся вперегонки, чтобы рассеять свои мелкие семена. Эти семена взойдут будущей весной, короткой и ветреной. Серо-зеленые побеги вцепляются в бесплодную каменистую почву, чтобы осенью высохнуть и сорваться в безумном нескончаемом беге. А зимой ветер поднимает снег, скупо выпавший в степи, и несет его плотными струями. Тяжко приходится путнику, попавшему в степной буран. Ветер заметает дорогу, превращает окружающий мир в сплошное белое полотно, сечет лицо, забивает глаза, валит с ног. В ровной, как стол, степи нет дорог, негде укрыться от беспощадного ветра.
Ветры революций, войн и репрессий реяли над страной, срывали людские судьбы с привычных, заселенных предками мест и несли их по бескрайним просторам пустынных земель нелепо огромной страны. И катились, как перекати-поле, людские судьбы, задерживаясь лишь вышками лагерей и сетью военных комендатур. В двадцать девятом сюда привезли с Северного Кавказа и выбросили в безлюдную, голую степь несколько семей кубанцев и осетин, умелых и старательных земледельцев, обрекли на гибель, такие не были нужны советской власти. Но они выжили.
Рыли землянки в сухой, каменистой земле, научились выращивать хлеб и овощи в бесплодной почве, развели скот, организовали колхоз «Трудовой», ставший со временем лучшим в районе. Но вихри репрессий доносили сюда все новые обломки людских судеб и трагедий. Тридцать первый год, тридцать седьмой, сорок первый, сорок четвертый… Казаки с Дона, московские немцы, чеченцы и ингуши жили теперь здесь бок о бок. Их соединяло чувство несправедливости, причиненной всем им.
* * *Он носил, как гирю, тяжеловесное нерусское имя Герман. Как обреченный пушкинский герой. Он чувствовал себя неловко под гнетом этого имени и откровенно завидовал мальчишкам с простыми, понятными именами: Иван, Петро, Грицко. Дед Иосиф Михайлович, выходец из немецкого Поволжья, был терзаем романтическим духом Шиллера и Гёте и давал своим внукам звучные литературные имена: Альфред, Виолетта, Инесса. Наверное, он считал, что звучные и нарочито красивые имена сделают их жизнь необычной, возвышенной. Русские невестки Иосифа Михайловича сопротивлялись как могли, но тесть был непререкаемым авторитетом в семье. Избежала этой участи лишь старшая, Нина. Она родилась в Баку, где проходил военную службу отец, Иосиф Иосифович.
Семья Герки, восемь человек, включая дедушку и бабушку, была выслана из Москвы в августе сорок первого и после долгих скитаний через полстраны поселена в этом степном поселке. Крохотная мазанка с земляным полом, три глиняных ступеньки с улицы вниз, в небольшое оконце низко над землей видны только ноги проходящих мимо. Вся мебель – это нестроганые доски нар, а трое малышей сгрудилась на полатях печки, обогревавшей мазанку. Все удобства для справления нужды – на улице, за кучей мусора, а вода – в жестяном ведре на колченогом табурете, принесенная из колодца, в двухстах метрах по улочке поселка.
Горькое ощущение несправедливости, совершенной над ним и его семьей, будет сопровождать Герку всю жизнь. Он понимал, что шла война, что немцы-гитлеровцы вероломно и несправедливо напали на его страну.
«Но ведь мама у нас русская, мы все считаем себя русскими и готовы защищать нашу страну, – думал он. – Когда началась война, старшие сестра и брат по ночам дежурили на крыше, чтобы тушить зажигательные бомбы, которые фашисты сбрасывали на Москву. За что же нас, как врагов, выселили из нашей столицы и загнали в эту землянку?» Вернуться в Москву, исправить несправедливость – стало его затаенной мечтой.
Он вернется в столицу как главный инженер крупного всероссийского промышленно-строительного объединения… спустя сорок семь лет. Он пройдет путь от рабочего-разметчика до инженерных высот. На этом пути будут взлеты и падения, решимость и отчаяние, заводы, которые нужно было ему вытаскивать из бедственных положений, бессонные ночи и тяжкий, от взятой на плечи ответственности, труд.
А пока над затерянным в степи поселком завывает буран. Ветер яростно бросает в низкое, над землей, оконце горсти снега, растет сугроб за окном, и землянка погружается в снежную могилу. Вот уже завалено окошко, сугробом завалена дверь, вся семья сидит, тесно сгрудившись, слушая завывания ветра в печной трубе. Наступает время чтения.
Герке семь лет, он тощий, золотушный и болезненный от бескормицы, но уже читает бегло и назначен главным чтецом. Книжек было три: «Жизнь на льдине» Папанина, «Рассказы о животных» Сетона-Томпсона и «Водители фрегатов» Н. Чуковского. Одна из московских семей привезла с собой самое ценное, что у них было, – связку книг, и Гер-ка, тщательно вымыв руки и нос, отправлялся в этот дом с просьбой дать почитать. Взамен приносил томик Пушкина и «Жизнь животных» Брема, что привезла с собой старшая сестра Нина.
Четверка героев – Папанин, Фёдоров, Ширшов и Кренкель, – высадившись на дрейфующую льдину на Северном полюсе, стойко сражается с полярными морозами и метелями, изучает Северный Ледовитый океан, чтобы советские ледоколы смогли плавать в этом океане и чтобы Северный полюс был нашим, советским. Они живут в палатке, засыпаемой снегом, и по радио сообщают в Москву о своих исследованиях. У них есть электрический движок, и неярким светом горит в палатке лампочка.
В мазанке, где живет Герка, нет электричества и зажигается коптилка. В блюдечко налито чуть-чуть черного мазута, который принесла из тракторной бригады мама, – она работает там учетчиком-заправщиком, – из мазута высовывается ватный фитилек, от крошечного трепетного пламени тянется к потолку нить копоти. Когда Герка читает, зажигаются еще два фитилька, чтобы было светлее. Все сидят тихо, зачарованно глядя на горящие язычки, и начинается волшебство. Раздвигаются стены, уходит вверх низкий закопченный потолок. В прерии Куррумпо выходит на охоту старый седой великан-волк Лобо, наводя страх на ковбоев. Охотник Ян идет по следу оленя, вожака оленьей стаи, и маленькая отважная куропатка Красношейка защищает своих птенцов от злой лисицы.
Но самой увлекательной и чудесной была книжка «Водители фрегатов». Отважные капитаны Джеймс Кук, Жан Лаперуз, Дюмон Дюрвиль выводили из гаваней свои крутогрудые фрегаты, отправляясь на поиски новых земель в безбрежных водах, и свежие ветры наполняли их белоснежные паруса. Они покидали Европу и плыли на юг по Атлантическому океану. Их трепали штормы, но они смело продолжали свой путь. Неделя за неделей плыли они по водным просторам, сопровождаемые резвыми дельфинами, летучими рыбами и фонтанами китов на горизонте, пока наконец от дозорного матроса, сидевшего в корзине на топе самой высокой мачты – грот-мачты, не доносился крик: «Земля-я-я!» И вся команда фрегата высыпала на палубу, наблюдая, как на горизонте вырастает конус острова. Берега острова были круты, и снежно-белый прибой разбивался о скалы. Но, обогнув остров, они попадали в тихую бухту и бросали якоря, чтобы запастись свежей водой и едой, набраться сил и продолжить затем свое отважное плавание.
Герка был там вместе с мореплавателями, вместе с ними он ступал на берег, где с гор бежали кристально чистые ручьи, пальмы склоняли широкие перистые листья к океанскому прибою и диковинные птицы кричали пронзительными голосами, а свирепые туземцы гуанчи прятались за скалами и переговаривались свистом. Самое удивительное было то, что они были белокожими, эти гуанчи. И рыжими, как Герка. Герка обязательно научится свистеть, как гуанчи. Шорохом листвы и журчаньем воды звучало волшебное название острова – Те-не-ри-фе.
Конечно, он понимал, что это – волшебная, недостижимая сказка, и даже не мечтал о том, что можно очутиться на этом острове. Но уж очень красивой и сладкой была сказка.
* * *Как всегда, договор подписывается тогда, когда почти не остается времени на работу. Две недели подбирал материалы, считал расходы, разрабатывал узлы, рассчитывал ветровые нагрузки, ломал голову, как провести и смонтировать конструкции, вытягивал из архитекторов их условия и спорил с ними. Уже сделал перечень болтов, гаек, грунтов, эмалей, тросов; начертил рабочие чертежи, составил договор. Кажется, все предусмотрел. До Нового года рукой подать, а заказчик все тянет время, не подписывает договор, торгуется из-за каждого рубля.
Только десятого декабря наконец объявляется разгоряченный Юра Рубцов: