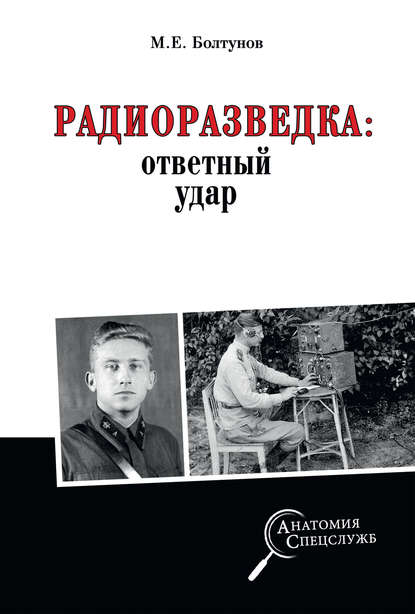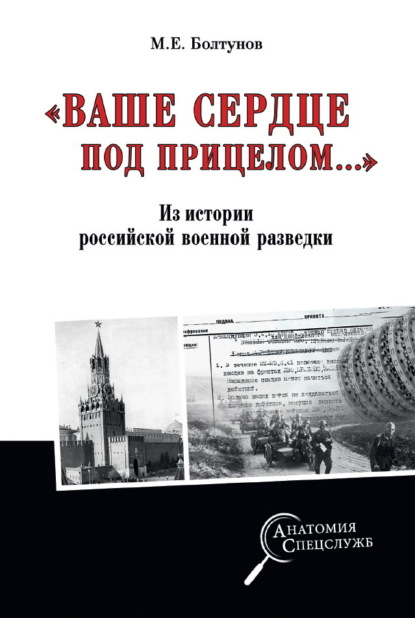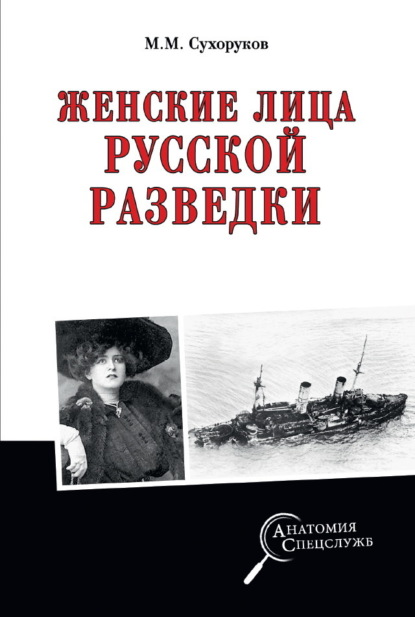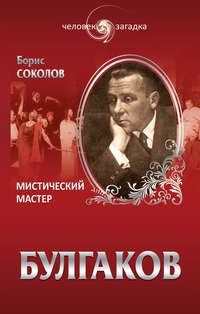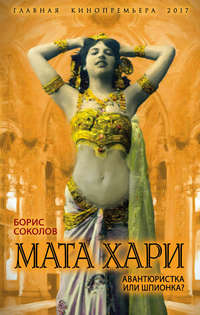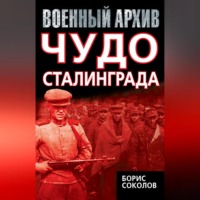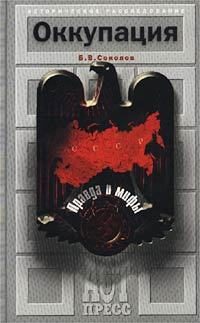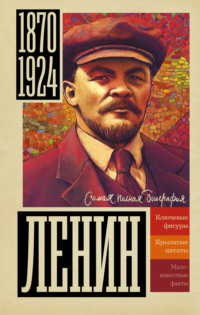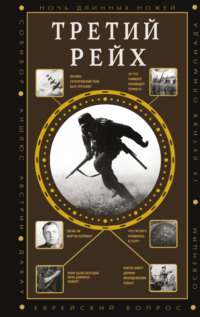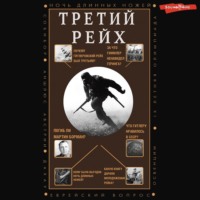Полная версия
Николай Ежов и советские спецслужбы
Александр Григорьевич Соловьев записал в дневнике, как Ежов чистил Научно-исследовательский институт мирового хозяйства и мировой политики Академии наук СССР: «Нас вызывали опять в НКВД к начальнику отдела Грязнову. Он стал расспрашивать о сотрудниках. Варга возмутился, сказал, нас мало интересуют биографии, мы оцениваем [сотрудников] по результатам научной работы. Грязнов ответил, что считает наш институт сильно засоренным чуждыми людьми и [что институт] нуждается в расчистке. Варга запротестовал. Грязнов предложил нам пойти к Ежову. Передал, что Варга считает НКВД помехой в работе и защищает аппарат. Ежов рассердился, сказал, что мы забываем призывы великого вождя и учителя гениального Сталина к высокой бдительности. Что мы не понимаем и недооцениваем таящейся в нашем институте контрреволюционной опасности. Среди сотрудников эмигрантов и бывших за границей, наверное, имеются завербованные американской, английской, французской и др. контрразведками и [агенты] фашистского гестапо. Ежов приказал немедленно представить на каждого всестороннюю характеристику и особый список близко соприкасавшихся с Зиновьевым, Каменевым, Сафаровым, Радеком, Бухариным. Мы ушли удрученные». Радек и Бухарин еще на свободе, причем последний еще остается редактором «Известий», второй центральной газеты страны, но их судьба уже предрешена, раз за одну только связь с ними людей уже собираются вычистить из партии. 21 марта Соловьев отметил: «Варга вместе со мной и Войтинским ходили к Бауману с жалобой на Ежова – отвлекает от научной прямой работы. Бауман сказал, что он не судья члену Политбюро, и повел к Жданову. Узнав суть жалобы, Жданов позвонил т. Сталину. Мы перепугались и раскаивались, но было поздно. Скоро пришел т. Сталин. Спросил Варгу, чем его обидел Ежов. Варга ответил: ничем, но требует не свойственной институту работы. Тов. Сталин нахмурился, но спокойно объяснил. Вероятно, Варга не представляет всей трудности работы Ежова от этого недоразумения. Он сказал, что Варга, несомненно, большой уважаемый ученый, много помогает ЦК, СНК, ИККИ, его очень ценят, но он недостаточно ясно понимает всю сложность современной внутриполитической обстановки и чрезмерно доверчив. А от этого выигрывает враг. Мы ушли, поняв, что надо выполнять требования Ежова»[82].
11 февраля 1935 года комиссии Политбюро под руководством Ежова было поручено проверить работников аппарата ЦИК СССР и ВЦИК на предмет «элементов разложения». В результате проверки 21 марта предварительный доклад Ежова по поводу «работы аппарата ЦИК СССР и товарища Енукидзе» был одобрен Политбюро. Там говорилось, что в начале 1935 года среди работников персонала Кремля велась контрреволюционная деятельность (которая на самом деле выразилась в рассказывании анекдотов), направленная против Сталина и руководства партии. НКВД обнаружил несколько связанных между собой контрреволюционных групп, которые совместно пытались организовать покушение на Сталина и других членов Политбюро. Многие члены этих групп пользовались поддержкой и защитой Енукидзе, который назначал их на должности, а с некоторыми из женщин сожительствовал, хотя и не знал о подготовке покушения на Сталина. Ежов утверждал, что Авель Сафронович позволил использовать себя классовому врагу как человека, «потерявшего политическую бдительность и проявившего не свойственную коммунисту тягу к бывшим людям». Хотя дело было полностью сфальсифицировано, Енукидзе было решено отправить в Тбилиси главой ЦИК Закавказья. Но Авель Софронович попросил его вместо Тифлиса направить в Кисловодск на лечение. 8 мая Енукидзе подал заявление об освобождении его от обязанностей председателя ЦИК Закавказья по состоянию здоровья и предоставлении ему работы в Москве, а если это невозможно – на Северном Кавказе в качестве уполномоченного ЦИК. 13 мая просьба была удовлетворена, и Енукидзе назначили уполномоченным ЦИК СССР по району Кавказских Минеральных Вод[83].
Мария Анисимовна Сванидзе (Корона), жена брата первой жены Сталина, оперная певица, писала в дневнике 28 июня 1935 года об Енукидзе: «Авель, несомненно, сидя на такой должности, колоссально влиял на наш быт в течение 17 лет после революции. Будучи сам развратен и сластолюбив, он смрадил все вокруг себя: ему доставляло наслаждение сводничество, разлад семьи, обольщение девочек. Имея в своих руках все блага жизни, недостижимые для всех, в особенности в первые годы после революции, он использовал все это для личных грязных целей, покупая женщин и девушек. Тошно говорить и писать об этом. Будучи эротически ненормальным и, очевидно, не стопроцентным мужчиной, он с каждым годом переходил на все более и более юных и наконец докатился до девочек в 9–11 лет, развращая их воображение, растлевая их, если не физически, то морально. Это фундамент всех безобразий, которые вокруг него происходили. Женщины, имеющие подходящих дочерей, владели всем. Девочки за ненадобностью подсовывались другим мужчинам, более неустойчивым морально. В учреждение набирался штат только по половым признакам, нравившимся Авелю. Чтобы оправдать свой разврат, он готов был поощрять его во всем»[84].
Авель Сафронович, являвшийся председателем Правительственной комиссии по руководству Большим и Художественным театрами, был неравнодушен к прекрасному полу, особенно к актрисам подведомственных театров. Все это стало основанием для Михаила Булгакова сделать его одним из прототипов главы Акустической комиссии Аркадия Аполлоновича Семплеярова в романе «Мастер и Маргарита». Енукидзе также был членом коллегии Наркомпроса и Государственной комиссии по просвещению, располагавшихся на Чистых прудах в доме № 6. На Чистых прудах находилась и акустическая комиссия Семплеярова. У Булгакова:
«Приятный звучный и очень настойчивый баритон послышался из ложи № 2:
– Все-таки желательно, гражданин артист, чтобы вы незамедлительно разоблачили бы перед зрителями технику ваших фокусов, в особенности фокус с денежными бумажками. Желательно также и возвращение конферансье на сцену.
Судьба его волнует зрителей.
Баритон принадлежал не кому иному, как почетному гостю сегодняшнего вечера Аркадию Аполлоновичу Семплеярову, председателю акустической комиссии московских театров.
Аркадий Аполлонович помещался в ложе с двумя дамами: пожилой, дорого и модно одетой, и другой – молоденькой и хорошенькой, одетой попроще. Первая из них, как вскоре выяснилось при составлении протокола, была супругой Аркадия Аполлоновича, а вторая – дальней родственницей его, начинающей и подающей надежды актрисой, приехавшей из Саратова и проживающей на квартире Аркадия Аполлоновича и его супруги.
– Пардон! – отозвался Фагот, – я извиняюсь, здесь разоблачать нечего, все ясно.
– Нет, виноват! Разоблачение совершенно необходимо. Без этого ваши блестящие номера оставят тягостное впечатление. Зрительская масса требует объяснения.
– Зрительская масса, – перебил Семплеярова наглый гаер, – как будто ничего не заявляла? Но, принимая во внимание ваше глубокоуважаемое желание, Аркадий Аполлонович, я, так и быть, произведу разоблачение. Но для этого разрешите еще один крохотный номерок?
– Отчего же, – покровительственно ответил Аркадий Аполлонович, – но непременно с разоблачением!
– Слушаюсь, слушаюсь. Итак, позвольте вас спросить, где вы были вчера вечером, Аркадий Аполлонович?
При этом неуместном и даже, пожалуй, хамском вопросе лицо Аркадия Аполлоновича изменилось, и весьма сильно изменилось.
– Аркадий Аполлонович вчера вечером был на заседании акустической комиссии, – очень надменно заявила супруга Аркадия Аполлоновича, – но я не понимаю, какое отношение это имеет к магии.
– Уй, мадам! – подтвердил Фагот, – натурально, вы не понимаете.
Насчет же заседания вы в полном заблуждении. Выехав на упомянутое заседание, каковое, к слову говоря, и назначено-то вчера не было, Аркадий Аполлонович отпустил своего шофера у здания акустической комиссии на Чистых прудах (весь театр затих), а сам на автобусе поехал на Елоховскую улицу в гости к артистке разъездного районного театра Милице Андреевне Покобатько и провел у нее в гостях около четырех часов.
– Ой! – страдальчески воскликнул кто-то в полной тишине.
Молодая же родственница Аркадия Аполлоновича вдруг расхохоталась низким и страшным смехом.
– Все понятно! – воскликнула она, – и я давно уже подозревала это. Теперь мне ясно, почему эта бездарность получила роль Луизы!
И, внезапно размахнувшись коротким и толстым лиловым зонтиком, она ударила Аркадия Аполлоновича по голове.
Подлый же Фагот, и он же Коровьев, прокричал:
– Вот, почтенные граждане, один из случаев разоблачения, которого так назойливо добивался Аркадий Аполлонович!
– Как смела ты, негодяйка, коснуться Аркадия Аполлоновича? – грозно спросила супруга Аркадия Аполлоновича, поднимаясь в ложе во весь свой гигантский рост.
Второй короткий прилив сатанинского смеха овладел молодой родственницей.
– Уж кто-кто, – ответила она, хохоча, – а уж я-то смею коснуться! – и второй раз раздался сухой треск зонтика, отскочившего от головы Аркадия Аполлоновича.
– Милиция! Взять ее! – таким страшным голосом прокричала супруга Семплеярова, что у многих похолодели сердца».
Правда, в отличие от Семплеярова, Енукидзе был холостяком.
6 июня 1935 года на пленуме ЦК Ежов заявил, что расстрелянные за убийство Кирова Л.В. Николаев и его сообщники были связаны с Зиновьевым, Каменевым и Троцким и что «непосредственное участие Каменева и Зиновьева в организации террористических групп» было доказано, равно как и ответственность Троцкого за организацию террора. Прошелся Николай Иванович и по Авелю Софроновичу, инкриминируя ему «преступное ротозейство, благодушие и разложение». Аппарат ЦИК, по словам Ежова, стал «крайне засоренным чуждыми и враждебными советской власти элементами», которые смогли беспрепятственно «свить там свое контрреволюционное гнездо» под покровительством Енукидзе. В Кремле создалась обстановка, «при которой террористы могли безнаказанно готовить покушение на товарища Сталина». Енукидзе, как подчеркивал Ежов, являлся «наиболее типичным представителем разложившихся и благодушествующих коммунистов, разыгрывающих из себя, за счет партии и государства, «либеральных» бар, которые не только не видят классового врага, но фактически смыкаются с ним, становятся невольно его пособниками, открывая ворота врагу для его контрреволюционных действий». Ежов рекомендовал вывести Енукидзе из ЦК ВКП(б). Ягода покаялся: «Я признаю здесь свою вину в том, что я в свое время не взял Енукидзе за горло и не заставил его выгнать всю эту сволочь». И тут же предложил арестовать Авеля Софроновича и выяснить, не было ли у него умысла на теракт.
Ежов в заключение заявил, обращаясь к Енукидзе: «Всю эту белогвардейскую мразь, которая засела в Кремле, вы изо дня в день поддерживали, всячески защищали, оказывали им материальную помощь, создали обстановку, при которой эти отъявленные контрреволюционеры, террористы, чувствовали себя в Кремле, как дома, чувствовали себя хозяевами положения». ЦК пошел дальше предложения Ежова и исключил Енукидзе из партии[85].
Осенью 1935 года Ежов опять лечился от пневмонии в Вене и Бад-Гаштейне. Его опять сопровождала жена, с радостью прильнувшая к венским магазинам модного платья. Все заграничные поездки в 1939 году аукнулись Николаю Ивановичу обвинениями в шпионаже в пользу Германии, которые он после изрядной порции побоев признал[86].
4 февраля 1936 года Ежова во главе ОРПО сменил Г.М. Маленков. Потом Николай Иванович сокрушался, что далеко не всех вычищенных из партии НКВД при Ягоде арестовало[87].
В августе 1935 года по предложению Сталина Ежов был избран членом Исполкома Коминтерна – чтобы сподручнее было репрессировать политэмигрантов. Главным врагом среди политэмигрантов были объявлены поляки. А 11 августа 1937 года, уже будучи главой НКВД, Ежов направил подчиненным закрытое письмо «О фашистско-повстанческой, шпионской, диверсионной, пораженческой и террористической деятельности польской разведки в СССР», положившей начало самой крупной из операций НКВД по «национальным контингентам» – польской. В письме говорилось: «НКВД Союза вскрыта и ликвидируется крупнейшая и, судя по всем данным, основная диверсионно-шпионская сеть польской разведки в СССР, существовавшая в виде так называемой «Польской организации войсковой» («ПОВ»). Накануне Октябрьской революции и непосредственно после нее Пилсудский создал на советской территории свою крупнейшую политическую агентуру, возглавлявшую ликвидируемую сейчас организацию, а затем из года в год систематически перебрасывал в СССР, под видом политэмигрантов, обмениваемых политзаключенных, перебежчиков, многочисленные кадры шпионов и диверсантов, включавшихся в общую систему организации, действовавшей в СССР и пополнявшейся здесь за счет вербовки среди местного польского населения.
Организация руководилась центром, находившимся в Москве – в составе Уншлихта, Муклевича, Ольского и других, и имела мощные ответвления в Белоруссии и на Украине, главным образом в пограничных районах и ряде других местностей СССР.
К настоящему времени, когда ликвидирована, в основном только головка и актив организации, уже определилось, что антисоветской работой организации были охвачены – система НКВД, РККА, Разведупр РККА, аппарат Коминтерна, прежде всего Польская секция ИККИ, Наркоминдел, оборонная промышленность, транспорт – преимущественно стратегические дороги западного театра войны, сельское хозяйство.
Основной причиной безнаказанной антисоветской деятельности организации в течение почти 20-ти лет является то обстоятельство, что почти с самого момента возникновения на важнейших участках противопольской работы сидели проникшие в ВЧК крупные польские шпионы – Уншлихт, Мессинг, Пиляр, Медведь, Ольский, Сосновский, Маковский, Логановский, Баранский и ряд других, целиком захвативших в свои руки всю противопольскую разведывательную и контрразведывательную работу ВЧК – ОГПУ – НКВД…
Вредительство в советской разведывательной и контрразведывательной работе.
После окончания советско-польской войны основной кадр организации возвращается в Москву и, используя пребывание Уншлихта на должностях зампреда ВЧК – ОГПУ, а затем зампреда РВС, разворачивает работу по захвату под свое влияние решающих участков деятельности ВЧК – ОГПУ (Пиляр – нач. КРО ВЧК, Сосновский и его группа в КРО ВЧК, Медведь – председатель МЧК, позднее сменил Мессинга на посту ПП ОГПУ в ЛВО, Логановский, Баранский и ряд других в системе ИНО – ВЧК – ОГПУ – НКВД) и Разведупра РККА (Бортновский и др.)
Работа организации в системе ВЧК – ОГПУ – НКВД и Разведупра РККА в течение всех лет направлялась в основном по следующим линиям:
1. Полная парализация нашей контрразведывательной работы против Польши, обеспечение безнаказанной успешной работы польской разведки в СССР, облегчение проникновения и легализации польской агентуры на территорию СССР и различные участки народно-хозяйственной жизни страны.
Пиляр, Ольский, Сосновский и другие в Москве, Белоруссии, Мессинг, Медведь, Янишевский, Сендзиковский и другие в Ленинграде – систематически срывали мероприятия наших органов против польской разведки, сохраняли от разгрома местные организации «ПОВ», предупреждая группы и отдельных членов «ПОВ» об имеющихся материалах, готовящихся операциях, консервировали и уничтожали поступавшие от честных агентов сведения о деятельности «ПОВ», заполняли агентурно-осведомительную сеть двойниками, работавшими на поляков, не допускали арестов, прекращали дела.
2. Захват и парализация всей разведывательной работы НКВД и Разведупра РККА против Польши, широкое и планомерное дезинформирование нас и использование нашего разведывательного аппарата за границей для снабжения польской разведки нужными ей сведениями о других странах и для антисоветских действий на международной арене.
Так, член «ПОВ» Сташевский, назначенный Уншлихтом на закордонную работу, использовал свое пребывание в Берлине в 1923 году для поддержки Брандлера в целях срыва и разгрома пролетарского восстания в Германии, действуя при этом по прямым директивам Уншлихта.
Член «ПОВ» Жбиковский, направленный Бронковским на закордонную работу Разведупра РККА, вел провокационную работу в целях осложнения взаимоотношений СССР с Англией.
По директивам Уншлихта члены организации Логановский и Баранский использовали свое пребывание по линии ИНО в Варшаве в период отстранения Пилсудского от власти для организации под прикрытием имени ОГПУ диверсионных пилсудчиковских организаций, действовавших против тогдашнего правительства эндеков в Польше, и готовили от имени резидентуры ИНО провокационное покушение на французского маршала ФОША во время его приезда в Польшу, в целях срыва установления нормальных дипломатических отношений между Францией и СССР.
3. Использование положения членов «ПОВ» в ВЧК – ОГПУ – НКВД для глубокой антисоветской работы и вербовки шпионов».
В результате этих ежовских фантазий репрессиями были подвергнуты 140 тыс. поляков, из которых более 111 тыс. были расстреляны в 1937–1938 годах[88].
Как отмечают Н.В. Петров и М. Янсен, «специфическим аспектом Большого Террора была ликвидация «потенциальной разведывательной базы» вражеских государств, или так называемые «национальные операции» (эти термины использовались в приказах НКВД, а также Ежовым в его докладе к июньскому (1937) пленуму). Главными жертвами этих репрессий стали лица, имевшие национальность «буржуазно-фашистских» государств, граничивших с СССР, например, немцы, финны, эстонцы, латыши и поляки. Принадлежавшие к этим нациям были арестованы, а их дела рассматривались так называемыми двойками. После краткого разбирательства и одобрения в Москве приговоры приводились в исполнение местными органами»[89].
Во главе большого террора
29 июля 1936 года закрытое письмо «О террористической деятельности троцкистско-зиновьевского контрреволюционного блока», проект которого подготовил Ежов, было разослано в партийные организации. Там утверждалось, что на основе «новых материалов», добытых НКВД в 1936 году, можно сделать вывод о планировании Каменевым и Зиновьевым покушения на Сталина, и что с 1932 года объединенный троцкистско-зиновьевский блок направлял эту террористическую деятельность[90]. Это предрешало смертный приговор всем фигурантам процесса.
С Ягодой отношения складывались напряжённые. Генрих Григорьевич, как профессионал своего дела, был не в восторге от вмешательства дилетанта Николая Ивановича в дела НКВД. Но от Ежова профессионализм и не требовался. Тем не менее они вместе готовят первый большой политический процесс в Москве, на котором в августе 36-го судят Каменева и Зиновьева. Но, когда дело дошло до суда, Ягода от процесса был отстранён. 18 августа 1936 года Каганович и Ежов направили отдыхающему в Сочи Сталину предложения по освещению в прессе «контрреволюционно-троцкистской зиновьевской террористической группы»: «В «Правде» и «Известиях» печатаются ежедневно отчёты о процессе размером до половины полосы. Обвинительное заключение и речь прокурора печатаются полностью. Все отчёты рассылаются через ТАСС, имеющий для этого необходимый аппарат. Помимо этого, в газетах печатаются статьи и отклики по ходу процесса (резолюции и т. п.). Весь материал проходит в печать с визой т.т. Стецкого, Таля, Мехлиса, Вышинского и Агранова. Общее наблюдение возлагается на тов. Ежова.
Из представителей печати на процесс допускаются: а) редактора крупнейших центральных газет, корреспонденты «Правды» и «Известий»; б) работники ИККИ (Исполкома Коминтерна. – Б.С.) и корреспонденты для обслуживания иностранных коммунистических работников печати; в) корреспонденты иностранной буржуазной печати.
Просятся некоторые посольства. Считаем возможным выдать билеты лишь для послов – персонально»[91].
Вождь эти предложения одобрил. Это значило, что песенка Ягоды спета. Он ещё занимал кабинет в Наркомате внутренних дел, но от контроля над ходом следствия и суда по делу Зиновьева, Каменева и их товарищей уже был отстранён.
Фактически Ежов уже исполнял функции главы карательного ведомства. Он и Каганович ежедневно информировали Сталина о ходе процесса. Судя по черновикам шифрограмм, готовил тексты Ежов, а затем их редактировал Каганович.
19 августа Николай Иванович и Лазарь Моисеевич сообщали: «Зиновьев заявил, что он целиком подтверждает показания Бакаева о том, что последний докладывал Зиновьеву о подготовке террористического акта над Кировым и, в частности, о непосредственном исполнителе Николаеве. Кроме того, дополнительно Зиновьев сообщил, что в день убийства Кирова член Ленинградского центра Мандельштам выехал лично к Зиновьеву для доклада. Мандельштам доложил Зиновьеву все обстоятельства убийства Кирова.
Каменев просит допросить свидетеля Яковлева, только после его, Каменева, опроса…
После оглашения обвинительного заключения все подсудимые опрошены, признают ли себя виновными – все ответили: «Да, признаю».
Оговорки сделали трое:
А) Смирнов заявил: входил в состав объединённого центра; знал, что центр организован с террористическими целями; получил лично директиву от Троцкого о переходе к террору. Однако, сам лично в подготовке террористических актов участия не принимал.
Б) Гольдман заявил, что признаёт себя виновным. Подтвердил получение письменного циркуляра Троцкого о переходе к террору и о том, что эту директиву передал центру и, в частности, Смирнову. В то же время оговаривает, что личного участия в подготовке террористических актов не принимал.
В) Тер-Ваганян признал себя виновным только в пределах данных ему показаний (входил в состав террористического центра и др., согласно его показаниям в протоколе).
На иностранных корреспондентов признание всех подсудимых в своей виновности произвело ошеломляющее впечатление.
После перерыва начался допрос Мрачковского. Держится спокойно. Все показания подтвердил. И уточнил. Совершенно угробил Смирнова. Смирнов вынужден под давлением показаний и прокурора подтвердить в основном показания Мрачковского. Даже хорошо, что он немного фрондирует. Попал благодаря этому в глупое положение. Все подсудимые набрасываются на Смирнова»[92].
Незапланированные отклонения подсудимых от первоначального сценария процесса были Сталину только на руку. Наивные попытки Смирнова, Гольдмана и Тер-Ваганяна отрицать непосредственное участие в подготовке убийства Кирова ещё больше убеждали публику, что идёт самый настоящий суд, где преступники стараются, признавшись в меньших грехах, уйти от главного, наиболее тяжкого обвинения, которое безусловно грозит смертной казнью. Основная же масса подсудимых с готовностью заклевала «фрондёров», пытаясь «примерным поведением» в глазах прокурора и следствия купить себе жизнь.
В тот же день Сталин получил письмо Радека, чьё имя уже прозвучало на процессе. Карл Бернгардович понимал, что следующей жертвой будет он, и спешил «отмежеваться» и предложить свои услуги по разоблачению своих вчерашних товарищей. Иосиф Виссарионович с удовлетворением писал Кагановичу и Ежову: «Читал письмо Радека на моё имя в связи с процессом троцкистов. Хотя письмо не очень убедительное, предлагаю всё же снять пока вопрос об аресте Радека и дать ему напечатать в «Известиях» статью за своей подписью против Троцкого. Статью придётся предварительно просмотреть»[93].
В ночь с 19-го на 20-е Каганович и Ежов информировали Сталина о том, что происходило на суде: «В утреннем и вечернем заседаниях допрошены: Мрачковский, Евдокимов[94], Дрейцер, Рейнгольд, Бакаев и Каменев. Наиболее характерным из их допросов является следующее.
Мрачковский целиком подтвердил всю фактическую сторону своих показаний на предварительном следствии и уточнил эти показания. Особенно убедительны показания в отношении роли Троцкого и Смирнова…
Евдокимов полностью подтвердил показания на предварительном следствии и дополнил рядом важных деталей. Наиболее убедительны в его показаниях подробности убийства Кирова по прямому поручению Троцкого, Зиновьева, Каменева, его – Евдокимова и др.
Дрейцен подтвердил все показания… Особо остановился на роли Троцкого, Смирнова и Мрачковского. В отношении их дал подробнейшие показания. Особенно нападал на Смирнова за попытку последнего замазать свою роль в организации террора.
Рейнгольд целиком подтвердил… показания и уточнил их… Наиболее характерным в его показаниях является: подробное изложение двух вариантов плана захвата власти (двурушничество, террор, военный заговор); подробное сообщение о связи с правыми и о существовании у правых террористических групп (Слепков, Эйсмонт), о которых знали Рыков, Томский и Бухарин; сообщение о существовании запасного центра в составе Радека, Сокольникова, Серебрякова и Пятакова; сообщение о плане уничтожения следов преступления путём истребления как чекистов, знающих что-либо о преступлении, так и своих террористов; сообщение о воровстве государственных средств на нужды организации…