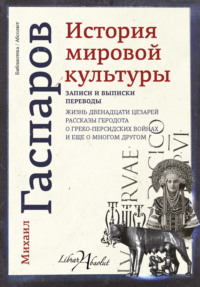Полная версия
Собрание сочинений в шести томах. Т. 3: Русская поэзия
Где ты, время невозвратное Незабвенной старины? Где ты, солнце благодатное Золотой моей весны?..
Не сбылись, мой друг, пророчества Пылкой юности моей: Горький жребий одиночества Мне сужден в кругу людей.
Между мною и любимого Безнадежное «прости!». Не призвать невозвратимого, Дважды сердцу не цвести…
Жизнь моя едва колышется, В тяжком изнываю сне. Счастлив, если хоть послышится Шаг царицы песней мне!
Ах, когда ж жильцам-юдольникам, Возвратят полет и нам, И дадут земным невольникам Вольный доступ к небесам?..
При желании эти пять четверостиший можно прочитать подряд как единое лирическое стихотворение, достаточно связное и законченное композиционно. Однако на самом деле все пять строф принадлежат пяти различным авторам: Полежаеву («Негодование», 1835), Рылееву («Стансы», 1824), Бестужеву («Осень», 1831), Кюхельбекеру («Слепота», 1846), Ф. Глинке («Ангел», 1837).
Впервые сопоставил метрику некоторых стихотворений этой традиции И. Н. Розанов[37], но тематического сходства их он не касался, а оно разительно.
Конечно, эта подборка примеров скорее показательна, чем доказательна, но и более подробный анализ может только подтвердить сказанное. В каждом стихотворении – контраст светлого прошлого и горького настоящего. Прошлое обрисовывается мотивами «света» и «пыла»: от Жуковского – «зрела я небес сияние», «свет небесного лица», «пылкая младость», «ланит пылание» – появляется «пылкая юность» у Рылеева, «души моей сияние» у Бестужева (калька строчки «Но души моей желание…» Жуковского), «солнце благодатное», «видение прекрасное в блеске радужных лучей» у Полежаева, «солнце красное», «утро ясное» у Кюхельбекера. Настоящее обрисовывается мотивами «хлада» и «увядания»: от Жуковского – «хлад, как будто ускоренная смерть», «сердца увядание», «сверху лист благоухающий – прах и тление под ним» – появляется «хлад забвения мирительный», «радуга наснежная на могильные цветы», «дважды сердцу не цвести» у Бестужева. У Рылеева и (от него) у Полежаева эти мотивы «естественного увядания» осложняются мотивом «разочарования в людях»: «опыт грозный», «быть сосудом истин тягостных», «ищешь, суетный, людей, а встречаешь трупы хладные» у Рылеева, «грозен ум, разочарованный светом истины нагой», «друзья… предали меня», «люди, люди развращенные!» у Полежаева. Отсюда уже один только шаг до гражданской тематики: «Насылает Скандинавия Властелинов на славян» («Вадим» Рылеева), «притеснители торжествуют на земле» (Полежаев). Но эта тематическая тенденция развития не получила: господствующей семантической окраской размера осталась элегическая тоска по былому.
Ритмико-тематическая инерция, заданная элегичностью Жуковского, захватывает даже следующее поколение поэтов. Мы читаем:
Иль борьба неумолимая Мила друга унесла? Иль тебе, моя родимая, С ним разлука тяжела? (Огарев, «Дон», 1839);
И меня весна покинула, Милый друг меня забыл, С ним моя вся радость минула, Он мою всю жизнь сгубил… (Никитин, «Черемуха», 1854);
Вспоминаю очи ясные Дальней странницы моей, Повторяю стансы страстные, Что сложил когда-то ей (Некрасов, «Три элегии», 1874).
3. Некрасов и его последователи. Весь этот эмоциональный фон 4-ст. хорея с рифмовкой ДМДМ следует прочно держать в памяти, чтобы по достоинству оценить ту «семантическую революцию», которая произошла в этом размере в 1850–1860-х годах, когда Некрасов написал им вещь диаметрально противоположную и по теме, и по тону – «Коробейников» (1861):
Ой, полна, полна коробушка,Есть и ситцы и парча,Пожалей, моя зазнобушка,Молодецкого плеча!..Это – характернейший образец тех перемен в русском стихе, которые принесла с собой эпоха реализма. Переход от классицизма к романтизму сказался в метрике резким расширением репертуара стихотворных размеров; переход от романтизма к реализму сказался в метрике резким разрывом традиционных связей метров с жанрами и темами[38]. Когда Некрасов писал размером «Рыцаря Тогенбурга» – «Парень был Ванюха ражий…», а размером «Двенадцати спящих дев» – «…Жил некто господин Долгов С женой и дочкой Надей»[39], он обогащал средства русского стиха не меньше, чем когда-то Жуковский. Может быть, даже больше: утверждение новой традиции на пустом месте бывает не столь ощутимо, сколь деформация старой, уже пустившей корни. Трехсложные размеры в русскую поэзию ввел Жуковский, но это прошло почти незамеченным, потому что совершалось почти на пустом месте, – однако когда Жуковский написал «Шильонского узника» 4-ст. ямбом со сплошными мужскими рифмами, все были потрясены, потому что привыкли к 4-ст. ямбу с чередующимися мужскими и женскими рифмами. Трехсложные размеры ввел Жуковский, а Некрасов только переосмыслил, – и именно поэтому «поэтом трехсложных размеров» в русской поэзии прослыл не Жуковский, а Некрасов, хотя трехсложниками у него написано совсем не подавляюще много. Точно так же Некрасов «потрясал основы» семантики стиха и тогда, когда переносил элегический размер «Отымает наши радости…» на две неожиданно новые сферы применения – на крестьянский быт и юмор.
Применительно к крестьянскому быту классикой нашего размера остались «Коробейники» (им подражал в поэме «Дуняша» и С. Дрожжин); однако очень важны еще два стихотворения, как бы связывающие новую стадию его бытования с прежней. Во-первых, это «Влас» (1855) – стихотворение с традиционным для нашего размера контрастом прошлого и настоящего, но стихотворение не лирическое, а эпическое, и, в отличие от традиции, рисующее прошлое мрачным, а настоящее – просветленным: от «Брал с родного, брал с убогого, Слыл кащеем-мужиком…» до «Сила вся души великая В дело Божие ушла, Словно сроду жадность дикая Непричастна ей была…» И, во-вторых, это «Песня Еремушке» (1859), где полемика Некрасова с элегической традицией обнажена до предела: первая песня, скорбная и унылая, как бы транспонирует на крестьянскую тематику прежнюю элегическую грусть, вторая – с ее вызывающим оптимизмом – выдвигает новые мотивы, контрастные по идеям и эмоциям: от «Ниже тоненькой былиночки Надо голову клонить, Чтоб на свете сиротиночке Беспечально век прожить…» до «Будешь редкое явление, Чудо родины своей: Не холопское терпение Принесешь ты в жертву ей…». (На том фоне кульминационные строки: «Силу новую Благородных юных дней В форму старую, готовую Необдуманно не лей!» – применительно к старому стихотворному размеру в новой функции приобретают парадоксальную остроту.)
Примечательно, что у продолжателей Некрасова 1870–1880-х годов (и далее) этот бодрый оптимизм иссякает довольно рано, а скорбь держится прочно – традиция элегического настроения сильна:
Разыграйся, непогодушка, Ветер, жалобно завой, Что пришла ко мне невзгодушка, И поник я головой… (Дрожжин, «Лучинушка»);
Придорожну скатну ягоду Топчут конник, пешеход, – По двадцатой красной осени Парня гонят во поход… (Клюев, «Недозрелую калинушку…»);
И была, мол, смелость бойкая, Да затоптана судьбой; И была, мол, воля стойкая, Да разбита злой нуждой… (Суриков, «Покойник»);
Давят грудь рыданья страстные, Встала дум мятежных рать… Приходи, моя прекрасная, Вместе мыслить и страдать!.. (Якубович, «Тревога»).
Но в целом 4-ст. хорей с рифмовкой ДМДМ не сросся прочно с крестьянской тематикой: здесь он сильно отступает перед 4-ст. хореем со сплошными дактилическими окончаниями ДДДД (с рифмовкой АВАВ, ХАХА, ААВВ; это – не что иное, как тот же размер «Ильи Муромца», разбавленный рифмами), лучшие образцы которого дал тот же Некрасов в «Орине, матери солдатской», «Калистрате», «Думе» («Сторона наша убогая…») и который стал затем самым ходовым размером у Никитина, Сурикова, Дрожжина и прочих поэтов, выработав свою систему метрико-синтаксических штампов, на которой мы здесь останавливаться не можем.
Что касается юмористической поэзии середины XIX века, то здесь один из первых образцов нашего размера тоже дал Некрасов – это «Филантроп» (1853):
Частию по глупой честности, Частию по простоте – Пропадаю в неизвестности, Пресмыкаюсь в нищете!..
Здесь несомненно влияние «водевильного» и «фельетонного» 3-ст. ямба с рифмовкой ДМДМ («Говорун» и т. п.), о котором еще будет у нас речь: семантическая близость 3-ст. ямба и 4-ст. хорея на всем протяжении истории русского стиха (с «анакреонтики» XVIII века) хорошо известна. Мы находим наш размер у Курочкина («…Ах, зачем же я читал Господина Аскоченского Назидательный журнал!»), у Гольцмиллера («Чем не гражданин?»), у Добролюбова («Средь Акрополя разбитого…» – с ощутимой пародией на элегическую традицию), у А. К. Толстого («Разных лент схватил он радугу…» – с блестящими дактилическими созвучиями). Любопытно, что тот же А. К. Толстой применяет тот же размер и в патетичнейшем месте «Иоанна Дамаскина» («Тот, кто с вечною любовию Воздавал за зло добром…»); очевидно, старая и новая семантические традиции в этом размере существовали для него столь же раздельно, сколь и для Некрасова, автора и «Коробейников», и «Трех элегий».
4. После Некрасова. Эпоха модернизма не стала этапом в развитии нашего размера: широкие эксперименты с новыми метрами, рифмами и строфами отвлекают внимание поэтов от скромного 4-ст. хорея с рифмовкой ДМДМ. Из двух уже выделившихся семантических традиций в это время явно господствует старшая, элегическая: Коневской пишет «С холодной воли» («Сердце ноет, как безумное, Внемля жизни в небесах…»), юный Брюсов – «Уныние» («Сердце, полное унынием, Обольсти лучом любви…») и т. д.
Любопытна эволюция: эпоха Жуковского подчеркивала прежде всего мотив разочарования в прошлом, эпоха 1870–1880-х годов – мотив тоски и убожества в настоящем, новая эпоха – мотив сна и забвения в будущем:
Ляг, усни, забудь о счастии. Кто безмолвен – тот забыт. День уходит без участия, Ночь забвеньем подарит… (Лохвицкая, 1890-е годы);
В голубой далекой спаленке Твой ребенок опочил. Тихо вылез карлик маленький И часы остановил… (Блок, 1905);
Мы повесим нашу писанку Рядом с папиным ружьем. Мы с тобой уложим кисоньку, Будет нам тепло втроем… (Инбер, 1913).
К этому же ряду примыкает – несмотря на отклонения от хорея – и блоковское «Поздней осенью из гавани…»: «В самом чистом, самом нежном саване Сладко ль спать тебе, матрос?» Этим же размером написано одно из лучших стихотворений Ф. Сологуба о любви-смерти: «Бога милого, крылатого Осторожнее зови…».
В советскую эпоху эта элегическая традиция в нашем размере отнюдь не отмирает: Г. Санников пишет им «Прощание с керосиновой лампой» («За окном соборов зодчество Без крестов и без огней. Я затеплил в одиночестве Лампу юности моей…»), а строфа из его «Фосфоресценции» (1956) «Не собрать мне в горсть рассеянных Тех мерцающих огней, Не вернуть друзей потерянных, Не вернуть прошедших дней…» кажется прямой цитатой из эпохи Жуковского и Бестужева. У Бестужева стихотворение начиналось «Пал туман на море синее, Листопада первенец…» (1831), у С. Орлова начинается «Пал туман на море синее, Горы скрыл и море скрыл…» (1972/1977) – с такими кальками, скорее подсознательными, чем сознательными, мы еще встретимся не раз.
Но на первый план все решительнее выступает младшая, некрасовская, «коробейниковская» традиция с ее песенным оптимистическим задором. Так пишет Д. Бедный «Диво-дивное, коллективное», начинающееся прямыми реминисценциями из Некрасова («косынька-полосынька»), а кончающееся:
Урожаи диво-дивные! Не узнать: не та земля! Вот что значит: коллективные, Обобщенные поля!
Так пишет М. Исаковский «В дороге» («А дорога расстилается, И шумит густая рожь, И, куда тебе желается, Обязательно дойдешь!»), «Хорошо весною бродится По сторонке по родной…» и, пожалуй, самое знаменитое – «Где ж вы, где ж вы, очи карие? Где ж ты, мой родимый край? Впереди страна Болгария, Позади река Дунай…» (где основной мотив «воспоминания» неожиданно связывает стихотворение и с элегической традицией). Так параллельно живут две семантические традиции в одном размере до недавних дней.
5. Заключение. Для этого обзора мы просмотрели два известных серийных издания русской поэзии: «Библиотека поэта. Малая серия» и «Библиотека советской поэзии». В них нашлось около трех десятков стихотворений, написанных 4-ст. хореем с чередованием дактилических и мужских окончаний. Это, конечно, ничтожно мало, но по крайней мере отводит подозрения в тенденциозности: вряд ли стихи в этих сериях отбирались по метрическим признакам. Но мы видим: все они, без опущений, связаны уследимыми семантическими перекличками. Это и позволяет нам сказать: семантика этих стихотворений складывается в «семантический ореол» 4-ст. хорея с окончаниями ДМДМ.
На примере нескольких стихотворений эпохи Жуковского мы попытались показать, как эта общая семантика складывается из отдельных повторяющихся мотивов – «прошлое-настоящее», «пыл-холод» и т. д. В дальнейшем для таких подробных анализов у нас почти не будет возможности. Но читатель может быть уверен, что каждое утверждение о семантической (образной, тематической) перекличке тех или иных стихотворений, с которым он встретится в этой книге, при более детальном рассмотрении («под микроскопом») могло бы быть подкреплено таким же анализом.
Далее мы видим: этот семантический ореол нашего размера неоднороден. Уже в нашем небольшом материале мы видели по меньшей мере три группы стихотворений: «элегические», по образцу Жуковского, «народные», по образцу Некрасова, и «юмористические», по образцу того же Некрасова и Курочкина. По некоторым признакам они размежевываются, по некоторым – пересекаются: так, часть «народных» стихотворений, заунывно-страдальческие, по эмоциональной окраске сближаются с «элегическими», а другая часть, задорно-радостные, – с «юмористическими». Критерии группировки могут быть различные: общее содержание, конкретные слова-сигналы, ритмико-синтаксические штампы, интонационные фигуры, композиционные приемы, – здесь исследователю приходится идти индуктивно, ощупью; вместо одной группировки всякий оппонент может предложить другую, но вряд ли кто решится утверждать, будто никаких образно-эмоциональных групп перед нами вообще нет и все стихи сливаются в однородную массу. Эти группообразующие наборы взаимосвязанных образно-эмоциональных признаков внутри семантического ореола мы предлагаем назвать «семантическими окрасками».
Семантический ореол складывается из семантических окрасок точно так же, как общее значение слова складывается из частных значений слова. Скажем, для слова «сторона» Малый академический словарь отмечает 8 значений и при них еще 8 смысловых оттенков. Аналогично мы можем сказать, что семантический ореол 4-ст. хорея с окончаниями ДМДМ состоит из 3 семантических окрасок, из которых в одной («народные» стихотворения) при желании можно дополнительно выделить два оттенка. И, конечно, эти три окраски, во-первых, не исчерпывают всю семантику данного размера и, во-вторых, не абсолютно четко разграничиваются друг с другом, – как и значения слова, перечисляемые в словаре.
Наконец, мы видим: эта семантическая связь между рассмотренными стихотворениями – не органическая, а историческая. Мы могли проследить ее возникновение – из семантики народных протяжных песен и их литературных силлабо-тонических имитаций. Мы могли проследить ее развитие – от Жуковского до Исаковского. В ходе этого развития преобладала преемственность по сходству: новые стихи писались (осознанно или неосознанно) в подражание старым. Были и случаи преемственности по контрасту (заведомо осознанные) – когда Некрасов и его современники переносили старый размер на новые темы; но и здесь на следующем же шагу экспериментальные стихотворения по контрасту тотчас обрастают подражаниями по сходству. Во всяком случае, нам ни разу не было нужды гадать о проблематическом родстве ритма 4-ст. хорея и «ритмов радости» или ритма дактилического окончания и «ритмов грусти». Если Подшивалов и полагал простодушно, что размер этот по природе склонен «к выражению томногорестных чувств», то мы с уверенностью можем сказать, что полагал он это лишь потому, что привык к стихам и песням, в которых этот размер и эти эмоции сосуществовали. А если утонченный В. Марков восклицает: «Как, например, объяснить иностранцу, что начало ахматовского „От любви твоей загадочной…“ смешно не только оттого, что поэт явно не заметил другого, „физического“, смысла своих строк, но и, главным образом, из-за дактилической рифмы в строфе»[40], – то столь же ясно, что здесь ему заслонили слух некрасовские «Филантропы» и «Коробейники».
Эти три первые наблюдения мы постараемся подкрепить в дальнейшем на более обширном и разнородном материале.
ИСТОЧНИКИ УПОМИНАЕМЫХ И ЦИТИРУЕМЫХ ТЕКСТОВ. Здесь и далее для удобства большинство ссылок дается на издания «Библиотеки поэта». Простое БП означает большую серию, 2-е изд.; БП1, БП3 – большую серию, 1-е и 3-е изд.; БПм – малую серию, 3-е изд. – Жуковский, БП1, I, 110, II, 208; Рылеев, БП, 97, 328; Бестужев, БП, 180; Кюхельбекер, БП1, I, 210; Ф. Глинка, БП, 417; Полежаев, БП, 136; Огарев, БП, 379; А. К. Толстой, БП, I, 241, 346; Никитин, БП, 204; Некрасов, БП, I, 164, 175, II, 18, 70, 399; Поэты «Искры», БП, I, 113 (Курочкин); Поэты 1860-х годов, БПм, 293 (Гольцмиллер); Добролюбов, БП, 207; Якубович, БП, 57 (ср. 67); Суриков, БП, 176; Дрожжин, БПм, 13, 94, 195; Клюев, БПм, 170; Брюсов, Собр. соч. (1973), I, 35; Блок, БП1, I, 222; Инбер, Собр. соч. (1965), I, 50; Санников, Стих. и поэмы (1959), 34; Д. Бедный, БПм, 295; Исаковский, БП, 125, 272, 307.
ГЛАВА 2. «ПО ВЕЧЕРАМ НАД РЕСТОРАНАМИ…»
4-СТ. ЯМБ С ОКОНЧАНИЯМИ ДМДМ: СТАНОВЛЕНИЕ ОРЕОЛА
Я перевернул страницу. «Ямбические стихотворения» – было написано вверху страницы. – «Нужно вам сказать, что сия тетрадь заключает в себе двадцать восемь отделов, кои все носят заглавия по названию того размера, коим трактованы. Мне показалось это удобнее», – прибавил он скромно. – «Конечно, конечно, – подхватил я, – если б все наши поэты…»
Н. А. Некрасов. «Без вести пропавший пиита»В феврале 1907 года юная Анна Ахматова писала С. В. Штейну про «второй сборник стихов Блока. Очень многие вещи поразительно напоминают В. Брюсова. Напр., стих. „Незнакомка“, стр. 21, но оно великолепно…» и т. д.[41] Читателю наших дней, вероятно, трудно почувствовать в самом знаменитом стихотворении Блока какое бы то ни было сходство с Брюсовым. Но такое сходство было, и в чем оно состояло, можно угадать без ошибки: это стихотворный размер, 4-ст. ямб с дактилическими и мужскими окончаниями (ДМДМ) и связанные с ним семантические ассоциации.
Этот размер поздно возник в русской поэзии. Его впервые осваивают символисты, причем каждый из больших символистов – по-своему; но прочнее всех наложил свою печать на его семантику именно Брюсов. А потом он переходит к наследникам символизма, в их творчестве персональные манеры основоположников начинают переплетаться и взаимодействовать, семантика размера размывается, память о зачинателе-Брюсове выцветает, и на ее месте всплывает память о продолжателе-Блоке.
1. Разумеется, экспериментальные обращения к 4-ст. ямбу с дактилическими и мужскими рифмами случались и гораздо раньше. Дактилическую рифму, как известно, ввел в русскую поэзию Жуковский, в 1820–1821 годах написав «Ах! почто за меч воинственный Я мой посох отдала…» и «Отымает наши радости Без замены хладный свет…». Оба стихотворения написаны 4-ст. хореем: этот размер знал дактилические окончания (без рифм) еще в народной поэзии. Почти тотчас Жуковский попробовал перенести свою находку и в ямб: в 1824 году он пишет «Мотылек и цветы»: «Поляны мирной украшение, Благоуханные цветы…». Почти одновременно и независимо от него такие же опыты делают Баратынский («Дало две доли провидение…», 1823) и Языков («В альбом Ш. К.», 1825, с нарочито экспериментальным чередованием рифмовок ЖМЖМ и ДМДМ; из переписки Языкова видно, что образцом его были хореи Жуковского, а «Мотылька» он еще не знал). Но в ямбе дактилические окончания не имели опоры на традицию (ни на народную, ни на западную), поэтому судьба этих экспериментов в двух размерах была очень разной. В 4-ст. хорее, как мы видели, чередование окончаний ДМДМ тотчас привилось и породило длинный ряд интонационно-тематических подражаний с той же «томногорестной» семантикой. В 4-ст. ямбе, наоборот, обращения к такой рифмовке в 1830–1840-х годах очень редки и друг с другом не связаны. Семантика их повторяет семантику хореев Жуковского (разве что усиливая эмоциональный накал): кажется, что поэты ощущают новый размер как тот же 4-ст. хорей, надставленный в начале на один слог:
Сбылись души моей желания, Блеснул мне свет в печальной мгле… (К. Аксаков, 1835);
…Одна мечта неуловимая За мной везде несется вслед… (Подолинский, 1842);
…Меня томит печаль глубокая, С тобою поделю ее… (К. Аксаков, 1835);
Умри, заглохни, страсть мятежная, Души печальной не волнуй!.. (Губер, 1839);
…Мой друг, прочти ее страдания, Вглядись в печальные черты… (Красов, 1835);
С глубокой думой у Распятия Благоговейно предстоя… (Шахова, 1846).
В середине века, на переломе от романтизма к реализму, эта семантическая традиция замирает: 4-ст. хорей ДМДМ сумел переключиться на новый, бытовой материал, 4-ст. ямб ДМДМ не сумел этого сделать и временно перестал существовать. За всю вторую половину века мы знаем только четыре стихотворения этим размером, и все – сатирические или юмористические: размер не воспринимается всерьез (Ф. Глинка, «Не стало у людей поэзии…», 1852; Добролюбов, «Ужасной бурей безначалия…», 1860; Минаев, «Мне в жены бог послал сокровище…», 1880; В. Соловьев, «Я был ревнитель правоверия…», 1894).
2. Повторное открытие размера происходит около 1895–1905 годов и начинается, естественным образом, с возрождения чисто романтической тематики и стилистики. Вряд ли новые поэты внимательно читали Губера и Подолинского, но Жуковский и Баратынский были перед их глазами, а вновь усилить эмоциональный накал было вполне в их силах. Главную часть работы сделал тот, кто всего непосредственнее был связан с замирающей позднеромантической инерцией, – Бальмонт: в 1898–1904 годах он пишет не менее десятка стихотворений этим размером, и его подхватывают его партнерша М. Лохвицкая (1900–1904) и даже слабеющий Фофанов («Влача оковы мира тесного…» в «Иллюзиях», 1900). Темы Бальмонта в этих стихах – программные декларации, любовное неистовство, лишь позже – обычные у него голоса стихий и проч.:
Как стих сказителя народного Из поседевшей старины, Из отдаления холодного Несет к нам стынущие сны… («Будем как солнце»);
Порой в таинственном молчании Я слышу – спорят голоса. Один – весь трепет и желание – Зовет: Туда! в простор, в сияние, Где звезд рассыпана роса!.. (Лохвицкая, 1900–1902);
Я ненавижу человечество, Я от него бегу, спеша. Мое единое отечество – Моя пустынная душа… («Только любовь»);
…Вы разделяете, сливаете, Не доходя до бытия, Но никогда вы не узнаете, Как безраздельно целен я… («Только любовь»);
Люблю тебя со всем мучением Всеискупающей любви! С самозабвеньем, с отречением… Поверь, пойми, благослови! (Лохвицкая, 1902–1904);
Я буду ждать тебя мучительно, Я буду ждать тебя года, Ты манишь сладко-исключительно, Ты обещаешь навсегда… («Горящие здания»);
…За новый облик сладострастия Душой безумной и слепой Я проклял все – во имя счастия, Во имя гибели с тобой! («Будем как солнце»);
…Отдать себя на растерзание, Забыть слова – мое, твое, Изведать пытку истязания И полюбить, как свет, ее… («Только любовь»);
…Зачем чудовище – над бездною, И зверь в лесу, и дикий вой? Зачем миры, с их славой звездною, Несутся в пляске гробовой? («Горящие здания»).
Почти так же декларативны и патетичны – только менее обильны – такие ямбы и у других старших символистов: «Откуда силы воли странные? Не от живых плотей их жар…» (Коневской, 1899); «…Свобода – только в одиночестве. Какое рабство – быть вдвоем!..» (Сологуб, 1903); «…Без ропота, без удивления Мы делаем, что хочет бог. Он создал нас без вдохновения И полюбить, создав, не мог…» (Гиппиус, 1896). Брюсов пришел по следам этих первых экспериментаторов: его первые 4 стихотворения в нашем размере пишутся только осенью 1904 года (одно – по черновику 1903 года) и печатаются в сборнике «Stephanos» на рубеже 1905/1906 годов. Брюсов делает с нашим размером то же, что делал со всей своей поэзией: умеряет символистскую расплывчатость и декадентское неистовство парнасским спокойствием и строгостью. Из четырех стихотворений, цитируемых ниже, первое можно вообразить у Бальмонта, два следующих – уже неповторимо брюсовские, а последнее – с эпиграфом из бодлеровского «К прохожей», запомним это слово, – вносит в материал новую тему, загадочно-урбанистическую, открывателем которой в символизме был опять-таки сам Брюсов:
Опять душа моя расколота Ударом молнии, и я, Вдруг ослепленный вихрем золота, Упал в провалы бытия. С победным хохотом, товарища, Лемуры встретили меня – На пепле старого пожарища, В дыму последнего огня. («Молния»);