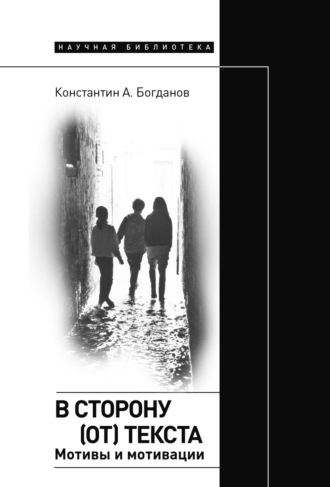
Полная версия
В сторону (от) текста. Мотивы и мотивации
Обращение к пунктуации во всех этих случаях интересно в том отношении, что и многоточие, и тире указывают на эмфатические особенности текста – на логические сбои в синтагматической последовательности, содержательные разрывы и остановки в повествовании. Но, как выясняется, и такие графические приемы, отсылающие прежде всего к умолчаниям и недосказанности, могут восприниматься как знаки эмоционально значимых мотивов и/или мотиваций. В этих случаях они схожи с синкопами в музыке и стихосложении, когда несовпадение ритма и метра, «выпадение» ожидаемого элемента может наделять произведение еще большим суггестивным потенциалом. Одним из примеров такого рода может служить стихотворение Тютчева «Silentium!» (1830), где ритмический сбой в стихах «Пускай в душевной глубине / Встают и захóдят оне» может пониматься как мотив бессильности слов, произносимых о молчании[42].
Чтение как проблемаПонятно, что в разбросе мнений о «границах» и признаках выделения мотивов ученые следовали и следуют задачам своих собственных исследований. Если для одних важным признаком в определении мотива служит его формальная (лексико-синтаксическая, морфологическая или фонетическая) «атомарность» и повторяемость, то для других – его оригинальность и единичность[43]. В последнем случае, говоря на языке лексикографии, единожды сказанное, гапакс (Hapax legomenon) – это тоже мотив[44].
Средневековые схоласты полагали, что «форма дает вещи существование» (forma dat esse rei) – парадокс, заставляющий считаться с тем, что фактически любой формальный компонент, коль скоро он выделяется в качестве такового, наделяется существованием, а значит, и возможным смыслом[45]. Понимание «мотива», с этой точки зрения, оправдывает не столько его логические дефиниции (а также их структуральные детализации)[46], сколько представление о нем как о звуке и/или образе, – недаром и сам этот термин первоначально появился и использовался применительно к музыке[47]. Звуковое «очертание» музыкального мотива полиморфно и зависит от предметности слухового восприятия. Само это восприятие к тому же определяется разными факторами – от «непосредственной» предрасположенности слушателя к тем или иным звукам до эмоциональной «убедительности» тех музыкальных инструментов, которые традиционно связываются с тем или иным образом (в своей дидактической простоте примерами такого убеждения могут служить, в частности, пояснения нарратора в симфонической сказке Сергея Прокофьева «Петя и волк» (1936), где флейта обозначает птичку, гобой – утку, кларнет – кошку, валторны – волка, фагот – старого дедушку, а литавры и барабан – выстрелы охотников)[48]. История изобразительного искусства и кинематографа также дает наглядные примеры мотивов, визуальная убедительность которых не свободна от традиции их воспроизведения (в истории кино такими условно «универсальными» мотивами, по мнению Реймонда Даргнета, могут считаться, в частности, мотивы слепоты, карнавала, рынка, цветов, зеркал, железнодорожных вокзалов, витрин, скульптур, подводного мира)[49]. В таком – равно формальном и образном – определении мотив, говоря словами Бориса Гаспарова, это «любое смысловое „пятно“»[50]. Легко представить такое «пятно» не метафорически, а буквально – например, как чернильное пятно: труднее решить, что здесь предшествует чему – «пятно» смыслу или смысл «пятну»[51].
Важно заметить вместе с тем, что в любом случае «смысл» мотива предвосхищает его припоминание, а оно, в свою очередь, привязано к мелочам – к таким деталям прошлого и настоящего, реального и воображаемого, случайного и закономерного, из которых, как в игре puzzle, складывается картинка опознаваемой в них «реальности». Антропологизация фольклористики и литературоведения еще более осложняет представление о мотиве как аналитической единице текста. Любое литературное произведение, как на этом настаивали уже представители констанцской школы рецептивной эстетики Вольфганг Изер, Ханс Роберт Яусс и их единомышленники, в ретроспективе предстает своего рода абстракцией, исходной для множества его потенциальных содержательных интерпретаций. Даже если слушатель или читатель отталкивается от подсказок, которые связываются с тем или иным текстом в опыте его предыдущих прочтений, в нем могут обнаруживаться смыслы, такими подсказками не предусмотренные, – синтаксические, лексические и иные «странности», «пробелы», «умолчания», которые приходится комментировать, полагаясь на связываемые с ним в процессе чтения приемы «эстетического воздействия» (Wirkungsästhetik) и особенности его читательской рецепции («горизонт ожидания», Erwartungshorizont) и т. д.[52]
Теоретической проблемой в этом случае остается то, на чем Изер и Яусс не акцентировали внимания: а чем, собственно, определяется «горизонт» читательской компетенции в процессе чтения? Чем читатель, сколь бы образованным он ни был, руководствуется в своем представлении о связи конкретного произведения с другими произведениями той же эпохи, о приемах поэтики и риторики, о границах воображаемого и мыслимого в качестве реального и т. д.? Чем древнее тексты, чем дальше отстоят от нас те или иные события – тем сложнее их интерпретация. Насколько «объективно» наше знание о том, какие именно мотивы считать определяющими для тех или иных текстов, которые были адресованы, по меньшей мере, не нам? Какие мотивации определяли характер происходящего тогда и там, где нас по меньшей мере не было?
В той степени, в какой культура поддерживает представления об обществе как целом, нам не избежать конструирования таких интерпретаций, которые говорят «сами за себя», но остаются мало определенными в своей модальности. Аналогией к такому положению вещей может служить изучение языка, согласно которому минимальной единицей человеческой коммуникации полагается высказывание, а не то (как это акцентируется в теории речевых актов), чем – какой интенцией – оно порождается. Но целостность и системность – вменяются ли они языку или литературе – дробятся и фрагментируются, если язык и литература детализуются в коммуникативных проекциях. В каждом конкретном случае это открытые вопросы о контекстах, оправдывающих ту или иную интерпретацию[53]. Можно надеяться, что антидотом от произвольных интерпретаций в этих случаях служит опора на традиционные практики верификации и фальсифицируемости, историко-сравнительный анализ и филологическую критику текста.
Но важно – и это следует подчеркнуть – что вопросы о многообразии связей, которые могут быть обнаружены внутри текста, между текстом и другими текстами, между текстом (а также текстом и другими текстами) и любыми жизненными обстоятельствами, которые допускают свою «текстуализацию» – придание тем или иным событиям, фактам, домыслам, чувствам и т. п. статуса предположительно возможного текста, – могут быть поставлены как прагматически разные. В одних случаях это вопросы текстологии, в других – филологии, истории, социологии и т. д. Ведь даже внутренняя связь (или, в лингвистической терминологии, когерентность) текста «проявляется одновременно в виде структурной, смысловой и коммуникативной целостности, которые соотносятся между собой как форма, содержание и функция»[54]. Говоря иначе: понимание текста подразумевает внимание к различным аспектам его актуализации.
Ясно одно: не только разные, но одни и те же тексты читаются по-разному. Владимир Набоков, большой любитель bons mots, не без вызова наставлял своих студентов, что «книгу вообще нельзя читать – ее можно только перечитывать»[55]. Старый афоризм Августа Бека, что суть филологической работы состоит в «познании познанного» (Erkennen des Erkannten), оказывается в этом случае справедливым как в теоретическом, так и в собственно прагматическом отношении – любой текст содержателен лишь постольку, поскольку он открыт к новому прочтению[56].
Мотив как выборДавние споры о том, насколько исследователь независим от себя самого при анализе историко-культурного материала, насколько он «вписывает» себя в собственную интерпретацию, остаются эвристически полезными по сей день: увлекательными – если эта проблема осознается исследователем (и, конечно, бесполезными и тоскливыми – если она им не осознается). Показательно, что в арсенале уже ранней герменевтики среди приемов надлежащего понимания приводились этические и эстетические категории: вера/доверие, радушие/доброта (benignitas), надежда, справедливость, красота и т. д. Текст, а шире – мир, открывает себя в ситуации коммуникативного «отклика» на нечто значимое – и потому как бы уже «понятное» (что в теоретической ретроспективе придает проблеме «герменевтического круга» не логический, но эмпирический смысл, обнаруживающий силу «предпонимания» – эмпатии, не требующей дополнительных доказательств)[57].
В теории информации подобная ситуация рисуется как результат выбора, который – пусть он даже видится психологически интуитивным – ретроспективно структурирует связываемые с ним события[58]. При всем пафосе и радикализме давних суждений Жака Деррида о том, что «не существует вне-текста» (il n’y a pas de hors-texte)[59], они остаются поучительными в том отношении, что позволяют задаться вопросом, какими текстами, а значит – какими мотивами, мы руководствуемся (не удержусь от каламбура: мотивируемся) в представлении о самой этой реальности. Реальность каждого – это реальность его «жизненного мира», предстает ли он результатом уже имеющегося «текста» или причиной к созданию нового «текста» (а если мыслить его буквально – то и новых текстов). Понятие «жизненного мира», возводимое в своем инструментальном значении к Эдмунду Гуссерлю (Lebenswelt) и подробно разработанное в работах Альфреда Шютца и Томаса Лукмана[60], уместно здесь тем более, что оно позволяет соотнести феноменологическое описание повседневности с неспециализированным представлением о том, что восприятие действительности опосредовано содержательными характеристиками «своего» и «чужого», рефлексивной и эмоциональной локализацией себя в границах некоторого воображаемого пространства (собственно, и само местоимение «я» в индоевропейских языках, как утверждал уже Карл Бругман, этимологически связано с указанием на местоположение «здесь»)[61].
Взаимосвязь мотивов, позволяющих определиться с ориентацией в пространстве «жизненного мира», субъективна по определению. Прежде всего она многослойна и разновалентна, определяясь разными «источниками» – событиями, эмоциями, текстами, «картинками» и т. д. Опыт их восприятия так или иначе заставляет считаться с мозаичностью, фрактальностью любой соразмерности. Важное уже для Гуссерля понятие «пробела» (Leerstelle) стало отправной точкой в рассуждениях Шютца о том, что «опредмечивание» реальности всегда подразумевает наличие феноменологических «пустот» (vacancies), требующих своего восполнения/дополнения/означивания в смысловой структуре социального мира. Именно они, по рассуждению Шютца (оставившего наброски к «теории» таких пустот), и определяют собою характер повседневного знания о мире, персонально конструируемого – в опыте актуального переживания и переосмысления – в череде эпистемологических релевантностей, устанавливаемых между сознанием и реальностью[62].
Отвлекаясь от собственно философской проблематики работ в области антропологической феноменологии, стоит заметить, что графическим знаком для обозначения «пробелов» Гуссерля и «пустот» Шютца могли бы послужить тире и многоточия. Именно они адекватно соответствуют тому, что Роман Ингарден, еще один последователь Гуссерля, называл «местами неопределенности» (Unbestimmtheitsstelle), сопутствующими представлению о любой социокультурной предметности – является ли она при этом материальной или только воображаемой[63]. Понятие «мотива» в том же контексте уместно как указание на приемы и способы ориентации в пространстве такой предметности. Ими формируется и поддерживается взаимосвязь – тематизируемых или нет – фрагментов восприятия, определяющих в конечном счете нашу интенциональную действительность. Природа такой действительности коммуникативна, будь это коммуникация с другими или внутриличностная коммуникация, аутокоммуникация, изначально определяющая собою мотивационные основания «жизненного мира»[64]. Кроме того – она трансформативна: давно замечено, что воспоминания о детстве одних и тех же людей разнятся в зависимости от ситуации и времени, реальной или подразумеваемой аудитории, психологического состояния самого мемуариста и т. д. Воспоминания об «одном и том же» на поверку оказываются воспоминаниями «о разном». И дело здесь, конечно, не только в меняющихся обстоятельствах социального (и субъективно «терапевтического») спроса/предложения,[65] но именно в том, что память предлагает считаться с вариативным набором всех тех мелочей, которые определяют саму возможность текста/рассказа о чем бы то ни было.
Рискованно спорить с тем, что под таким углом зрения список мотивов будет едва ли не безграничным. Фактически это словарь, открытый к дополнению. Дидактической версией такого словаря можно было бы счесть античную практику «хрий» (от греч. χpεία – польза, упражнение) – составление различного рода тематических высказываний, навык остроумных и нравоучительных изречений (γνώμη, αποφθέγμα), напоминаний и примеров (aπομνημóνευμα), преследующих как идеологически наставительные, так и формально обучающие (прежде всего – грамматические и риторические) цели[66]. Выразительные рассказы о знаменательных персонажах и событиях, поступках и памятных афоризмах обретали свою дидактическую целесообразность в повторении и надлежащей интерпретации. Их наставительность могла граничить с анекдотом (будь то, например, напоминания о Диогене Синопском, который днем с фонарем искал честного человека, или о философе Кратете, пришившем к своему плащу заплату из овечьей шкуры, демонстрируя таким образом свое безразличие), а формальные особенности соответствующего рассказывания – с коммуникативным абсурдом (когда ученик должен был повторять одно и то же высказывание, но при этом менять его грамматическую форму – падеж, число, наклонение, время; сегодня это выглядело бы так: мама мыла раму, мамы моют рамы, о мамах, вымывших раму, и т. д.). Но польза таковых высказываний, если следовать их греческому названию, состояла в них самих: повторение, которое, по старому латинскому правилу, служит матерью научения (repetitio mater studiorum est), прививает мысль о роли постоянства и вариативности тех способов, какими может быть «схвачена» и выражена реальность. Риторическая формализация хрий, авторитетно обоснованная уже Квинтилианом[67], а затем дополненная сонмом его почитателей, может быть понята, с этой точки зрения, как попытка определиться, с одной стороны, с практиками соотнесения высказывания и действия, а с другой – с дидактической апроприацией «знания» и «мнения» о чем бы то ни было.
История мотивов/мотиваций вписывается в ту же традицию – это также упоминания о чем-то, что вызвало чей-то интерес, что может быть как-то названо или обозначено и о чем может быть рассказано. Если не ставить перед собою задачу структурного анализа некоторого предсказуемого целого, то значение мотивов оказывается важным прежде всего в их связи с сопутствующими им обстоятельствами «внешнего» свойства – культурой, историей, традицией, идеологией и другими факторами, определяющими их актуальное присутствие в таком виртуальном словаре как для нас самих, так и «для кого-то». Хорошим примером на этот счет может служить давняя критика Леви-Стросса функциональной модели Владимира Проппа. Пропп, как известно, описал структуру волшебных сказок в виде синтагматической линейной последовательности 31‐й повествовательной функции. Такие функции, по Проппу, первичны к сказочным мотивам, которые при всем своем возможном многообразии подчинены общей схеме сказочного нарратива. Но, задается вопросом Леви-Стросс, что нам, как читателям сказок, дает такая схематизация? «С этого момента проблема объяснения лишь ставится. До формализма мы, несомненно, не знали, что общего имеют сказки. После него мы полностью лишились возможности понять, чем они различаются»[68]. Между тем, как показывает Леви-Стросс, даже элементарное внимание к семантике сказочных персонажей открывает возможность для выстраивания функционально непредусмотренных оппозиций. Так, например: «в сказке ‘король’ – это не только король, а ‘пастушка’ – пастушка; эти слова и их обозначаемые становятся осязаемыми способами для построения понятийной системы, образованной оппозициями мужской/женский (по отношению к природе) и высокий/низкий (по отношению к культуре) и всеми возможными сочетаниями этих шести термов»[69]. Но более того: сами термы функциональной схемы у Проппа теряют свою определенность, если заметить, что «многие из различаемых» Проппом функций «представляются сводимыми или уподобляемыми одной и той же функции, появляющейся в разные моменты повествования и подвергнутой при этом одной или нескольким трансформациям». Так, «ложный герой может быть трансформацией вредителя, трудная задача – трансформация испытанием и т. д.»[70]. Иными словами: восприятие, а значит и «смысл» сказки, диктуется мотивирующими его внешними контекстами, как собственно этнографическими («обеспеченными ритуалом, религиозными верованиями, суевериями и позитивным знанием»)[71], так и исследовательскими, зависимыми от своих теоретических (и, как выясняется, даже терминологических) предпосылок[72].
Мотивный анализ сказочного материала обязывает, таким образом, учитывать прежде всего семантическое многообразие самих мотивов и их возможные комбинации, как внутри одного текста, так и между разными текстами предположительно связываемой с ними традиции. Однако и в том и в другом случае приходится считаться с тем, что такая комбинаторика имеет под собою не только формальные, но и антропологические основания. Пропп, раздраженно и неубедительно отвечавший Леви-Строссу, подчеркивал, что в своем анализе он опирался прежде всего на поступки персонажей: «под функцией понимается поступок действующего лица, определяемый с точки зрения его значения для хода действия»[73]. Функция в этом определении – условный термин, используемый безотносительно к семантике сказочных мотивов (например, безразличный к тому, как и на чем/ком герой преодолел расстояние, чтобы добраться к месту, где находится предмет поисков). Размышление Леви-Стросса о том, что, если не ограничивать восприятие сказки (и мифа) только исследовательской абстракцией завершенного сюжетного действия, легко заметить, что понимание сказочных функций предельно осложняется семантическими характеристиками самих сказочных персонажей (так, например, «в одной и той же функции орел появляется днем, а сова ночью <…>, а это означает, что постоянной здесь является оппозиция дня и ночи <…>, противопоставленные друг другу по линии день ночь, вместе [они] противопоставлены ворону как грабителю, сборщику падали; утка же противопоставлена всем троим в рамках новой оппозиции между парой небо/земля и парой небо/вода»)[74], осталось у Проппа не прокомментированным. Синтагматическую достаточность выделенных им функций для понимания сказочного сюжета Пропп аргументирует так:
Для народной эстетики сюжет как таковой составляет содержание произведения. Содержание сказки о Жар-птице для народа состоит в рассказе том, как огненная птица прилетела в сад короля и стала воровать золотые яблоки, как царевич отправился ее искать и вернулся не только с Жар-птицей, но и с конем и красивой невестой. В том, что случилось, и состоит весь интерес[75].
Аподиктические ссылки Проппа на «народную эстетику» и «народ» в этом заявлении, на мой взгляд, только подчеркивают правоту Леви-Стросса: «сказка не вполне поддается структурному анализу»[76]. В изложении Проппа такой анализ выглядит и вовсе абстрактным, поскольку игнорирует всю семантическую значимость таких мотивов, как Жар-птица, золотые яблоки, королевский сад и т. д. Схема имманентных функций дает при этом очевидный сбой и в том отношении, что обязывает к внешней рецепции. По Проппу, эта рецепция ограничена сюжетом, но практика этнографических исследований показывает, что это не так. Сказка интересна не только тем, чем она заканчивается, но и тем, о ком в ней говорится, как и когда она рассказывается, кто ее рассказывает и кому ее рассказывают[77]. Сказочные мотивы в этом случае подразумевают свою контекстуализацию вне и помимо «собственно» сказочного текста.
Мотив(ация) как методСхожим образом, как я думаю, обстоит дело и в тех случаях, когда «мотивы» понимаются в неспециализированных контекстах, конструирующих представление о границах и природе «жизненного мира». Если «жизненный мир», согласно Шютцу, является результатом сложных причинно-следственных мотиваций («мотивации-потому-что» и «мотивации-для-того-чтобы»), определяющих собою поведение субъекта в ситуации социального взаимодействия, то что мешает думать, что в ряду таких мотиваций есть место и для мотивов в их, условно говоря, филологическом значении – информационных и эмоциональных мотивов культуры и социального опыта. Историческими прецедентами таких мотивов могут служить – в контексте религиозной и/или фольклорной традиции – восходящие к средневековью понятия «легенда» (лат. gerundivum от legere, то есть буквально то, что нужно читать) и «exemplum» – «пример», короткий (как правило анонимный) рассказ о каком-либо достославном и нравоучительном событии[78]. Дидактика легенд и «exempla» рассчитана на аудиторию, призванную вынести из этого чтения эмоциональные и морально-нравственные выводы и тем самым придать самим текстам социально-проективную ценность. И они, и содержащиеся в них мотивы определяют, говоря словами Шютца, «мотивацию-для-того-чтобы».
Молитвы и заговоры демонстрируют ту же прагматику мотивов еще более непосредственно – при этом совсем необязательно, чтобы такие мотивы были общепонятны в своем лексическом значении (что особенно наглядно в случае абракадабр)[79]. И в том и в другом случае важнее контекст и связываемое с ним функциональное целесообразие. Лексико-грамматический разброс мотивов – от слов, словосочетаний и связных предложений до сигнификативных «пустот» (будь это «пропущенные главы» в «Евгении Онегине» или семантически неопределенные лексемы – так называемые «имена с нулевым денотатом», «пустые классы языковых названий»)[80] – релевантен разбросу образных и дискурсивных примет «жизненного мира».
Мотивный анализ такого мира аналогичен мотивному анализу текста, как его понимает, например, Борис Гаспаров:
Сущность мотивного анализа состоит в том, что он не стремится к устойчивой фиксации элементов и их соотношений, но представляет их в качестве непрерывно растекающейся «мотивной работы»: движущейся инфраструктуры мотивов, каждое новое соположение которых изменяет облик всего целого и в свою очередь отражается на вычленении и осмыслении мотивных ингредиентов в составе этого целого.
Мотивный анализ способен вместить любой объем и любое разнообразие информации, поступающей в оборот мысли в процессе смысловой работы с данным сообщением, и в то же время остаться на почве этого сообщения как некоего языкового артефакта, который смыслообразующая мысль в каждый момент своего движения стремится охватить и ощутить как целое[81].
Психолингвистические наблюдения также подтверждают потенциальную связь семантически разрозненных лексем в границах подразумеваемого ими целостного высказывания. Даже на уровне так называемых «текстов-примитивов» (то есть «текстовых структур небольших размеров с полным (или почти полным) отсутствием привычных для нормы специальных средств связности» – например, отдельных слов в речи детей и иностранцев, плохо знающих чужой язык, в речи больных афазией, в разговорных репликах в диалоге или даже просто в кратких письменных «памятках» для себя о планируемых покупках и встречах) их восприятие оказывается цельным, поскольку оно диктуется аффективными и ассоциативными обстоятельствами. В объяснении Леонида Сахарного смысл высказывания в этих случаях напрямую зависит от психологических возможностей семантической структуризации текста:
Развертывание тема-рематической структуры при построении текста есть актуализация компонентов цельности, т. е. перевод их из подсознательного, диффузного, континуального в нечто более «сознательное», четкое, дискретное и связывание каждой из этих актуализированных субцельностей с каким-то текстом (фрагментом текста), простым или сложным. При этом каждый такой компонент, в свою очередь, – это не элементарный мир, а сложное синкретическое образование, которое в принципе также может быть дополнительно расчленено, структурировано (и следовательно – представлено при дальнейшем развертывании текста) и т. д., теоретически – без конца[82].
Важно и то, что коммуникативная взаимосвязь различных компонентов текста является также результатом его коммуникативной модальности – опознается ли стоящее за ним высказывание как констатация или вопрос, приказание или извинение и т. д.[83] Говоря иначе: понятый в качестве речевого акта, любой текст представляет собою действие, значение которого осциллирует на границе исходной для него интенции и внешней рецепции. Тем же действием наделены и его компоненты. Если полагать, что какими-то из них являются мотивы, то их роль в тексте состоит также и в том, что они выступают в роли по меньшей мере «косвенных перформативов»[84]. Они указывают, называют, обозначают нечто, но уже тем самым удостоверяют свое присутствие в тексте как иллокутивно обусловленное его автором и/или реципиентом[85].




