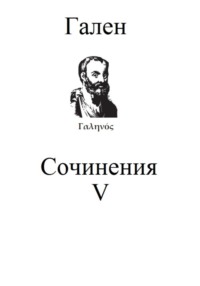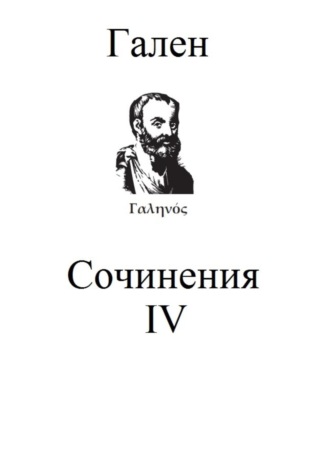 полная версия
полная версияСочинения. Том 4
Вероятно, современники указали Галену на его вольную трактовку взглядов Платона в первых шести книгах и приписывание мыслей, которых тот не высказывал. Также, по-видимому, стали очевидны несоответствия между взглядами Платона и Гиппократа: в отношении их учений о функции дыхания они проявляются наиболее ярко. Добавим к этому собственную интерпретацию Галена, который считал дыхание произвольной функцией. Как следствие, по мнению великого римского врача, за нее ответственна высшая часть души, находящаяся в головном мозге. Механизм «втягивания», о котором говорит Гален, – это создание градиента давления (фрг. 8.8.3–8.8.5). Это идея, которую можно высоко оценить с позиций медицинской теории: современный врач хорошо знает о том, что в плевральной полости существует отрицательное давление, а при повреждении ее целостности легкие коллабируют – в этом суть клинической картины пневмоторакса. Гален описывает процесс дыхания следующим образом. Воздух поступает в легкие за счет сокращения мышц грудной клетки, которые произвольно сжимаются (выталкивают воздух) или разжимаются (втягивают воздух) благодаря побуждающему действию нервов. Таким образом, человек «втягивает в себя внешний воздух извне через рот в легкие, а через кожу – в артерии» (фрг. 8.8.13).
Гален приводит отрывок из «Тимея», в котором Платон говорит о дыхании и сравнивает этот процесс с движением колеса (фрг. 8.8.15–8.8.17). При этом подразумевается, что дыхание является непроизвольным действием. Гален не соглашается с Платоном и приводит свои аргументы:
8.8.18. Не следует думать, что это простое вращение колеса, напротив, оно складывается из разнонаправленных движений: с одной стороны, когда природное тепло заставляет воздух двигаться к коже, а наружный воздух получает толчок и в своем круговращении попадает через рот в тело, и с другой – тепло заставляет воздух двигаться вспять через рот, а окружающий нас воздух, получив толчок, попадает в тело через кожу, так что выдыхание и вентиляция через кожу – это активные действия нашей природы, а при выдыхании – не только через рот, но и через кожу – ее роль пассивна.
8.8.19. Платон не считал ни то, ни другое действие произвольным, хотя очевидно, что в нашей власти вдыхать и выдыхать быстрее или медленнее, в большем или меньшем объеме.
8.8.20. И далее, против мнения Платона можно возразить: если бы дело обстояло так, как он говорит, тотчас после сжатия артерий должен был бы происходить вдох, а непосредственно после выдоха – расширение артерий.
Гален справедливо указывает на существование двух видов дыхания: через легкие и через поры кожи. Согласно современным медицинским представлениям, под собственно «дыханием» следует понимать только первый вид газообмена между человеческим телом и окружающей средой. Однако термин «кожное дыхание» до сих пор остается в лексиконе современного врача, и его употребление является профессиональным. Обозначаемый им механизм процесса довольно сложен. Может показаться, что данную идею Гален заимствовал у Платона, однако суть процесса кожного дыхания Гален понимал иначе, чем Платон:
8.8.13. Итак, человек втягивает в себя воздух извне через рот в легкие, а через кожу – в артерии и возвращает его тем же путем, что и впустил.
8.8.14. Одно из этих действий называется дыханием, другое – вентиляцией через кожу…
Впрочем, и соображения самого Галена носят откровенно спекулятивный характер: механизм «всасывания» он объясняет экскурсией легких, возникающей вследствие деятельности мышц, двигающих грудную клетку (фрг. 8.8.11). Здесь Гален явно подгоняет наблюдаемые явления под заранее предложенные объяснения. Он подмечает способность человека сознательно дышать глубоко или поверхностно, чаще или реже, а раз так, то дыхание можно оценивать в качестве произвольной функции, контролируемой высшей частью души. Тот факт, что дыхание осуществляется непроизвольно и задерживать его человек может только на очень короткое время, Гален никак не комментирует. Вместе с тем Гален указывает на сходство взглядов Платона и Гиппократа относительно функции дыхания, каковой является охлаждение естественной теплоты с помощью вдоха и, с выдохом, вывод и испарение загрязненных выделений (фрг. 8.9.1–8.9.2). Гален обращает внимание на то, что Платон также утверждал, что через дыхательные органы в организм попадает и часть необходимой жидкости. В состоянии волнения и напряжения сердце бьется быстрее, поэтому, как считает Платон, и «каждое такое вскипание страстей сопряжено с действием огня», поэтому сердцу необходимо охлаждение. Из этого Платон делает вывод о том, что часть жидкости и попадает в организм через легкие.
Критика Галена (по крайней мере в этой части трактата) в адрес Платона приводится с оговорками. Гален имеет в виду, что ему не хватает практических медицинских наблюдений: Платон в ряде случаев ошибается, но в целом понимает проблему верно. Так, сразу после негативной оценки идеи Платона о том, что часть необходимой жидкости попадает в организм человека через легкие (фрг. 8.9.5), Гален подчеркивает, что, согласно тексту «Тимея», основная часть жидкости поступает через пищевод (фрг. 8.9.10). Ведь именно пищевод является проводником употребляемой человеком пищи и питья туда, где все это переваривается и расщепляется, – в желудок. Гален находит в «Тимее» указания на то, что не только еда, но и питье попадает в желудок. Он также отмечает и упоминаемый Платоном «отток влаги», то есть процесс поступления в вены «сока», образуемого при смешении еды и питья. В защиту Платона он даже предлагает провести эксперимент, чтобы убедиться в том, что действительно какое-то количество влаги в легкие попасть может (фрг. 8.9.21–8.9.25).
Можно предположить, что именно спекулятивно-комплиментарное отношение Галена к взглядам Платона на устройство организма человека и стало главной причиной критики первых шести книг текста «Об учениях Гиппократа и Платона». Гиппократ мало интересовал философов-стоиков, врачи-эмпирики пользовались его трудами в своей практике, а многие из них писали многотомные комментарии к его трудам[33]. Философия же Платона находилась в центре современной Галену дискуссии[34]. Критикуя Платона, они как бы вступали в спор с Галеном, система взглядов которого была основана на платоновской концепции трехчастного строения души. Здесь обращу внимание лишь на тот факт, что необоснованные оценки Галеном взглядов Платона на медицину могли быть представлены оппонентами великого врача как сознательная ложь. Это, в свою очередь, обесценивало другие, верные положения, высказанные Галеном. Восьмая книга представляет собой довольно непоследовательную попытку исправить положение.
К девятой книге: о методах научного исследования и телеологическом принципе устройства живого
В девятой книге Гален продолжает размышлять о взглядах Гиппократа и Платона, решая сложную задачу обоснования сходства их учений:
9.1.1. Я заранее пообещал изложить все, о чем говорят оба, и Гиппократ, и Платон, поэтому уже было исследовано и сказано о том, что имеет наибольшее значение для врачей и философов. Теперь пришло время обратиться ко всему остальному.
<…> 9.1.3. Итак… покажем, что в целом у них доказываются одни и те же вещи, но в своих примерах один способствует нашим упражнениям во врачебном искусстве, а другой – в философии, и что посредством того, в чем они нас тренируют, они указывают нам путь, продвигаясь по которому, мы придем к намеченному.
Критерии анализа важны для определения предмета исследования. Здесь Гален уже не в первый раз апеллирует к «естественным» («данным природой») критериям, которые он называет отправной точкой познания:
9.1.7. …истинное знание об исследуемых предметах может обрести прежде всего тот, кто знает начало пути к нему, ведь не ведающий этого начала обречен на многие ошибки и заблуждения в рассуждении.
9.1.8. Посредством тех же критериев, исходя из которых ты нашел начало, ты найдешь и второй шаг, следующий после начала, а затем третий и все последующие.
9.1.10. …если у нас нет данного природой критерия, мы не сможем найти и критерия научного; имея же естественные критерии, мы можем найти и научные.
Серьезной проблемой для Галена является различие объектов, внешние существенные признаки которых очень похожи. В связи с этим дифференциация вещей с точки зрения сходства и различия была неотъемлемой частью его научного метода. Скептики утверждали, что восприятие не является познанием, если, увидев один из двух или более очень похожих объектов, мы не знаем, на какой именно мы смотрим.
В качестве метода для различения очень похожих вещей Гален предлагает начинать с наиболее очевидных отличий (фрг. 9.2.3). Найдя их, можно продвигаться дальше – к отличиям менее очевидным. Другими словами, вместо того чтобы смешивать разные вещи, как это происходит в случае с соритами, следует сначала обозначить две полярные противоположности, а затем постепенно продвигаться от каждой из них в сторону другой, используя те же критерии, которые использовали для установления противоположных вещей (фрг. 9.2.4). Хорошо обученный специалист без труда сможет таким способом отделить ложь от истины (фрг. 9.7.18–9.7.19). Следуя именно этому принципу, Гален проводит исследование взглядов Гиппократа и Платона и доказывает их значение для развития медицины. Любой критерий оценки должен иметь общую для всех природу. При этом Гален считает чувственное восприятие главным способом различения (фрг. 9.1.13). На первый взгляд может показаться, что метод познания Галена находится в области чистой эмпирии, отвергающей всякое сверхчувственное, идеальное начало. Однако он имеет в виду, что исследование природы, ее «разворачивание» перед человеком, в самый первый момент проходит перед телесным взором (фрг. 9.1.14). Это первый самый простой, но необходимый этап познания. Тайна природы, ее истинные неизменные и непреходящие основы открываются только умному зрению, и подобное откровение можно рассматривать как вершину человеческих усилий. Это не вывод из конкретной воспринимаемой сущности, это, скорее, вывод из самой природы вещей. Природа в данном контексте – это что-то, что выходит за пределы индивидуума. Следует обратить внимание на слова Галена о естественном критерии – то, что естественно должно быть общим для всех:
9.1.11. Итак, имеем ли мы некие данные природой критерии, общие для всех людей? Ведь нельзя назвать данным природой то, что не является общим для всех: ведь то, что естественно, должно быть общим для всех и иметь общую природу.
9.1.12. Я, со своей стороны, утверждаю, что все имеют возможность осмыслить естественные критерии, и, говоря так, я лишь напоминаю тебе об этом, но, напоминая, не учу, не доказываю и не утверждаю, что это мое собственное учение.
Неслучайно то особое внимание, которое Гален уделил критерию очевидности в первой книге «Об учениях Гиппократа и Платона»: его главный аргумент – анатомические вскрытия, результаты которых приоритетны по отношению к любым спекулятивным умозаключениям. Без чувственного, человеческого измерения умопостигаемая объективность превращается в отвлеченную истину, никоим образом не соединенную с человеческой реальностью, а следовательно, не приносящую никакой пользы. Именно для того, чтобы постичь природу вещей, следует отталкиваться одновременно от самого «значительного» (умопостигаемого) и самого «легкого» (чувственного). Если два этих способа познания находят общие смыслы, то тогда они приносят практическую пользу – это и есть цель врачевания. В своих словах о чувственном познании Гален предельно последователен:
9.1.15. …приступая к точному распознанию сходств и различий, следует взять за основу исследования естественные критерии, то есть ощущение и разумение. Называть же их можно, как я говорил во многих местах, и мышлением, и разумом, и способностью рассуждать, или кто как желает, лишь бы сохранялось значение, которое имеет в виду Гиппократ. <…>
9.1.19. Как же, по мнению Гиппократа, следует постигать природу вещей? Нам следует отталкиваться от самого значительного и самого легкого. Самым значительным природа является с точки зрения пользы, а самым легким – с точки зрения доступности для нашего познания.
9.1.20. Ведь природа дала нам и то, и другое: и эти критерии, и способность верить им безо всякого обучения.
9.1.21. Итак, эти критерии есть органы чувств и пользующиеся этими органами способности; врожденное доверие к ним свойственно природе не только людей, но и других животных.
В другом своем сочинении – «О наилучшем преподавании» Гален достаточно пространно рассуждает по этому поводу:
Я же, напротив, считаю, что «постижимое» означает не что иное, как постоянно известное, а «постигать» – значит иметь устойчивое знание. Подобным образом определяется «постижение» и «постигаемое представление». Иногда мы думаем, что видим, слышим или ощущаем, но на самом деле это сон или же расстройство ума. Но порою мы не только представляем себе [нечто], а по-настоящему видим и полностью ощущаем то или иное. В последнем случае все люди, кроме академиков и последователей Пиррона, считают, что обладают устойчивым знанием…[35]
Против подобных философских учений и выступает Гален. По его мнению, субъективный характер чувственных ощущений не подлежит сомнению, но из этого отнюдь не следует, что чувственным восприятиям не соответствует ничего реального в мире. Гален при необходимости рассматривает множество умозрительных, абстрактных истин. Они являются точками отсчета для любых его рассуждений, выступают как начальные умозаключения, так как они принимаются без доказательств. Гален сравнивает взгляды Гиппократа и Платона на проблемы познания. Прежде всего его интересует, как они строят свои доказательства. Отправной точкой Гален, вслед за Гиппократом, считал то, что легче всего для познания. Рассматривая алгоритм осмотра пациента, предложенный в «Прогностике», Гален указывает, что Гиппократ советовал идти от очевидного к неочевидному, иными словами, от симптомов, доступных наблюдению, переходить к обобщению – пытаться установить истинные причины заболевания (фрг. 9.2.2–9.2.4). Гален подчеркивает, что Платон согласен с Гиппократом (фрг. 9.2.5) в том, что принцип построения научного доказательства един для любого предмета исследования:
9.2.12. Итак, заранее поупражнявшись с нами на примере государства и показав, что в нем одно сословие правит, другое сражается за него, а третье занимается ремеслом, Платон перенес эти выводы на душу и показал, что и в ней есть часть управляющая, по крайней мере когда душа находится в нормальном состоянии; и другая часть, подчиненная, как в государствах войско находится в подчиненном положении; третью же, оставшуюся часть те, кто создал нас, прибавили для того, чтобы она питала тело; не обученные же тому, чтобы различать сходные между собой вещи, считают, что есть одна, а не три перечисленные части души.
Любое развитие также зависит от всеобщих и объединяющих истин, которые не требуют доказательства или были доказаны ранее (например, большие объекты являются источником для меньших объектов[36], управляющая часть души является источником чувственного восприятия и добрых побуждений сердца). Гален считал, что силлогическое (дедуктивное) доказательство следует за первоначальным доказательством. Для него, как и для Платона[37], это доказательство является универсальной истиной, утверждающей явные признаки предмета или в нашем случае наблюдаемой врачом картины заболевания. Общеизвестные истины, не требующие доказательств ввиду своей очевидности и ясности чувственного восприятия, не нуждаются в каком бы то ни было критерии. Гален приводит отрывок из «Федра», который позволяет ему утверждать: для Платона истинно то, что полностью отвечает естественным критериям, а все, что не отвечает им или отвечает не в полной мере, вызывает разногласия и может быть понятно лишь тому, кто преуспел в различении подобий (см. фрг. 9.2.23). Далее он отмечает:
9.2.24. Ведь некоторые вещи таким образом относятся друг к другу по подобию или различию того, что в них, что в чем-то они похожи, а в чем-то непохожи. И необходимо, чтобы муж ученый был способен распознавать это, так что мог бы точно и быстро сказать, подобны они друг другу или не подобны.
Платон утверждал, что смысл всякого познания заключается в «припоминании» истины: душа человека, размышляя о предмете, должна вспомнить то, что она знала о нем до вхождения в смертное тело, но забыла, когда воплотилась. Концепция знания как припоминания развита Платоном вначале в диалоге «Менон»[38], а затем диалогах «Федон»[39] и «Федр»[40]. Несмотря на то что чувственный опыт не дает нам примеров идеального равенства или тождества, мы тем не менее определяем некоторые чувственно воспринимаемые вещи как равные или тождественные.
При этом, по мнению Галена, нужно постоянно упражняться в применении научного метода: даже самый одаренный в той или иной области человек не может развить в себе умений, дарованных ему природой, без должных тренировок:
9.2.25. Итак, …зная общий метод, но не упражняясь во многих частных вещах, нельзя стать хорошим мастером.
9.2.26. …общий метод можно за один год изучить в совершенстве, однако достигнуть успеха в этих искусствах можно, только если упражняешься в них всю жизнь.
9.2.27. Совершенно очевидно, что именно таковы искусства счета, риторики и игры на музыкальных инструментах. Итак, аподиктический метод не нуждается в столь длительных упражнениях, но и он требует изрядной тренировки. При этом следует, чтобы обучение каждому искусству происходило на тех материях, которые полезны нам в жизни.
9.2.28. Ведь даже если человек, по природе лучше всего подходящий для того или иного дела, пренебрегает практикой, он будет ничем не лучше того, кого природа не наделила большим талантом, но кто был усерден в упражнениях.
Достичь совершенства можно, лишь постоянно упражняясь, но тренировочные упражнения должны быть соответствующим образом подобраны. Так, Гален приводит следующий пример: если человек, ноги которого «великолепно устроены» для бега, во время тренировки ходит по тонкой веревке или забирается на гладкий ствол, вряд ли он достигнет в беге успеха (фрг. 9.2.30). Тем более важны умственные упражнения, необходимые для развития интеллекта: мыслительные способности также следует развивать – «тренировать», как и физические навыки.
Гален приводит отрывок из пятой книги «Государства», в котором Платон на основании своего учения об идеях исследует различные стороны идеального государства и делает выводы относительно устройства жизни его подданных, а также достаточно скрупулезно излагает роль женщин в идеальном государстве. Цель рассуждения – выяснить, могут ли женщины заниматься тем же, чем и мужчины? Платон полагал, что женщины во всем слабее мужчин, но это не могло быть основанием, чтобы «поручать все мужчинам, а женщинам – ничего». Женщины между собой тоже различаются по склонности к разным занятиям, а от мужчин они отличаются тем, что способны к деторождению. Следовательно, мужчины и женщины имеют как общие (сходные) черты, так и различные (см. фрг. 9.3.26). На основании своего анализа Гален делает следующий вывод:
9.3.28. Ведь как Гиппократ в сочинении «О врачебном кабинете» написал, что мы должны «исследовать сначала сходства и различия», а в «Прогностике» добавил понятие противоположного, говоря относительно лица, что «то, которое наибольше от него отступает, является самым опасным», так же, как мы видим, ведет доказательство в приведенном рассуждении и Платон.
Ключевым моментом в сравнительном анализе, как в философии, так и в медицине, служит выявление общего и различного, что позволяет более точно понять функциональную значимость анализируемых свойств предмета исследования. Гален отмечает:
9.3.27. …прав будет тот, кто совершит перенос с одного на другое в том, в чем они подобны, но неправ будет тот, кто совершит этот переход в том, в чем они несходны, и тем более в том, в чем они противоположны.
Эта мысль Галена подтверждает значение философских категорий для формирования картины мира врача. В ней в рамках гиппократовско-галеновской традиции существует четкое противопоставление «нормы» и «патологии». Критерий определения патологии – нарушение функции части тела. При этом пациент не оценивается как больной вообще, а его болезнь имеет разные степени проявления. Умозрительно крайними точками являются абсолютное здоровье и состояние, переходящее в агонию и смерть. Незначительное нарушение функции пораженной недугом части тела означает легкую форму заболевания, которую можно излечить и привести организм пациента к полноценному, нормальному функционированию. Сильно выраженное патологическое расстройство может привести к полной утрате функции органа, даже если врач достиг существенного успеха. Так, например, после излечения воспалительного заболевания матки, опасного для жизни женщины, могут оставаться непреодолимые последствия в виде вторичного бесплодия. Вместе с тем любое лечение само по себе представляет попытку возвращения здоровья. Тем врачам, кто использовал аподиктический метод, следует узнавать по опыту, решили ли они проблему на самом деле.
Гален обращается к работам Гиппократа, чтобы показать, насколько в медицинской практике важно уметь различать сходства и различия вещей и к каким ошибкам может привести отсутствие этого навыка. Так, в сочинении «О врачебном кабинете» есть рассуждение о таких состояниях, как вывих плеча и отрыв акромиона. Для правильной постановки диагноза важно, чтобы врач, несмотря на их кажущееся сходство, сумел увидеть различия и поставить правильный диагноз. В сочинении «О суставах» Гиппократ разбирает клиническую картину, наблюдаемую при смещении позвонка и повреждении его остистого отростка. Эти состояния также похожи, но одно из них легко устраняется, а другое имеет серьезные последствия. Из-за неумения их различать многие врачи ошибаются, что ведет к назначению неправильного лечения и может причинить вред пациенту. Гален говорит о том, что «постижение сходств и различий имеет большое значение, и каждый мастер должен понимать, подобны или различны вещи, которыми он занимается» (фрг. 9.4.30). На основе медицинского материала Гален делает обобщение, верное для любой сферы человеческого знания, и как бы переводит обсуждение со «специального» (медицинского) на «общий» (философский) уровень.
Гален вновь говорит о том, что правильному владению научным методом необходимо учиться у Гиппократа и Платона:
9.4.31. Однако, поскольку знание, о котором мы говорим, зависит прежде всего от практики, следует не искать обобщенного знания, но упражняться на многих и разнообразных примерах, и особенно на примерах, переданных нам теми, кто лучше всего овладел этим искусством, – Гиппократом и Платоном.
Он вновь обращается к трудам Платона, на первый взгляд не имеющим непосредственного отношения к медицине: ссылки на фрагменты из диалогов «Государство», «Федр», «Филеб» и «Софист» предваряет повторяющаяся вновь, как и перед разбором текстов Гиппократа, постановка вопроса. Отрывки из работ Платона позволяют Галену проиллюстрировать и необходимость применения научного метода в том числе в медицине. Помимо метода установления сходств и различий предметов, Гален говорит о том, что Платон «тренирует нас в методе разделения», который заключается в умении переходить от общего к частному и наоборот. Гален вслед за Платоном и Аристотелем указывает, что научный метод может быть индуктивным и дедуктивным:
9.5.11. К этому способу рассмотрения близок и так называемый метод разделения, в котором тренирует нас Платон в «Софисте» и «Государстве»…
9.5.12. Итак, в «Софисте» и «Государстве» он учит, как можно вместо произнесения термина разъяснять в ясных и кратких словах его значение…
9.5.13. В «Филебе» и «Федре» он показывает, что для формирования научного мышления необходимо двумя способами тренировать навык разделения и объединения: от первого и наиболее общего переходить к тому, что более не приемлет деления, проводя разделения посередине между этими крайностями, – в «Софисте» и «Государстве» он показал, что именно таким образом составляются определения видов, – и наоборот, от более частных и многочисленных видов подниматься к первому роду посредством объединения. Ведь путь в обоих случаях один, а направления два: от общего к частному и наоборот.
По Галену, знание о природе не может быть достоверным и истинным, если оно, с одной стороны, умозрительно и отвлечено от действительности, с другой – основывается на изменчивом «чувственном» мнении:
9.6.21. Ведь нет ничего удивительного в том, что в философии большинство разногласий не прекращаются: вопросы философии не могут быть окончательно решены с помощью эксперимента, поэтому некоторые считают, что мир не был сотворен, а другие – что был, как некоторые считают, что этот мир снаружи ничто не окружает, а другие говорят, что нечто окружает его, и из последних одни считают, что окружает его некая пустота, не имеющая в себе никакой материи, а другие – что существует бесконечное число иных миров, и множество их простирается в беспредельность.