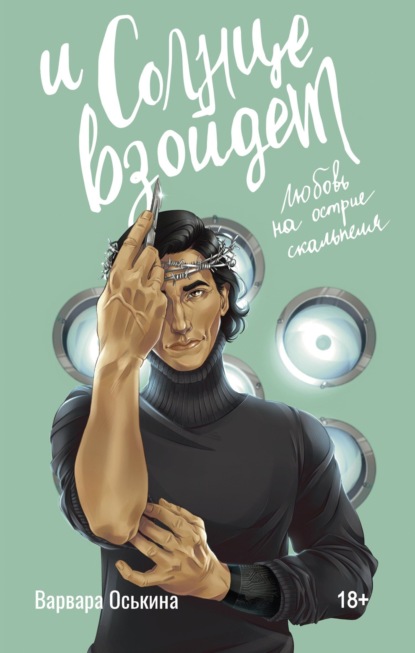Полная версия
И солнце взойдет. Возрождение
Однако в груди, где часто бухало сердце, вдруг проснулась горькая жалость к самой себе. Она была приправлена слабостью, болью и злостью, отчего на глаза навернулись непрошеные слёзы. Горячие и настолько солёные, что, кажется, разъедали обветренную кожу. Следовало встать и выпить таблетки. Переодеться, натянуть носки и домашний свитер, но вместо этого Рене ещё сильнее сжалась в комок, и редкие всхлипывания окончательно переросли в плач. Это было унизительно. И очень глупо. Она потёрла ледяные ступни и попробовала раздражённо оттолкнуться от продавленного дивана, но резко стало нехорошо, а потом под куртку забрался прохладный воздух.
Рене затрясло так сильно, что шарившие в поисках бегунка на молнии пальцы не слушались. Они бесцельно скребли по шуршавшей под ними ткани, и потому тихо открывшееся окно осталось незамеченным. Только когда деревянная рама стукнулась об упор, а по босым ногам скользнул морозный сквозняк, Рене испуганно замерла. Она застыла в неудобной позе, пока в полной тишине ошарашенно шарила взглядом по тёмной комнате, где вместо привычных вещей и мебели ей мгновенно померещились затаившиеся чужие тени. Но ничего не происходило, словно больному мозгу всё показалось, только в открытое окно медленно летел снег. Рене сглотнула. Она понятия не имела, что нужно делать, а потому с каким-то ощущением безысходности молча ждала продолжения.
Тревожное ожидание длилось добрых десять секунд. Наконец тихо хрустнуло жалюзи, и в образовавшийся проём ловко скользнула чёрная тень. Она изогнулась невероятной дугой, прежде чем бесшумно приземлилась на потрёпанный плетёный ковёр и успела подхватить уже летевшую с подоконника возмущённую герберу. Раздались приглушённая ругань и стук бережно возвращённого на место горшка. Затем вновь тишина. В отсутствие света рассыпанный по полу снег потусторонне мерцал и переливался на грубом плетении, словно к Рене пожаловал гость из самой преисподней. А тот тем временем угольным пятном выделялся на фоне бледно-серой стены. Ну точно настоящий чёрт.
Судорожно сглотнув, Рене попыталась сообразить: заорать или же будет мудрее подождать, пока домушник осознает, что здесь нечего брать, но мозг заклинило. Он не мог дать команду ни открыть рот, ни перестать лить слёзы. Хорошо хоть дыхание перехватило от ворвавшегося с улицы холода, и дурные всхлипы потонули где-то в животе. Однако послышался новый шорох, и всё в том же окне материализовался второй. Напарник? О господи! Рене дёрнулась, но тут…
– Слышь, мужик, по-моему, ты ошибся домом, – произнёс по-французски чуть гнусавый голос, а Рене едва не свалилась с дивана от облегчения. Прямо сейчас она почти уверовала в магию, ангелов и чудо Господне, потому что вслед за головой говорившего в проёме показались широкие плечи, а затем и пернатые косы Чуб-Чоба.
Тем временем незнакомец мазнул сажей тени по стене и повернулся. Чёрный. Совсем чёрный. Прямо как…
– Неужели? – с типично калифорнийской интонацией Энтони хмыкнула по-английски огромная головёшка, и Рене зажмурилась.
– Ага. Иди воруй в другом месте, а здесь ничего не трогай.
Чуб-Чоб оставался опасно невозмутим, но Энтони это не впечатлило. Он что-то поудобнее перехватил, а потом саркастично протянул:
– Вот как. А иначе что?
Рене медленно выдохнула.
– Выбью зубы.
У неё начался откровенный бред. Однозначно. Галлюцинации, сновидения воспалённого мозга, смешение языков, возможно, самая настоящая агония, потому что так не бывает. Нормальные люди не вламываются в окна, когда для них открыты двери, не ведут беседы посреди ночи и уж точно не пытаются договориться с потенциальным вором. По крайней мере, в голове Рене это выглядело именно так. Но когда она распахнула глаза, то увидела, как весьма материальный в лучах фонаря Ланг шагнул в сторону окна.
– Пошёл вон, – процедил он, прежде чем ухватиться за раму. Энтони собрался захлопнуть вертикальную створку, но Чуб-Чоб не дал этого сделать. Уперевшись спиной в верхний край, индеец потянулся вперёд и ввалился в тёмную гостиную. Послышались ругань, возня, а потом звук удара.
Решив, что на сегодня цирка достаточно, Рене осторожно приподнялась на слабых от дрожи руках. В гостиной становилось безумно холодно, так что зубы громко клацали, а сама она почти билась в конвульсиях, но всё равно постаралась чётко приказать:
– Прекратите.
Голос звучал негромко, но этого хватило, чтобы шум резко стих. С трудом скатившись с дивана, Рене неловкими шагами, почти наобум добралась до торшера, едва не сбила тот на пол, но вовремя ухватилась за потёртое дерево и наконец дёрнула шнур. Резанувший по глазам свет показался острее скальпеля, которым наживую вскрыли глазные яблоки. Боже… Рене прижала к векам ледяную руку и опять неуклюже пошатнулась. И как эти двое здоровяков вообще сюда забрались?
– Закройте, пожалуйста, окно. Очень холодно, – прошептала она, а сама уже не чувствовала, как трясётся.
– Но этот тип… – попробовал возмутиться Чуб-Чоб, однако Рене перебила:
– Окно. Пожалуйста.
Челюсть окончательно свело, а пальцы чуть не переломили стойку торшера. Но ноги твёрдо стояли на земле. Благодарить ли натренированный за годы вестибулярный аппарат или на сегодня вселенной просто уже хватило её унижений, однако Рене лишь покачнулась. Сухой треск захлопнувшегося окна ознаменовал маленькую победу. А в следующий момент что-то холодное и мягкое ткнулось в левую руку, прежде чем тело потрясающе легко воспарило. Так беззаботно, что даже боль в истерзанных температурой мышцах на мгновение показалась не настолько убийственной. Лба коснулись сухие губы, а нос защекотал запах мяты – резкий и почему-то злой.
– Твою же мать.
Ланг, как всегда, демонстрировал удивительную краткость. Перехватив поудобнее свою вялую ношу, он в один километровый шаг добрался до дивана и небрежно уселся на невысокую спинку. Рене почувствовала, как сначала сжало туловище, а потом что-то приятно прохладное пролезло под ворот куртки и прижалось к шее.
– Где здесь аптечка? – раздался над головой недовольный голос Тони. Обращался он при этом не к хозяйке той самой пресловутой аптечки, а к ещё одному гостю. Но тот явно пребывал в растерянности.
– Мне неизвестно, – медленно ответил Чуб-Чоб на ломаном английском, и в груди Ланга что-то заклокотало.
– Весьма опрометчиво для человека, который забирается по деревьям в чужие дома, – процедил он, а Рене удивлённо вздохнула.
Это что… ревность? Она ошарашенно прислушалась к чужому сердцу у себя под щекой и едва не расхохоталась, когда уловила отчаянный, торопливый стук. О, Тони! Неужели он правда думал, что к ней – страшно сказать! – вот так запросто ходят любовники? Залезают в окно, карабкаются по деревьям… Абсурд! Но сердитый ритм не врал. Ланг мог сколько угодно корчить брезгливые выражения лица, плеваться ядом или вымораживать всё вокруг презрительным холодом, однако теперь Рене знала о нём немного больше. А потому подняла руку и коснулась обветренной ладони, что до этого выискивала пульс, а теперь машинально гладила горячую шею. Пальцы Энтони двигались успокаивающе и деликатно, почти так же, как делала сама Рене в минуты его мигреней.
– Во втором кухонном ящике. Коробка из-под молочных ирисок, – пробормотала она и почувствовала в волосах тихое фырканье.
– А всё-таки у тебя есть тайный порок. И, кажется, не один.
– Я не… он не… – попробовала оправдаться Рене, но ещё один смешок вынудил замолчать.
– Допустим, – коротко ответил Ланг и отстранился. Вновь стало холодно, а потом голова едва не взорвалась от ледяного тона. – Принеси.
Рене хотела возмутиться такому обращению, но её тут же с силой прижали к тёплому телу, отчего говорить стало сложно. И только тогда она с удивлением поняла, что помимо собственной куртки укрыта полой пальто. Странно. Либо она настолько мала, либо Тони носил самую настоящую плащ-палатку.
Тем временем послышались тяжёлые шаги, скрежет отодвигаемых ящиков, лязг крышки, и… наверное, увидев её аптечку, даже самые суровые вирусы повесились бы от жалости. Они пали бы жертвенной смертью во имя нового пенициллина, самого действенного антисептика или ещё неизведанного лекарства, потому что в жестяной круглой банке, носившей гордое название аптечки, давно помер даже паук. И судя по многозначительному молчанию доктора Ланга, пачка пластыря вместе с двумя пожелтевшими от времени таблетками парацетамола его не впечатлили. Совсем.
– Да уж, арсенал настоящего врача. Позволь узнать… – он на секунду прервался, – зачем тебе целая коробка, если в ней ничего нет?
– Она красивая, – прошептала Рене, которая болела так редко, что уже позабыла, когда был последний раз. А Тони долго взвешивал на весах абсурда её слова, прежде чем коротко хмыкнуть:
– Достойный ответ.
Он быстро проверил срок годности желтоватых пилюль, потом сноровисто достал их из блистера и взглядом потребовал стакан воды. Следовало отдать должное: в маленькой квартирке незваные гости ориентировались почти как дома. Проглотив горькие таблетки, Рене устало ткнулась лбом в шерстяной свитер Тони. Ну а Ланг подумал ещё немного, после чего повернулся к терпеливо ждущему Чуб-Чобу. И хотя Рене понятия не имела, что творилось в пернатой голове огромного индейца с судимостью за разбой, но враждебности тот больше не проявлял. Просто стоял и невозмутимо ждал дальнейших приказов, а именно это лучше всего умел делать доктор Ланг.
Осторожно перехватив подрагивавшее тельце, он свободной рукой поставил себе на колено босые ступни и принялся шарить в кармане. Через пару секунд на свет появился уже знакомый бумажник, а оттуда внушительная пачка пёстрых банкнот.
– Найди ближайший круглосуточный магазин, возьми там упаковку любого жаропонижающего и пак Гаторейда. На сдачу можешь купить себе шоколадный батончик. На дворе как-никак Рождество.
Чуб-Чоб с сомнением уставился на протянутую ладонь с зажатыми в ней купюрами, но всё же осторожно забрал тихо зашелестевшие деньги. Бросив на Рене странный взгляд, он двинулся к окну, но Энтони его остановил.
– Через дверь, молодой человек.
– Но хозяин будет недоволен… – попробовал возразить невольный курьер, однако немедленно замолчал, стоило Лангу удивлённо повернуть голову.
– Я разберусь, если потребуется, – процедил он. И поскольку других аргументов у немного занудного индейца не нашлось, Рене вскоре услышала хлопок закрывшейся двери.
В квартире стало очень тихо. Не было слышно ни дыхания, ни шелеста одежды, не шумел холодильник, не текла по трубам вода, даже сердце в груди Тони теперь билось размеренно и словно издалека. Наконец, не выдержав гнетущего молчания, Рене рискнула пошевелиться. Она сжала замёрзшие пальцы на ногах, которые по-прежнему упирались в жёсткую джинсовую ткань на бедре Ланга, и раздался привычный хруст. Стало неловко. Ох уж эта воздушная красота балета!
Сквозь мелкую дрожь Рене стыдливо поёрзала и вдруг заметила, с каким интересом Энтони разглядывал её шишкообразные суставы и следы от старых мозолей. Чёрт, пусть бы лучше на висевшие акварели любовался! В животе вместе с тошнотой от температуры растеклась досада. Прошло десять лет, а краше ноги не стали и вряд ли уже будут, так что Рене постаралась незаметно спрятать под полой пальто свои жилистые ступни. Однако Ланг не дал и неожиданно принялся растирать сначала одну холодную подошву, затем другую, а потом сразу обе. На удивление, в его руках они умещались полностью. Это донельзя смущало, так что Рене попробовала вырваться, но вместо этого Энтони обхватил ладонью лодыжки, чем жёстко пресёк любые проявления стыда.
– Рене, я травматолог и прекрасно знаю, как выглядят ноги балерин, фигуристок и цирковых гимнасток. Твоё стеснение неуместно, – отрезал он. Рене нечего было возразить, поэтому она послушно расслабилась и опустила голову, как вдруг заметила в своих руках уже знакомого бобра. Сжав мохнатую тушку, Рене вздрогнула, когда услышала внезапный вопрос. – И часто к тебе ходят в гости таким способом?
На первый взгляд, Тони бросил фразу очень небрежно, но Рене слишком хорошо знала этот едва ощутимый оттенок недовольства. Другие бы скрипели зубами, но Ланг лишь слегка растянул слово «часто», и всё стало ясно.
– Никогда. Они просто… волнуются за меня. После аварии. И иногда присматривают.
Рене по-прежнему трясло, а потому говорить выходило с трудом, и она замолчала. Энтони какое-то время ждал продолжения, но, заметив снова нараставшую дрожь, принялся растирать руки и плечи свернувшейся эмбрионом Рене.
– Кто «они»? – не отставал он.
– Что?
– Я спросил, кто это «они».
– Не ревнуй…
– Рене! – Теперь Энтони злился. – Это вопрос не моих страхов, а твоей безопасности!
«Страхов? Хм…»
Рене вздохнула.
– В большинстве своём бездомные. Я подрабатываю здесь. Недалеко. – Зубы звонко стукнулись друг о друга, а руки вокруг неё обернулись сильнее. – В центре реабилитации.
– Реабилитации? – Выдохнутое ей в волосы замешательство было поистине бесценно. – Чьей реабилитации? Заключённых?
– Да.
Воцарилась тишина, пока Энтони, вероятно, переваривал потрясающую новость, с кем именно он только что имел честь находиться в одной квартире. А потом последовал шумный выдох.
– Потрясающе! Нет, просто уму непостижимо! Неужели я настолько мало тебе плачу? – В его голосе проскользнули обиженные нотки, а Рене замялась. Вряд ли правда понравится Тони больше, чем молчание, но он не унимался. – Господи помилуй, ради чего тебе понадобилось так рисковать? Это даже не дом престарелых или приют. Чёрт возьми, Рене! Почему?!
– Мне были срочно нужны деньги. – Она попробовала слукавить, но Энтони одарил её красноречивым взглядом. – На тесты.
Рене закусила губу и затаила дыхание, даже не представляя, какой ждать реакции. Но той не последовало ни сразу, ни пятью минутами позже. Только расслабленное под щекой тело внезапно напряглось, точно сведённое судорогой, а потом застыло. Без дыхания и без движения. Как будто где-то сработал переключатель. Вот Ланг вальяжно восседал на спинке неудобного дивана, а теперь выпрямился едва ли не до хруста в позвонках. Но больше ничего. Рене чувствовала, как он злился – чертовски и бессильно, – хотя никак не могла понять на кого. А Энтони всё молчал и молчал, порождая в голове целый ворох сокрушительных мыслей. Она опять сказала что-то не то? Или сделала?
Рене устало пошевелилась, почувствовав, как на смену ознобу пришла долгожданная слабость. Стало тепло. Почти жарко. И, видимо, это понял Энтони, потому что резко поднялся, обошёл злополучный диван и опустил на него Рене. Следом, всё так же не удостоив даже словечком, он стянул пальто и полностью закутал в него босые ноги, а сверху для верности накинул плед. Теперь Рене представляла собой самый настоящий кокон, из которого, возможно, кто-нибудь вылупится. В последний момент рядом с головой был демонстративно усажен рождественский бобёр.
«Серьёзно?!»
Однако брошенный на Тони сердитый взгляд обиженной девочки оказался не замечен, поскольку рядом уже никого не было. Ланг погромыхал чем-то на кухне, затем последовал плеск воды, а потом рядом обнаружилась огромная чашка.
– Пей. – Да уж, приказывать Энтони любил.
– Мне жарко.
– Ну разумеется тебе жарко! – выплюнул Ланг, который, очевидно, до сих пор на что-то сердился. Знать бы, на что. – Подделка лекарств в этой стране по-прежнему строго карается законом, так что они работают. Пей.
Уткнувшаяся в грудь кружка едва не расплескала содержимое, и Рене с трудом успела высвободить руки, чтобы её перехватить. Что же, для пересохшего рта вода ощущалась удивительно сладкой. Так что Рене пила с поразительным наслаждением, пока едва не подавилась, услышав над ухом негромкую фразу:
– Иногда я забываю, что моя ненависть разрушает не только меня.
Тони нехорошо усмехнулся, помедлил немного под её ошарашенным взглядом, а потом тяжело опустился на пол и вытянул длинные ноги. Рене чуть скосила глаза и посмотрела на его замершую фигуру. Голова Энтони теперь находилась точно напротив, отчего сдержаться не удалось. Неловко повернувшись в своём коконе на бок, Рене протянула руку и осторожно провела по густым волосам. Прохладным и мятным. Даже для неё жест вышел неожиданно домашним, таким привычным, родным, словно они знакомы десятки лет. Она перебирала жёсткие пряди, а сама с волнением понимала: Тони пришёл. К ней. После некрасивого разговора, взаимных обид и упрёков он всё равно приехал посреди ночи, чтобы… что? Неужели рассказать всё?
Рене нетерпеливо поёрзала на диване, чувствуя, как липнет к коже шерстяной свитер и неприятно покалывает отогревающиеся ноги. Температура стремительно спадала, но сейчас это волновало меньше всего, потому что, облизнув пересохшие от недавней лихорадки губы, Рене решилась спросить:
– Когда ты сменил имя?
Плечи под чёрным джемпером на мгновение напряглись, но тут же под давлением воли распрямились. Значит, она не ошиблась, и Тони действительно явился расставить последние точки. Воодушевлённая Рене ободряюще провела ладонью по твёрдым мышцам, придвинулась ближе и уткнулась холодным носом куда-то в район четвёртого шейного позвонка.
«Расскажи, – мысленно шепнула она. – Расскажи, и я помогу!»
Последовала пауза, а потом Энтони ответил:
– Перед армией. Пытался сбежать от собственной совести.
– Успешно?
– Вполне, но это не заслуга дурацких букв.
– Зачем же тогда? Оставил где-то беременную подружку и теперь прячешься? – хохотнула Рене, но тут же едва не задохнулась, когда встретилась глазами с оглянувшимся Лангом. Он смотрел долго и безэмоционально, прежде чем растянул рот в жуткой улыбке.
– Затем, что я убил своего отца. И мечтаю разобрать собственную ДНК, лишь бы вытравить его и оттуда. Ещё вопросы?
Энтони с притворной угодливостью склонил голову, словно готов ответить на что угодно, но Рене лишь недоумённо моргнула.
«Что… убил кого?!»
Она испуганно дёрнулась в сторону. Энтони это заметил и улыбнулся.
– Знаешь, я думал, что пожалею. Ты, убив для своей защиты двоих и в панике исколов ножом труп третьего, до сих пор зачем-то переживаешь о смерти ублюдков, а у меня за всё время не возникло и мысли об этом. Я много раз представлял в голове, как именно мог бы запустить обратно сердце, какие наложил бы швы… Каким образом вообще собрал бы заново тот вонючий мешок из мяса и осколков костей. Ургентная хирургия тогда не была моим профилем, всего лишь желанием Чарльза дать мне как можно больше. Но и будучи тем ещё недоучкой, я бы смог. Зашил, скрепил, спас. Однако даже спустя десять лет в голове то и дело зудит отвратительный запах, которым в тот день провоняла вся операционная, и я понимаю: случись это снова, моё решение не изменится. Я убил бы снова. А значит, всё сделано правильно и раскаиваться не в чем.
Он замолчал, и в комнате повисла душная тишина. Рене боялась даже вздохнуть, и потому сидела не шевелясь, пока собственный напуганный мозг вдруг не застопорился. Он забуксовал один раз, второй, а потом зацепился за число. Десять. И руки нервно сжали колючий плед.
«Господи, Тони, какое жуткое совпадение!»
Упрямо поджав губы, Рене подползла ближе к витавшему в своих отравленных воспоминаниях Энтони и осторожно коснулась колючими обветренными губами впалой щеки. Уткнувшись кончиком носа в гладкую скулу, она тихо спросила:
– Почему?
– Какая теперь уже разница. Мертвецы, слава всему, не восстают из могил, – хмыкнул Ланг и попытался отвернуться, но Рене горячими ладонями обхватила его лицо, вынудив посмотреть в глаза. А затем едва не расхохоталась от облегчения, увидев то, о чём только догадывалась. Тони не злился ни на неё, ни на кого-то ещё. Энтони Ланг ненавидел только себя самого.
– Расскажи. Расскажи, и я помогу!
– Я не дева в беде, чтобы меня спасать! Да и ты не психиатр…
– Тони! – Имя неожиданно прозвучало с таким нажимом, что Ланг осёкся. Он отвёл взгляд, а затем со вздохом покачал головой.
– Успокойся. Эта история не для твоих нежных ушей. Не стоит в этом мараться.
– И всё же?
Он мягко высвободился из её хватки. Рене же свесила ноги и решительно сползла на пол прямо в куче из одежды и одеяла. В руках немедленно оказалась чашка с водой, а рядом опять примостился косолапый бобёр.
– Ты ведь не отстанешь, верно?
– Нет.
– Зря, – досадливо взмахнул рукой Энтони. Он немного помолчал, машинально поправил скривившиеся зубы у завалившейся на бок игрушки и заговорил: – Я не знаю, когда всё началось. Наверное, так было всегда, но что-то понимать я стал только лет в десять. В тот год родители развелись, и мать уехала работать в Канаду. Как я потом догадался, просто сбежала. Она звала с собой, но я наотрез отказался. Кто же согласится променять солнечную Калифорнию на это унылое французское гнездо?
Ланг фыркнул и замолчал. Он перебирал синтетическую шерсть поразительно долго, прежде чем сердито уставился на застывшую Рене, подтолкнул к ней кружку с водой и продолжил:
– Через несколько дней после отъезда матери, я застал отца на какой-то шлюхе. Потом были ещё и ещё. Целая вереница девчонок, которые хотели получить собственный контракт в студии отца и были готовы на всё. Не скажу, что это оказалось шокирующее зрелище, но для десятилетнего пацана весьма… удручающее. – Энтони хмыкнул. – Тем более они не скрывались. Просто не видели в том нужды.
– Ты… ты прямо видел всё это? – Рене никогда не считала себя ханжой, но вряд ли взрослые оргии достойная пища для молодого ума. И психики.
– Ну мне же надо было как-то добраться до своей комнаты, – рассмеялся Энтони, отчего у Рене невольно дрогнула чашка в руках. Неестественный смех. Почти искусственный. – Через два года студия отца не выдержала конкуренции, и мы переехали на окраину Лос-Анджелеса, где можно в кратчайшие сроки найти любой источник для кайфа. И, чёрт возьми, выяснилось, что отец в этом настоящий мастер. Он цеплял едва ли совершеннолетних девчонок по клубам, убеждал их бог знает в чём, чтобы подсунуть наркоту, которой кишит каждая подобная дыра, а потом трахал их у нас дома.
– Господи…
– Я тогда почти не появлялся в этом сарае. В основном жил у Чарльза, иногда у друзей.
– Он знал?
– Не думаю. Отец был не самым простым человеком, мать с тех пор тоже не изменилась, Чарльз же всегда отдавался науке. Думаю, он просто считал, что идти мне больше некуда. И в общем-то, старый засранец был прав.
– Почему ты никому не сказал?
Тони поднял голову и прямо посмотрел ей в глаза.
– Я не знаю, – тихо произнёс он. – У меня до сих пор нет на это ответа. Возможно, я отрицал. Может быть, трусил. Но понимать последствия своего бездействия стал намного позже. Тогда мне не хотелось думать, что они были полностью невменяемы. Просто тела, с которыми можно вытворять, что хочешь. Отец этим пользовался…
– А ты? – Рене почувствовала, как свело горло, а Энтони вдруг замолчал. Он поджал губы, вырвал какую-то нить из ковра и отшвырнул прочь.
– Один раз. Или это следует считать за два? – наконец ответил он, а потом прикрыл глаза и слегка приподнял брови, словно спрашивал её мнения. Но Рене молчала, и тогда он продолжил: – Это был выпускной в старшей школе. Чарльз уехал на очередную конференцию, так что я вернулся домой пьяным и очень весёлым, когда они как раз танцевали на нашем журнальном столике. Подарок отца на окончание – две девчонки, которых я просто нагнул и отымел по очереди, потому что мне показалось это забавным. Смешным. Никто из них не возражал, да и не смог бы. Думаю, они вообще не осознавали происходящее. Ну а на утро к нам заявились копы. Тогда же я понял, что проспал всю ночь рядом с трупом.
– Передозировка?
– Отец обычно проявлял осторожность, поэтому аспирация рвотных масс. Второй повезло больше.
Энтони замолчал, а Рене нервно ковыряла ногтем скол на опостылевшей чашке. Пить больше не хотелось. Наоборот. Казалось, её сейчас стошнит.
– Вас арестовали?
– Разумеется. У нас же имелся труп и полный дом наркоты!
– А дальше?
– Дальше были долгие разбирательства и допросы. Однако говорить, кроме правды, мне оказалось нечего, так что я быстро стал неинтересен. А потом пришла мать. Я не знаю, что она сказала или сделала, кому заплатила. В общем, вряд ли это получилось законно, но меня больше не трогали. По решению суда я отсидел полгода, после чего меня забрал Чарльз и ещё долго со мной не разговаривал. Однако с опозданием на два месяца он взял меня с собой в Хопкинс. Я не собирался становиться врачом, так просто случилось.
– А отец? – осторожно поинтересовалась Рене, боясь даже представить, насколько потерян был в тот момент Тони. На какое дно моральной ямы упал, прежде чем смог взять себя в руки. Сколько ему исполнилось на тот момент? Шестнадцать? Семнадцать?
– Как в классическом вестерне. Десять доказанных случаев изнасилования, две передозировки, один анафилактический шок от неизвестных примесей. Ранен при попытке побега во время транспортировки из одной тюрьмы в другую. Умер от обширной кровопотери и полиорганной недостаточности шестого декабря в половину второго ночи. Донорская карта подписана ближайшим родственником. Реанимационные мероприятия не проводились по причине полной ублюдочности пациента и бесчеловечности его дежурного хирурга.