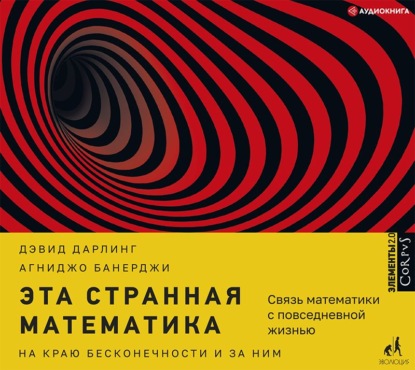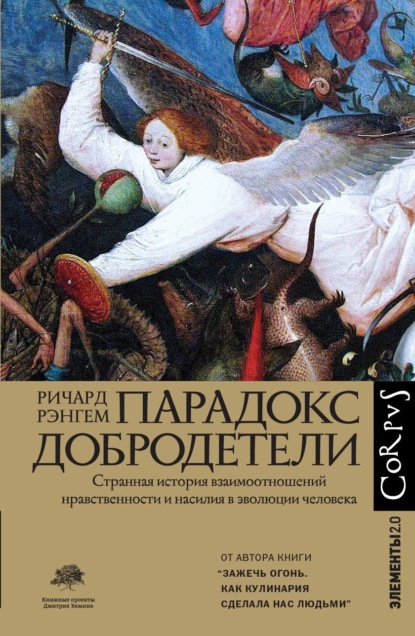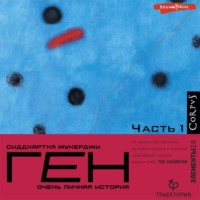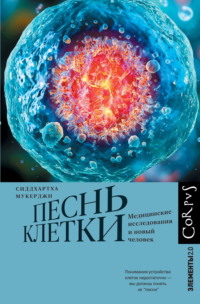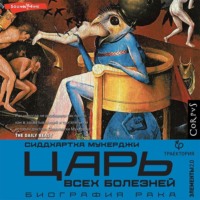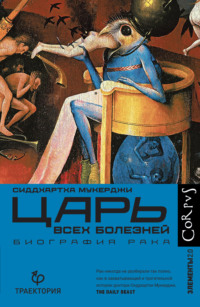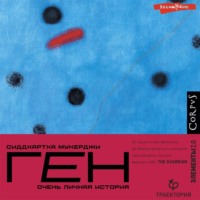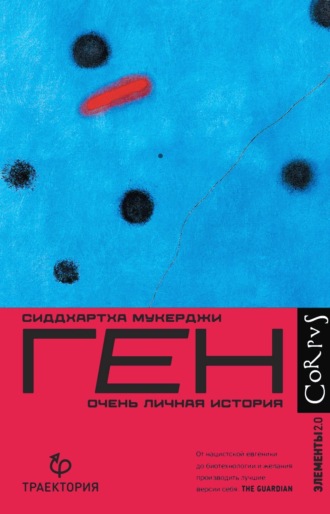
Полная версия
Ген. Очень личная история
Грегор Мендель написал лишь одну монументальную статью о гибридах гороха. Здоровье стало подводить его в 1880-х, постепенно заставляя отойти от дел – всех, кроме организации садовых работ и любимой метеорологии. 6 января 1884 года он умер[169] в Брно от почечной недостаточности. В местной газете вышел некролог, но там ни слова не было об экспериментах Менделя. Пожалуй, самой лучшей в нем была короткая цитата из стихотворения, которое молодой монах посвятил своему аббату: «Мягкий, щедрый и добрый <…> Цветы он любил»[170].
«Некий Мендель»
Происхождение видов – естественное явление.
Жан-Батист Ламарк[171]Происхождение видов – объект изучения.
Чарльз Дарвин[172]Происхождение видов – объект экспериментального исследования.
Хуго де Фриз[173]В 1878 году 30-летний голландский ботаник Хуго де Фриз отправился в Англию, чтобы увидеть Дарвина[174]. Это было скорее паломничество, нежели научный визит. Дарвин летом отдыхал в поместье своей сестры в Доркинге, но де Фриз выследил его и там. Тощий, напряженный и вспыльчивый, со взглядом пронзительным, как у Распутина, и бородой, способной соревноваться с дарвиновской, де Фриз внешне походил на молодую версию своего кумира. Кроме того, у него было дарвиновское упорство. Встреча, должно быть, оказалась изматывающей: всего через два часа Дарвин вынужден был извиниться и пойти отдохнуть. Но де Фриз покинул Англию другим человеком. Короткой беседы хватило, чтобы Дарвин вмонтировал шлюз в его стремительный разум, навсегда изменив направление мыслей. Вернувшись в Амстердам, де Фриз резко оборвал свои исследования, посвященные движению усиков растений, и погрузился в разгадывание тайн наследственности.
К концу XIX столетия проблема наследственности обрела почти мистическую ауру притягательности – как Великая теорема Ферма́, только в биологии. Как и Ферма – чудаковатый французский математик, который заинтриговал всех замечанием, что нашел «изумительное доказательство» своей теоремы[175], но не смог его записать из-за «слишком узких полей», – Дарвин мимоходом объявил, что разгадал тайну наследственности, но так и не опубликовал свое открытие. «В другой работе, если время и здоровье позволят[176], я буду говорить об изменчивости организованных существ в естественном состоянии»[177], – написал он в 1868 году.
Дарвин осознавал, насколько высокую ставку он делает. Теория наследственности имела критическое значение для теории эволюции: без механизмов возникновения новых вариантов признаков и стабильной передачи их следующим поколениям живые организмы не могли бы эволюционировать. Но прошло 10 лет, а Дарвин так и не опубликовал обещанную книгу о природе изменчивости. А в 1882 году, всего через четыре года[178] после визита де Фриза, Дарвин умер, и новое поколение биологов зарылось в его труды в поисках ключей к недостающей теории.
Де Фриз тоже штудировал книги Дарвина и ухватился за теорию пангенезиса, согласно которой «частицы информации» со всего тела каким-то образом скапливаются и распределяются в сперматозоидах и яйцеклетках. Но идея, что сообщения от клеток поступают в сперму и объединяются там в руководство по построению организма, казалась совсем уж спекулятивной – как если бы сперма пыталась писать Книгу Человека, составляя ее из телеграмм.
Против пангенезиса и геммул накапливались и экспериментальные свидетельства. В 1883 году немецкий зоолог и эмбриолог Август Вейсман[179] с беспощадной решимостью провел эксперимент, прицельно атакующий дарвиновскую теорию геммул как основы наследственности. Вейсман отреза́л хвосты пяти поколениям мышей и скрещивал бесхвостых животных между собой, чтобы проверить, будет ли потомство тоже бесхвостым. Но из поколения в поколение ничего не менялось, мыши упорно рождались с полноценными хвостами. Если бы геммулы существовали, у грызунов с хирургически удаленными хвостами были бы бесхвостые дети. В общей сложности Вейсман получил 901 потомка, но все они родились абсолютно нормальными, с хвостами ничуть не короче обычных; истребить этот «наследственный порок» (во всяком случае, «наследственный хвост») было невозможно. Каким бы жутким этот эксперимент ни был, он показал, что Дарвин и Ламарк ошибались.
Вейсман предложил радикальную альтернативу: быть может, наследственная информация содержится исключительно в сперматозоидах и яйцеклетках, а механизма прямого переноса приобретенных признаков в половые клетки не существует? Как бы старательно предок жирафа ни вытягивал шею, эта информация не могла попасть в его наследственный материал, который Вейсман назвал зародышевой плазмой[180]. Он утверждал, что только с ее помощью один организм может породить другой. И в самом деле, всю эволюцию можно представить как вертикальный перенос зародышевой плазмы от одного поколения к другому: для курицы яйцо – единственный способ передать информацию другой курице.
Вопросом о материальной природе зародышевой плазмы задался де Фриз. Подобна ли она краске, то есть может ли смешиваться и разбавляться? Или информация в ней дискретна и упакована порциями, каждая из которых – цельное, неразрывное сообщение? Де Фризу пока не попадалась статья Менделя. Но, подобно Менделю, ученый принялся обыскивать окрестности Амстердама в поисках необычных вариантов растений. В его гербарии оказался не только горох, но и огромное множество других растений с перекрученными стеблями или раздвоенными листьями, с цветками в крапинку или с ворсистыми пыльниками, с семенами в форме летучей мыши – набралась целая коллекция монстров. Скрещивая странные растения с нормальными, де Фриз вслед за Менделем обнаружил, что варианты признаков не растворяются, а в дискретной и независимой форме сохраняются в поколениях. Де Фриз понял, что у каждого растения есть набор признаков: окраска цветков, форма листьев, текстура семян – и каждый из этих признаков кодируется независимой, дискретной порцией информации, которая передается от поколения к поколению.
Но де Фризу не хватало ключевого озарения Менделя – того «луча» математической аргументации, который так ярко осветил эксперименты с гибридами гороха в 1865 году. Из собственных опытов с растительными гибридами де Фриз с трудом вывел только то, что изменчивые признаки вроде высоты стебля кодируются неделимыми частицами информации. Но сколько частиц нужно, чтобы закодировать один такой признак? Одна? Сто? Тысяча?
В 1880-х де Фриз, все еще не знакомый с работой Менделя, стоял на пороге количественного осмысления своих экспериментов с растениями. В эпохальной статье 1897 года, озаглавленной «Наследственные уродства» (Hereditary Monstrosities)[181], он проанализировал свои данные и заключил, что каждый признак обусловлен единичной частицей информации. Гибрид наследует две такие частицы: одну – от спермия, другую – от яйцеклетки. Затем в целости и сохранности эти частицы передаются в составе половых клеток следующему поколению. Ничто не смешивается. Не теряется ни капли информации. Де Фриз назвал такие частицы пангенами[182]. Это название противоречило собственному происхождению: хотя ученый систематически опровергал дарвиновскую теорию пангенезиса, таким образом он отдал дань уважения своему наставнику. Весной 1900 года де Фризу, с головой погруженному в работу с гибридными растениями, друг прислал копию старой статьи из недр своей библиотеки. «Я знаю, ты изучаешь гибриды[183], – писал друг, – так что, возможно, приложенный к этому письму оттиск статьи 1865 года за авторством некоего Менделя <…> все еще представляет для тебя интерес».
Легко вообразить, как серым мартовским утром де Фриз в своем амстердамском кабинете развернул этот оттиск и пробежал глазами первый абзац. От мощного дежавю он должен был ощутить в позвоночнике типичный холодок: «некий Мендель» совершенно точно опередил де Фриза на три с лишним десятилетия. В статье Менделя ученый нашел ответ на свой вопрос, идеальное подтверждение результатов собственных экспериментов – и серьезный вызов их научной новизне. Ему будто бы выпало вновь пережить старую сагу о Дарвине и Уоллесе: открытие, которое он надеялся объявить своим, в действительности уже было сделано кем-то другим. В панике де Фриз быстро расправился со своей статьей о гибридах растений, тщательно избегая любых упоминаний работы Менделя, и опубликовал ее в марте 1900 года. Быть может, мир уже забыл «некоего Менделя» и его эксперименты с гибридами гороха в каком-то Брно. «Скромность – это добродетель[184], – напишет де Фриз позже, – но без нее можно продвинуться дальше».
Хуго де Фриз не был единственным, кто самостоятельно пришел к менделевской идее независимых и неделимых наследственных инструкций. В тот же год, когда он опубликовал свое монументальное исследование[185] растительных вариантов, вышла статья тюбингенского ботаника Карла Корренса об эксперименте с гибридами гороха и кукурузы, где в точности воспроизводились результаты Менделя. По иронии судьбы Корренс учился у Негели в Мюнхене. Но Негели не соизволил рассказать Корренсу о куче посвященных гороховым гибридам писем от «некоего Менделя», чудака-дилетанта.
В своих экспериментальных садах в Мюнхене и Тюбингене, расположенных всего в 650 км от брненского аббатства, Корренс кропотливо скрещивал высокие растения с низкими, а полученные гибриды – между собой, не подозревая, что лишь методично повторяет эксперименты Менделя. Завершив свои исследования и начав готовить статью к публикации, он решил поискать в библиотеке какие-нибудь работы научных предшественников. Там-то Корренс и наткнулся на погребенную в местечковом журнале статью Менделя.
В Вене – в том самом городе, где Мендель в 1856 году провалил экзамен по ботанике, – переоткрыл его законы другой молодой ботаник, Эрих Чермак-Зейзенегг[186]. Чермак учился в университетах Галле и Гента и работал с гибридами гороха. Он тоже заметил, что наследственные признаки передаются между поколениями гибридов независимо, по отдельности, как частицы. Самый молодой из трех ученых, Чермак сначала узнал о двух параллельных исследованиях, в точности подтверждающих его результаты, а уже потом вновь погрузился в научную литературу и нашел работу Менделя. У него, вероятно, тоже бежал холодок по спине во время чтения первых строк. «Тогда я тоже еще верил, что открыл что-то новое»[187], – позже писал Чермак с плохо скрываемыми завистью и унынием.
Если открытие переоткрыли единожды – это подтверждение чьей-то научной прозорливости. Если трижды – это уже скандал. За каких-то три месяца в 1900 году вышли три статьи, повторявших работу Менделя. Они подтверждали беспросветную близорукость биологов, игнорировавших его исследования почти 40 лет. Даже де Фриз, «забывший» упомянуть Менделя в своей первой статье, был вынужден признать его вклад. Той же весной, вскоре после выхода статьи де Фриза, Карл Корренс предположил, что автор умышленно присвоил труд Менделя, а значит, его работа попахивает плагиатом (как ерничал Корренс, «по странному совпадению»[188] де Фриз в свою статью привнес даже «лексикон Дарвина»). И де Фриз сдался. В следующей версии анализа растительных гибридов он уже с энтузиазмом упоминал Менделя и признавался, что лишь «развил» его более ранние наработки.
На самом же деле де Фриз экспериментально продвинулся дальше Менделя. Пусть тот и опередил его в открытии единиц наследственности, но де Фриза по мере погружения в проблему связи наследственности и эволюции все больше занимала мысль, когда-то озадачившая и Менделя: как возникают новые варианты признаков? Что за сила делает растения гороха высокими или низкими, а его цветы – пурпурными или белыми?
И вновь ответ таился в саду. В очередной раз скитаясь по сельской местности в поисках интересных образцов, де Фриз наткнулся на громадную куртину дикой энотеры[189], которая быстро отвоевывала пространство у соседних растений. История снова проявила чувство юмора: этот вид энотеры, как позже выяснит де Фриз, был назван в честь Ламарка – Oenothera lamarckiana[190]. Де Фриз собрал в тех зарослях 50 тысяч семян и посеял их у себя. В следующие годы, когда эта агрессивная энотера хорошенько размножилась, де Фриз насчитал 800 самопроизвольно возникших новых вариантов – растений с гигантскими листьями, ворсистыми стеблями, цветами необычной формы. Природа спонтанно породила редких уродцев – именно этот механизм, по мнению Дарвина, должен обеспечивать первый этап эволюции. Вместо дарвиновских «спортов» де Фриз выбрал для таких редких форм более солидное название – мутанты[191] (от латинского «изменяться»)[192].
Де Фриз быстро осознал важность своих наблюдений: эти мутанты должны были играть роль недостающих фрагментов эволюционной мозаики Дарвина. Действительно, если совместить самопроизвольное появление мутантов – скажем, энотеры с гигантскими листьями – с естественным отбором, это автоматически приведет в движение дарвиновский вечный двигатель. За счет мутаций в природе возникают новые варианты: длинношеие антилопы, короткоклювые вьюрки, растения с гигантскими листьями. Такие формы спонтанно появляются среди множества нормальных особей (в отличие от Ламарка, де Фриз решил, что мутанты формируются не целенаправленно, а случайным образом). Вариативные признаки наследуются, то есть передаются в виде дискретных инструкций, содержащихся в половых клетках. Животные борются за выживание, и самые приспособленные варианты – то есть самые полезные мутации – последовательно отбираются. Потомство выживших наследует эти удачные мутации и формирует новые виды, тем самым направляя эволюцию. Иными словами, естественный отбор работает не с организмами, а с их единицами наследственности. В курице де Фриз в конце концов увидел лишь способ яйца создать яйцо получше.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
«Верное установление законов наследственности»: Bateson W. Problems of Heredity as a Subject for Horticultural Investigation // A Century of Mendelism in Human Genetics / M. Keynes, A. W. F. Edwards, R. Peel (eds). Boca Raton, FL: CRC Press, 2004.
2
Перевод эпиграфа начиная со второго предложения взят из: Мураками Х. 1Q84. Книга 1. Апрель – июнь / пер. Д. В. Коваленина. М.: Эксмо, 2020. – Прим. ред.
3
Гомер. Одиссея / пер. В. В. Вересаева. М.: ГИХЛ, 1953. – Здесь и далее прим. ред., если не указано иное.
4
«В вас не погибла, я вижу»: Eliot C. W. The Harvard Classics: The Odyssey of Homer. Danbury, CT: Grolier Enterprises, 1982.
5
Перевод: isabella-lea.livejournal.com/421951.html. Если же в ущерб художественности приблизить перевод к оригиналу, заодно вписав его в генетический контекст этой книги, выйдет примерно так:
Уродуют тебя они, отец и мать.
И хоть их цели могут быть благими,
В тебя свой хлам они начнут пихать
Плюс наградят изъянами другими.
Перевод: http://panov-a-w.ru/stihi/larkin-epitafija.html.6
«Тебя испортят папа с мамой»: Larkin P. High Windows. NY: Farrar, Straus and Giroux, 1974.
7
Конфабуляции (психиатр.) – симптом расстройства памяти, выражающийся в ложных воспоминаниях; в классическом понимании термина – рассказы («воспоминания») о вымышленных событиях как о реальных. Чаще в понятие «конфабуляции» включают и псевдореминисценции – смещенные во времени воспоминания о реальных событиях. Вымыслы и искаженные воспоминания часто смешиваются.
8
В 1947 году британское колониальное владение Британская Индия получило независимость и разделилось на два доминиона – Индийский Союз и Пакистан. Раздел сопровождался массовыми миграциями населения и кровопролитием.
9
Восточная Бенгалия вошла в состав Пакистана, а в 1971 году и вовсе стала отдельным государством – Бангладеш. Многие индусы после раздела предпочли перебраться из мусульманского Пакистана на конфессионально «родную» территорию. Мусульмане мигрировали в противоположном направлении.
10
Столкновения начались в «День прямых действий», который лидер Всеиндийской мусульманской лиги назначил на 16 августа 1946 года. В преддверии получения Британской Индией независимости лига безуспешно настаивала на отделении от будущего государства мусульманских территорий, то есть на создании Пакистана. В «День прямых действий» лига проводила по всей стране мусульманские митинги, в Калькутте же из-за особых политических и социальных обстоятельств они вылились в погромы домов, лавок и храмов индусов. Бездействие полиции способствовало эскалации насилия, и через двое суток уже индусы атаковали мусульман. Город был завален разлагающимися телами и мусором, вагоны поездов набивались до отказа беженцами. Лишь 22 августа, после ввода в Калькутту нескольких войсковых батальонов, почти недельная резня прекратилась. Однако религиозно-общинные столкновения охватили соседние территории и стихли лишь к октябрю. Таким образом, «День прямых действий» ознаменовал начало Великой калькуттской резни, или Недели длинных ножей, которая предрешила судьбу получающего независимость государства: стало очевидным, что его разделу быть (Паршев А. П., Степаков В. Н. Не там и не тогда. Когда началась и где закончилась Вторая мировая? М.: Алгоритм, 2015; Юрлов Ф. Н., Юрлова Е. С. История Индии. XX век. М.: Институт востоковедения РАН, 2010; Википедия, англ.).
11
Сиблинги, или сибсы (генет.) – дети одних и тех же родителей; термин позволяет не конкретизировать пол и избегать длинных формулировок с «братьями» и «сестрами».
12
В 2009 году шведские ученые: Lichtenstein P., Yip B. H., Björk C. et al. Common genetic determinants of schizophrenia and bipolar disorder in Swedish families: a population-based study. Lancet. 2009; 373 (9659): 234–239.
13
В 2012 году вышло еще несколько работ: Aukes M. F., Laan W., Termorshuizen F. et al. Familial clustering of schizophrenia, bipolar disorder, and major depressive disorder. Genetics in Medicine. 2012; 3 (14): 338–341.
14
Три взрывных научных идеи: Bauer M. W. Atoms, Bytes and Genes: Public Resistance and Techno-Scientific Responses. NY: Routledge, 2015.
15
Если бит – минимальная единица измерения информации (0/1; да/нет), то байт, в типичном случае состоящий из 8 битов, – минимальная единица хранения и обработки цифровой информации.
16
Под битом (байтом) я подразумеваю довольно сложное понятие, которое не исчерпывается определением стандартной единицы компьютерной архитектуры. Я опираюсь на более общую и сложнее постижимую концепцию, согласно которой вся сложная информация материального мира может быть описана или закодирована в виде суммы дискретных частей, содержание которых ограничивается лишь состояниями «вкл/выкл» («да/нет»). Полнее эта концепция и ее влияние на естественные науки и философию освещается в книге Джеймса Глика (Глик Дж. Информация. История. Теория. Поток. М.: АСТ: Corpus, 2016). Выразительнее всего эту теорию представил физик Джон Уилер в 1990-х: «Каждая частица, каждое силовое поле, даже сам пространственно-временной континуум формирует свою функцию, свой смысл и, в конечном счете, само свое существование <…> из ответов на вопросы вида „да или нет“, из бинарных альтернатив, из битов; <…> кратко говоря, все физические сущности имеют информационно-теоретическое происхождение». Бит (или байт) – понятие, придуманное человеком, но определяющая его теория цифровой информации представляет собой красивый закон природы. – Прим. автора.
17
«В сумме частей – лишь части»: Vendler H. Wallace Stevens: Words Chosen out of Desire. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984.
18
«Весь органический мир»: de Vries H. Intracellular Pangenesis: Including a Paper on Fertilization and Hybridization. Chicago: Open Court, 1910.
19
«Алхимия не могла стать химией»: Gilbert A. W. The Science of Genetics. Journal of Heredity. 1914; 6 (5): 239.
20
«То, что фундаментальные аспекты наследственности»: Morgan T. H. The Physical Basis of Heredity. Philadelphia: J. B. Lippincott, 1919.
21
У бактерий хромосомы бывают кольцевыми. – Прим. автора.
22
По данным 2021 года, гаплоидный набор человеческих хромосом несет примерно 20 тысяч генов, кодирующих белки, и не меньше генов РНК, не транслирующихся в белки.
23
«поиск вечной молодости»: Lyon J., Gorner P. Altered Fates: Gene Therapy and the Retooling of Human Life. NY: W. W. Norton, 1996.
24
Картирование – определение местоположения гена в геноме. – Прим. перев.
25
Некоторые темы – например, генетически модифицированные организмы (ГМО), будущее генетических патентов, генетика в основе изобретения или биосинтеза лекарств, создание генетически новых видов – заслуживают отдельных книг. Объем этой, увы, не позволяет осветить их в полной мере. – Прим. автора.
26
«Недостающая наука о наследственности»: Wells H. G. Mankind in the Making. Leipzig: Tauchnitz, 1903.
27
Уайльд О. Как важно быть серьезным / пер. И. Кашкина // Собрание сочинений в трех томах. М.: Терра, 2000. – Прим. перев.
28
«Джек. Да, но ты сам сказал»: Wilde O. the Importance of Being Earnest. NY: Dover Publications, 1990.
29
«Изучающие наследственность отлично»: Chesterton G. K. Eugenics and Other Evils. London: Cassell, 1922.
30
Старобрненский монастырь возвели специально для монахинь-цистерцианок. Они провели в его стенах почти пять столетий, пока в 1782 году общину не упразднили (с передачей имущества государству) в рамках реформ императора Священной Римской империи Иосифа II. Реформы были направлены на полное подчинение Церкви государству. Священники переходили в разряд госслужащих, а потому были обязаны выполнять общественно полезные светские функции. Монастыри, не выбравшие «профориентацию», подлежали упразднению. Августинцев спасла научно-образовательная деятельность.
31
августинцы, к счастью, не видели проблемы: Matthews G. B. The Augustinian Tradition. Berkeley: University of California Press, 1999.
32
В октябре 1843 года к общине присоединился: Подробности о жизни Менделя в монастыре августинцев взяты из разных источников, включая Mendel G., Corcos A. F., Monaghan F. V. Gregor Mendel’s Experiments on Plant Hybrids: A Guided Study. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1993; Edelson E. Gregor Mendel: And the Roots of Genetics. NY: Oxford University Press, 1999; Henig R. M. The Monk in the Garden: The Lost and Found Genius of Gregor Mendel, the Father of Genetics. Boston: Houghton Mifflin, 2000.
33
Потрясения 1848 года: Berenson E. Populist Religion and Left-Wing Politics in France, 1830–1852. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1984.
34
«Скованный неодолимой робостью»: Henig R. M. The Monk in the Garden, 37.
35
он предложил свою кандидатуру на должность учителя математики: Там же, 38.
36
В конце весны 1850-го воодушевленный Мендель: Sootin H. Gregor Mendel: Father of the Science of Genetics. NY: Random House Books for Young Readers, 1959.