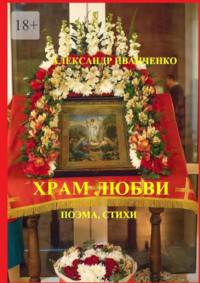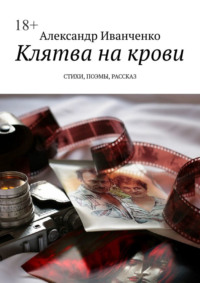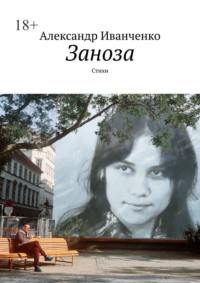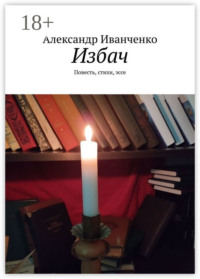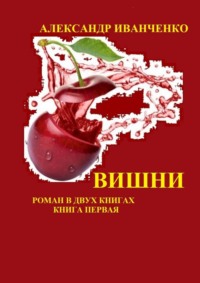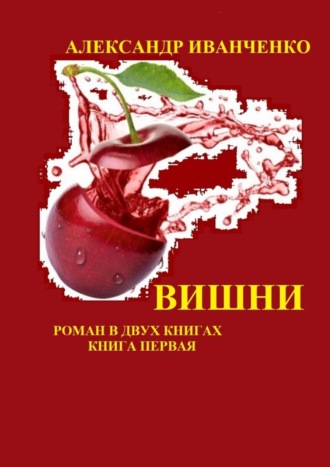
Полная версия
Вишни. Роман в двух книгах. Книга первая
Леонтий помялся немного у двери, но не стал противоречить. «Группа сопровождения» ожидала у брички. В глазах обоих пацанов был один и тот же вопрос: «Ну, что? Родила?».
– Коля, Стёпа! – опустив руку в карман и достав монету, протянул сыну, добавив, – забежите в лавку, купите себе монпансье. Я чуть позже приеду. Ступайте.
Серафима была права, Наталью отпустило, и она даже уснула. Видя, что пациентка отдыхает, деревенский акушер вышла во двор и увидев, осаждающего бричку напротив двора Леонтия, без слов помахала обеими руками, типа «проваливай». Этот молчаливый жест был убедительнее слов, и Леонтий, отвязав вожжи, медленно развернув «экипаж», конным шагом поехал, в нетерпеливых раздумьях домой.
Наутро, солнце не успело зазолотить купол церкви, коснувшись креста на вершине, а всю ночь не спавший, в ожидании стать папашей в третий раз, Леон, курил на бревне у калитки повитухи. Лошадка, дремля, жевала свежее сено, которое хозяин заботливо поставил перед ней.
И как только церковный колокол начал созывать прихожан слободы на праздничное богослужение, то даже сквозь колокольный звон редкие прихожане, подходящие к церкви, смогли услышать пронзительный крик новорождённого малыша. Этот человек появился на белый свет и желал, чтобы все об этом узнали. Он, в принципе, ещё никто, у него ещё нет имени, он ещё и не раб Божий, но он уже живет, он не видит, но чувствует грудь матери, которая прижимает его, после того, как повитуха сделало свое дело. Он не видит и не знает ещё, как мечется во дворе его отец и лишь, когда Серафима, выйдя из хаты, с улыбкой сказала:
– Поздравляю, отец! У тебя казак родился!
Леонтий, замешкался, не зная что делать, заметался, подбежал к Серафиме, обнял, прижав так крепко, что у пожилой женщины косточки затрещали, отпустил её, подпрыгнул вверх, как пацан и понёсся к бричке, за гостинцами, которыми, по традиции хотел отблагодарить повитуху за такое радостное известие.
И теперь, весь честной народ, собравшийся у церкви на праздничную литургию, после того, как колокольный звон, пройдясь эхом между западной и восточной ветвями кряжа вдоль пойменной долина реки Тузлов, стих, услышал схожий на рык, но не грозный а радостный крик души Леонтия – «С-ы-ы-н-н!!!! Ка-а-з-а-а-к-к!!! Благодарю Тебя, Бо-о-же!».
Крепкого и здорового сына Леонтия и Натальи назвали Петром. «Пётр Великий!» – так гордо объявлял Леонтий односельчанам, когда те интересовались, как малыша назвали.
Через полгода, в начале декабря в семье Куценко был также повод пригласить кумовьёв Домашенко по случаю рождения уже второй дочери, после трёх старших сынов. И придерживаясь рекомендациям священника, девочке дали церковное, а заодно и земное имя, Варвара, так как приближался праздник Святой Варвары и она, как считалось и будет Ангелом-хранителем своей земной тёзки.
В негласном соревнование двух семей, не раз породнившихся взаимообменом крещений детей, победил Максим Куценко, в семье которого было шестеро детей: трое старших сыновей и меньших дочерей, самая младшая, Наталья, родилась через три года после Вари, в 1907 году. А Домашенко остановись в вопросе продолжения рода на сыне, родившемся через два года после Петра, в 1906 году, которого назвали Сергеем. А старшую от Петра и единственную сестру назвали Акулиной.
Сказать, что жизнь в слободе, как и по всей крестьянской России была тяжёлой – ничего не сказать. Людей ждали и голод, и лишения, и редко в какой семье все дети выживали до взрослого возраста. Не голод, так болезни косили народ. Неизвестно, что стало основной причиной того, что обе семьи породнившихся, изначально землячеством их предков, а потом и кумовством, смогли вырастить всех детей, помогая друг другу во всём и делясь последним куском хлеба.
Как-то, засидевшись по поводу за столом и выпив крепкой горилки, кумовья заговорили за будущее детей. Тогда Максим и предложил, обращаясь к Леонтию, положив ему руку на плечо:
– Лёва! У тебя три парня и девица, скоро будет на выдане, а у меня три старших сына уже парубки. Вот пусть твоя Акулина любого выбирает. Сам знаешь, что парубки, как на подбор, казаки. Что? А после мои девки «дозреют», чем не чета твоим парубкам, а? Мы с тобой всю жизнь знаем друг другу, и наши батьки дружили, и деды… Чего молчишь? Гутарить не желаешь?
– Кум, да разве я что-то против имею?! Тебя силой заставляли на Марусе жениться? Нет! И меня на Наталке никто не заставлял. Сам знаешь, сколько я за нею с побитой мордой приходил, а не отрёкся и других сулили, не купился ни на что. Решат дети – совет да любовь им, а силою ни-ни, никогда.
– Та, якой же силою! Пущая общаются и дружат. А там, глядишь и слюбятся. Вот гляжу я на других парубков и девчат и понимаю – лучше наших, моих и твоих, нет и краше нет! Кум, крепкой они у нас с тобой породы, и внуки будут крепкими. Давай за это, кум, выпьем…
– Наливай!
Прошло три-четыре года и это время старший сын Леонтия женился на девушке, взяв её даже не из местных, а из хутора Почтовый Яр, что недалеко от Большекрепинской, на противоположном, правом берегу Тузлова, также расположенном под горой. И кумовья помогали семье Домашенко отделить молодых, построив им уютное «гнёздышко».
Через полгода женился и старший сын Максима, взяв в жены местную казачку. А когда, неожиданно, родителям заявил девятнадцатилетний Пётр: «Папаша, мамаша, я буду жениться. Благословите ли вы меня или как?!».
Когда оторопевшие родители всё же пришли в себя, Леонтий Михайлович спросил:
– Сын, а не рано ли ты решил жениться? Погулял бы, нагулялся бы, чтобы потом на девок не тянуло, а!? Да и девку, небось, вчера только где-то повстречал, мы и не духом и не слухом, даже бабки на майдане за тебе не «щебетали». Ты пошутил?
– Нет, батя, я серьёзно. Да вы знаете мою невесту. И хорошо знаете. Просто мы на показ не выставлялись. Не к чему нам разговоры и сплетни…
– Ну и чё ты тянешь этого, как его… быка за вымя…
– Батя, вы хотели сказать «кота за яй…
– Цыц! Рано батю поучать. Сам знаю, как говорят. Сам знаю, что быка за рога тянут, а кота… туфу, отца взялся учить, сопля… Гляди, чтобы я тебе или, что ещё хуже, если кто-то не прищемит их, а оторвёт. Ты долго будешь тянуть? Или говори или проваливай, не зли!
– Батя, успокойтесь! Это Варя, Варя Куценко.
Леонтий сначала изобразил на лице мину, а потом она стала меняться и превратилась в добрую улыбку. Он подошёл к столу и с облегчением, не сел, а грохнулся на табурет.
– Фу, ты! Ох и заставил волноваться ты меня… паршивец! Низя же так… Ну, это другое дело. Хотя… Ну её-то в самый раз, девки раньше зреют, а ты?
– Батя, может померяемся с тобой силушкой?
– Шо? Я тебе сейчас покажу «с тобой», – Леонтий вскочил, как ошпаренный, – что женилка выросла, паршивец?!
– Батя, простите! Я с горяча… Батя! Не велите казнить, велите миловать! – умышленно изменил известное выражение, обращаясь к отцу на «вы».
Отец размяк, плавно опустился на табурет. Достал кисет, сложил цигарку, предложил Петру и после того, как тот отказался, закурил сам. Сделал несколько глубоких затяжек, комнату заволокло дымом. Прищурив глаза, толи от дыма, толи хотел показать презрение к дерзости сына, потом пригласил знаком Петру присесть напротив и, выпустив большой клуб дыма так, что его собеседника видно не стало, а его месторасположение можно было определить только по кашлю и засмеявшись заговорил.
– Жених мне нашёлся. Ты от пары рюмок ползать будешь, да и дыма не переносишь. Вот, если бы тебе, упаси. Господи, пришлось «отведать» газовую атаку германцев в Мировую, ты бы от маво самосада не кашлял. А знаешь, «жениться – не напасть, лишь бы женатым не пропасть». Мал ты ещё. Ну, ладно, кум будет рад, так думаю. Так, что посылать сватов? – глянув на сына и увидев растерянное лицо Петра с кивком головы, закончил, – добре, сын! Будь, по-твоему. Но упаси тебя Господь, если… Мне позор не нужон. Мать, а мать, ты где? Слышишь, что наш паршивец учудил? На Варьке жениться собрался.
Петр оглянулся на вошедшую в комнату Наталью и увидев в её глазах молчаливое согласие, вновь пристально посмотрев в упор на уже уверенный взгляд Петра, хлопнул ладонью по столу, произнеся:
– Решено!
Как только закончилась нелегкая пора жатвы 1923 года, после сопутствующих такому важному событию хлопот, в сентябре Пётр и Варвара сыграли свадьбу. Она была сравнительно скромной на угощения, но богатой на веселья и песни, которые эхом разносились вовсю и на всё, ещё теплую и тихую сентябрьскую ночь вдоль по каньону между горными хребтами Донецкого кряжа, где в реке Тузлов плескалась, нагулявшая за лето жир, рыба и рассекали гладь реки, ставшие на крыло стаи уток, ломая волной отражение на водной глади растущий лунный диск луны, улыбающейся тому, как люди умеют пить за здравие, за совет и любовь, петь казачьи, русские народные и украинские песни, до самого утра и перекрикивая первых слободских петухов.
*** *** *** ***
Часть первая
Примиусье

I
Василий мало чем отличался от своих сверстников, был таким же шустрым, пронырливым, непоседливым пацаном. Конечно, шкодливые дела, нет-нет да и имели место случаться, как и у большинства деревенских пацанов, вокруг которых не парки и театры, музеи и исторические достопримечательности, а вольные просторы южных районов России, именуемым Приазовьем и более точным, с привязкой к местности, Примиусьем, по названию небольшой, строптивой речки Миус. И, если кто-то похвалится, что в детстве был мальчиком-паинькой, дайте мне камень – я первым в него брошу. Я таких не знаю, хотя, как говорят, всяко бывает.
Одно выделяло Васю и очень сильно от своих сверстников. Он не был похож на своих сверстников и в свои подростковые пятнадцать лет с небольшим «хвостиком» выглядел, едва-ли не 10-летним малым. Но это вовсе не значило, что Вася был «мальчиком для битья». Среди сверстников он пользовался заслуженным уважением. Если случись какая заваруха и друзья из его окружения спасуют, он мог сам двинуться на главаря-верзилу, приведшего свою толпу отвоёвывать новую территорию, на которой они собирались провозгласить свои правила и законы.
А в обычной, дворовой жизни, был Василёк, как его любили называть сёстры, старшая семнадцатилетняя Лида, девушка стройная с длинной плотной косой и гордой осанкой и младшая тринадцатилетняя смугляночка Маша, ростом «с ноготок», но породой пошла, как и сам брат, в отцовский род, обычным незадиристым, даже очень добродушным пареньком.
Лида нравилась парням взрослым и круг её знакомых и общения, конечно же, отличался от того, в котором «варился» Вася и сестрёнка Маша. Но брат успевал опекать обеих и ревностно следил, чтобы, упаси, Бог, кто-то не обидел ни старшую, ни меньшую сестренку. Всегда был готов за них драться до крови и больше, если потребовалось бы.
Вася окончил успешно семилетку и раздумывал, в какое ремесленное училище ему поступить. А пока ещё было время просто нагуляться от души, на улице лето и это прекрасно, лучшей поры для подростков не придумаешь.
– Василий Петрович, ты куда лыжи навострил? Не забудь хозяйство накормить. Кроликам корма наготовь, я уж, так и быть тут управлюсь. А-то знаю я тебя, на Миус замоешься с братвой и до посинения будете цыпки на ногах замачивать, – серьёзно, но с улыбкой дал наказ отец, коренастый плотного телосложения мужчина, возрастом под сороковник.
– Ладно, па! У меня на речке резачок прихован, с голоду не помрут, накошу сена, – также с улыбкой, на ходу отрапортовал Вася, выбегая на улицу, где его уже ожидала ватага из пятерых пацанов.
Петр Леонтьевич, отец семейства, был сапожником, но не только мог пошить или починить обувку, любая работа в его руках спорилась и за что не брался, все делал с огоньком и добротно. Ввиду того, что на дочек отец особых планов не строил, то на сына Василия возлагал надежды, что, окончив в Таганроге ремесленное училище, станет ему в семье помощником и опорой на старости лет, хоть ещё и в очень далёком будущем. А-то, что это будущее будет светлым, тогда практически никто не сомневался. Трудовой энтузиазм советского народа был на высоком уровне и основы социалистического общества были уже заложены.
Хоть город Таганрог располагался всего в 50 километрах от Матвеева Кургана, в котором и проживало все семейство Петра Леонтьевича, многие выпускники школ-семилеток устремлялись в город, выгодно отличающийся от других близким расположением и не только. В городе открывались перспективы трудоустройства и получения рабочей профессии. Была и возможность поступить в техникумы, в одно из 11 ремесленных училищ или ФЗУ – фабрично-заводские ученичества, обучающих рабочих для своих производств. Были, конечно, и институты, для поступления в которые необходимо было окончить десятилетку.
Но и тут была одна заковырка. С 1 сентября 1940 года в 8, 9, и 10 классах средних школ и высших учебных заведениях, Совет Народных Комиссаров СССР, установил плату за обучение, для частичной компенсации государственных затрат на эти цели. Для периферийных городов страны и сельских школ необходимо было за ученика платить 150 рублей в год. Такую же сумму необходимо было вносить за обучение и учащимся техникумов.
Обучающиеся же в высших учебных заведениях в столице платили 400 рублей, а в других городах СССР – 300 рублей в год.
Конечно же, для большого количества родителей, желающих видеть детей образованными, стоял сложный вопрос – как быть. А когда в семье несколько детей, то и подавно. Оттого, Петр Леонтьевич, хоть и не делился со своей супругой Варварой о своих мыслях, но всё же, всячески предпринимал действия на то, чтобы направить сына в ремесленное училище и хорошо бы было, если бы он набрался ремеслу в ФЗУ при Таганрогском кожевенном заводе.
Во-первых, это его профессия, которая помогала семье выжить в самые тяжелые голодные годы. Во-вторых, быть сапожником более престижно, по мнению главы семьи, чем грязные профессии на производствах города: на металлургическом заводе, заводе «Красный Котельщик» или том же машиностроительном заводе им. В. М. Молотова. Кстати, в 40-е годы Таганрог стал городом самой развитой индустрии и машиностроения в области, а по некоторым производствам и по всему Союзу.
Ну и конечно, по-отцовски ему было жалко сына, когда он представлял его, ростом «метр с кепкой» где-либо на заводе у станка. Другое дело, когда работать придётся не молотом у наковальни, не крутить гайки и стоять у горячих мартенов на металлургическом заводе, а стучать легким сапожным молотком, сапожным ножом и шилом.
Но сейчас им не хотелось думать о будущей учёбе, хотелось просто насладиться началом лето и всеми прелестями, которые оно перед подростками раскрывало. Хотелось беззаботно пропадать на речке, катаясь на тарзанке, загорая и вместе с тем мечтая о светлом будущем, строя планы и поглядывая на изменившихся, и не только в нарядах, девушек, они летом и впрямь стали краше, как ягоды малинки. Но мысли о девушках приходили чаще под вечер, когда в сугубо мужской компании, если можно таковой назвать ватагу 15—16 летних пацанов, скорее всего, юношеской, идеи, как провести нескучно вечер.
По сути дела, вечерний посёлок отличался лишь тем, что преобладающим контингентом, снующим по улицам были группы девушек и парней, среди которых умели затесаться и совсем ещё «сопляки», которые успели зарекомендовать себя чем-то таким, за что пользовались уважением старших и особым статусом, приравнивающих их не по годам, а именно по заслугам к их кругу, чаще по территориальному принципу. Ещё год-два назад, Василий был в таком статусе, а сейчас, закончив «семилетку», шагнул одновременно с этим на ступень выше в дворовой олигархии.
Более старшие парни 17—19 лет, отличались степенностью, а некоторые из них, не находя особого положения среди сверстников, пытались добиться этого же особого статуса главаря или заводили в группировках как раз тех же 15—16 – летних подростков. Но даже здесь, если они не могли чем-то отличиться, что поднимало их авторитет, так и продолжали находиться в рядовых членах неучтённых никем, сформированных стихийно по тем же территориальным принципам организованным сообществам одногодок.
Вася не был вожаком и во многом это не давал ему сделать его уж слишком малый рост. Не солидно было представлять группировку такому «шкету», с миловидным, не отличающимся мужественными чертами, лицом, хоть и имел «стальные» мышцы и обладал примерной выдержкой и выносливостью. Но в определенных случаях мог замещать вожака Мишку Протасова, по прозвищу Картавый, из-за речевой особенности. Мишка, семнадцатилетний рослый, с крепким телосложением, «кавалерийским» искривлением ног, с походкой в раскачку, был уже почти два года, как вожаком, единогласным голосованием заслуживший этот статус. И это уважение он заслужил тогда, когда его и неизменного кореша, Витьку Нецветая пытались «прессануть» колхозные парни, их могли называть «базарными» по названию улицы их кутка или ещё иногда звали «типографские», также по месту проживания, за железнодорожным полотном, вокруг типографии, а вернее между рекой Миус и железнодорожным полотном на северо-западе села. Мало того, что он не спасовал сам и не дал в обиду товарища, ещё сумел дать достойный отпор и обратить группу из пяти человек изначально на попятную, а затем и в спасение бегством.
Да и не только вожак Мишка мог похвастать «боевыми» заслугами, крещение приняли в стычках и показали себя все парни, каждый доказал, что по праву имеет право «центровать», т.е. быть хозяином центра села. Вообще парням из центра расслабляться было некогда, многие питали неизменный интерес потеснить «центровых» и установить свои права и порядки, как минимум иметь здесь свои интересы и привилегии.
Границы центра определялись улицами и объектами: с запада – железнодорожным полотном и вокзалом, а с востока – ул. Таганрогская; северными границами считалась ул. Октябрьская от аптеки до ул. Таганрогской, а южная граница проходила по балке, берущей своё начало от х. Соседкин и через тоннель под железной дорогой, несущей дождевые воды после дождей в Миус. За этой балкой располагался элеватор от самой железной дороги, а чуть выше бойня.
Миус, река, берущая свое начало на Донецком кряже, своенравная и вьющаяся в низовье, с многочисленными водоворотами, местами с высокими крутыми берегами, в устье выходящая на равнинные просторы Приазовья, с правобережьем, охраняемым высокими кручами кряжа, с которых открывается прекрасный вид в долину Примиусья и на саму реку Миус, с берегами, поросшими ивами, дубками, тополями и кустарником. Старики говорили, что река была в петровские времена глубокой и полноводной, когда из Таганрогского залива в реку могли входить маломерные торговые суда.
Река была также излюбленным местом нерестилища рыб ценных осетровых пород. Купцы, скупая рыбу, пользовавшуюся большим спросом даже в златоглавой столице, возили обозами рыбу, чтобы угодить изысканным вкусам московских дворян, купцов и прочей знати. В свежем виде, конечно, доставить товар за более, чем 600 вёрст, что равнялось почти 1000 км в современных мерах измерения не представлялось возможным.
Людей, занимающихся скупкой и засолкой рыбы, мяса и прочих продуктов, называли – прасалы или просолы. А вот в засоленном виде товар мог доставляться на любые расстояния и в любое время года.
Берега Миуса были заселены в основном донскими казаками, после победы русской армии и первой победы русского флота на море над турками, при блокаде Азова, по приказу Петра I, в знак благодарности и необходимости укреплять южные российские рубежи.
Летом природа вдоль миусских берегов дивная, растительность сочная и разнообразная. Молодежь собиралась группами, чаще от пяти до 10 человек и оправлялись, вдоль русла реки вверх, со стороны селения, выходя на просторы, расположенные между рекой и железнодорожным полотном на насыпи к железнодорожному мосту. Здесь располагались сады и в пору созревания фруктов, можно было поживиться сочными, часто недозревшими ягодами вишни или, позже, сливами или яблоками. Конечно, сады охранялись. Но, что могло остановить решительных и бесшабашных парней в возрасте «дай порвать»? Да ничего не останавливало. Даже отцовский ремень имел лишь временный успех в расстановке приоритетов в двух позициях с названиями «льзя» и «нельзя».
Если целью ватаги парней было желание просто искупаться и пошалить на тарзанке, то выбирали маршрут, перейдя через реку по мосту, прям в черте посёлка, напротив высокой кручи, которая по поверью легенд и баек и является тем местом, откуда и начиналось поселение. На этой круче был сооружен рукотворный курган, в котором бы захоронен казачий атаман Матвей. Отсюда и повелось название селения Матвеев Курган. Метрах в 200—300 от моста, вдоль реки направо начинались высокие крутые берега и на деревьях то тут, то там были изготовлены тарзанки, позволяющие, раскачавшись на них, нырять в глубины середины реки. Но и от берега, река резко набирала глубину и устоять на дне здесь, как в других местах, с низкими берегами, было невозможно – стягивало на глубину. Дно было здесь менее илистое, на глинистых обрывах раки устраивали «общежития», но для их отлова нужно было быть хорошим ныряльщиком. И кроме того, нужно было быть смелым малым, так как в парубковой среде гуляли байки о сомах-людоедах, живущих в глубоких ямах и норах и, якобы, если, при ловле раков, ныряльщик опускался глубоко, в надежде выдрать из норы крупного рака, мог, ощупывая дно, сунуть руку в пасть речного чудища.
Скорее всего эти байки запускали сами родители, дабы отпугнуть детей от совершения опрометчивых поступков. Хотя сомов крупных особей вылавливали и не раз в этих местах. Часто, пойманный сом, весом килограмм в 30, через неделю мог превратиться в монстра килограмм на 150. Все знают особенность рыбаков прихвастнуть. Местных рыбаков-сомятников все знали в лицо. Но они о своих «подвигах» доверяли рассказывать другим, у кого фантазия побогаче. И, если тех ловили на лжи, «рекордсмены» были не при делах.
– Васёк, ты слышал, что в наших краях обитает сом-людоед? Так вот он среди всех выбирает людишек помельче, дабы не удавиться. Так, что ты хорошо делаешь, что с нами на речку ходишь, для нас хорошо, в первую очередь. Вот, к примеру, раздобревшего на домашних харчах Вовкой Захарченко или тем же Серегой Журавлёвым, зверюга речная точно удавится, а ты ей в самый раз со своим «бараньим весом», – поднимая босыми ногами пыль с накатанной дороге вдоль реки, положив руку на плечи Васи, с умыслом очень громко, чтобы слышали все из растянувшейся ватаги парней, делал попутку зашугать товарища и похохмить заодно, разглагольствовал весельчак по прозвищу Коля Каланча, рослый, но худой парень, выглядел «подстрелышем» в брюках с заплатами и изрядно короткими штанинами.
– Каланча, ты лучше за себя переживай. Я-то успею от сомяры увернуться и под водой долго находиться могу, а вот тебя этот «людоед» может сделать на 2—3 пряди короче, а, если голодный будет, то по самое «не хочу» оттяпает. С таким росточком перестанешь головой косяки выносить, – Вася гигикал, наблюдая за тем, как Каланча багровел, заливаясь краской от злости.
– Хорош вам лаяться, оставьте такое желание на потом, когда придется нам сообща честь отстаивать и свои приоритеты, – успокоил драчунов Витя Нецветай, – судя по шуму на реке, наше стойбище уже кто-то занял. Как бы нам не пришлось сегодня «махаться».
Все притихли и, ступая по-кошачьи бесшумно, стали улавливать, доносившийся шум за излучиной реки, где и располагалось их излюбленное место на реке, с поляной, закрытой со всех сторон высокими деревьями, сооруженным, для удобного входа в воду и ныряния мостком и парой тарзанок с обеих его сторон. Когда «центровики» подошли ближе, увидели дымок на поляне и ощутили запах запечённых мидий на костре.
– Нет, ну вы видели такую наглость, – не сдерживая раздражения, высказал не напускное негодование Мишка Картавый.
Свернув к реке раньше прохода, чтобы заодно разведать правый фланг противника и выйдя на поляну, увидели вольготно расположившихся вокруг дымящегося костра «базарных». Как и подобается, «наезд» начал Мишка, при этом, все остальные начали замыкать круг вокруг непрошенных гостей, оставив для отступления лишь берег реки:
– Сельпо, вы ничего не перепутали? Забыли, что ваша территория – левый берег, а наш правый, там мы можем напомнить и показать ближайший путь. Все плавать умеете? Сейчас проверим! – голос вожака был вызывающе-уверенным.
Внезапное появление хозяев поляны на время лишило нарушителей неписанного договора дара речей, а когда начали приходить в себя, появились, сначала робкие, а потом всё увереннее протесты и даже возмущения. Пришлые, осмотревшись, поняли, что хозяев ничуть не больше, даже меньше на пару голов, чем их и, видимо у кого-то из их главарей появилась в голове дерзкая мысль отвоевать новую территорию с выгодной инфраструктурой и месторасположением и другими явными плюсами.