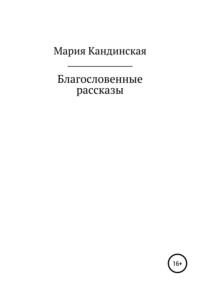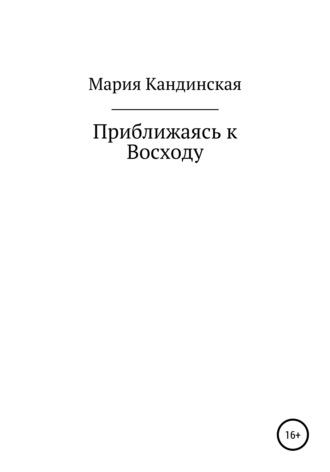
Полная версия
Приближаясь к Восходу
*
For note:
Вечер завершился, и юные велосипедисты разлетелись к себе отдыхать до завтрашнего утра. В «Подвижных садах» остались только я и Матиарт. Остался и огромный стол с остатками пиршества, и невообразимо широкая и длинная скатерть.
С моей стороны – она оказалась запачкана – я как-то спонтанно открыла палетку теней, которую мне подарила в прошлый июнь моя подруга Фрагил на летнем отдыхе, и скатерть оказалась запачканной всеми цветами радуги из этого летнего воспоминания – подарка – из радужной палетки теней. Учитель от всей души попросил меня взять домой скатерть и попытаться выстирать её в стиральной машинке (типичная просьба учителя: взять что-нибудь постирать домой – школьные шторы или скатерть). И я забрала её с собой в самых больших пакетах, чувствуя к хозяину этого всего этого странного мира привязанность, в чём-то граничащую с любовью.
*
For note:
Домой я возвратилась в семь вечера, в весенний вечер прибавившегося дня.
Хорошо, что удалось быстро поймать такси у IT-Парка (Парнап, как правило, не вылетали из границ тренировочной полосы). Руки оттягивали объёмные пакеты с остатками с праздничного угощения и десять огромных пакетов, в которые с трудом удалось вместить скатерть, и мне ещё нужно было подняться домой, на четвёртый этаж. Потому что у пятиэтажек лифт не предусмотрен. Очень хорошо помню, как в детстве, поднимаясь кручёной лестнице, с высокими ступенями, на мой, почти последний этаж, представляла, что я – смотритель маяка, который идёт к себе на работу: включать ослепительный стержневой фонарь, позволяющий кораблю обойти любую ненастную бурю.
Вот сказала: «пик-пик», – дверь домофона, и до первого этажа было всего восемь ступенек, всего-навсего дотащить эту тяжесть: дальше будет легче. Здесь, за правой дверью живёт сотрудник какой-то лаборатории из института, а слева, – какая-то странная оригинальная дамочка неопределённого возраста – то ли бухгалтер, то ли поэтесса, то ли журналистка. Ещё одна лестница из пятидесяти ступеней пройдена, и я со связкой неимоверных пакетов располагаюсь на кратковременную передышку, прямо напротив почтовых ящиков, из которых высовывались газеты, желающие рассказать свежие новости. Добавилась интересная особенность (которой не было во времена моего детства): копии картин знаменитых художников – кто-то развесил их прямо в подъезде дома, прикрепив скотчем к шероховатой стене подъезда. Я узнала одну из картин: по-моему, это была «Танцовщица» Эдгара Дега 1899 года. Кто-то в начале каждой недели менял вывешенные копии картин и это место в подъезде по своей атмосфере напоминала картинную галерею. Это было украшением, которое любили все обитатели, потому что оно вносило свежее восприятие, вдохновения; оно оживляло интерьер нашего подъезда, где всегда, испокон веков жила научная интеллигенция Новокампского Научного Центра (профессора, учёные, заведующие научных лабораторий – в эти достаточно скучные понятия до определённого времени укладывалась двоюродная бабушка Тивентии – Клаудна). И ещё – представители культуры (в это понятие до определённого времени, кажется, как директор документального кино Новокампской киностудии, укладывалась мама Тивентии?).
А наша семья в эти категории вообще не укладывалась: начиная с тех пор, как мы здесь поселились (в частности, папа уже работал в бизнес-сфере дизайна, потому что перешёл из архитектурного института, где всё тогда, вроде бы, расформировалось), до тех пор, когда мы все, вдруг, решили разъехаться.
Из окна всё также хорошо виден двор: в детстве, обувшись в «цокающие» туфельки мне очень нравилось спускаться сюда за газетами и письмами, и наблюдать, облокотившись на подоконник, выглядывать из-за горшочков с алоэ и «живым деревом», предполагать: кого я сейчас встречу. Шаткие деревянные перила остались такими же, как во время моего детства. Вот ещё поворот и ещё одна лестница из пятидесяти ступеней. Второй этаж. За этой дверью живёт дама-директор нашей школы с мужем, а эта – принадлежит одной грустной женщине. Я обнаружила, что помню её историю. Удивительно, сколько способна вместить в себя детская память! Когда мне было лет одиннадцать, я подружилась с дочкой этой женщины. Девочку звали Веита, наверное, это было уменьшительное от какого-то имени. Ей тогда было лет четырнадцать-пятнадцать. Тогда она казалась очень взрослой: она красила губы, носила короткие модные платья, и училась на индивидуальном обучении в школе, у неё было слабое здоровье. Она была немного заторможенной в общении, но очень хорошей, не злой, не насмешливой и не сплетной, и охотно составляла мне, но чаще Тивентии, компанию, она всегда соглашалась вместе погулять или сходить в магазин за пробниками косметики и духов. С ней можно было порассуждать о своих мечтах, зная, что она никому не перескажет, потому что нéкому. Это особенно важно для моей семьи, собирающейся уехать навсегда заграницу, и поэтому становящейся в это время странной и обособленной. Бабушка Клаудна поведала нам с Тивентией тогда (зачем это нужно было бабушке Клаудне – это хороший вопрос, возможно, таким образом, она проверяла на прочность нашу дружбу?) она поведала о том, что Веита, в действительности, не дочь этой женщины, а падчерица, только чтобы мы ей об этом не говорили: она считает её своей матерью. Потому что её папа после потери женился второй раз, на этой женщине, а Веита выпрыгнула из окна подъезда, то ли со второго, то ли с третьего этажа. Выжила, но с тех пор не помнила и не понимала многих вещей, и считала мачеху своей родной матерью. Потом, её папы (талантливого учёного-биолога) не стало, и она осталась вдвоём с этой грустной женщиной. Потом, я узнала, произошло что-то ещё, уже после нашего отъезда, и Веита выпрыгнула из окна ещё раз, завершив когда-то начатое. Приёмная мама Веиты сейчас жила без семьи, но с постоянно сменяющими друг друга студентами-аспирантами, которые существовали с ней на одной территории, но своей отдельной жизнью. Поэтому-то я так волновалась за Тивентию, она же знала, сколько боли подобные поступки стоят людям, которые тебя любят.
Ещё одна лестница из пятидесяти ступеней – тяжёлые пакеты я уже не тянула всем скопом, как это, обыкновенно, делают носильщики чистой бутилированной воды, а поднимала по одному. И приходилось возвращаться и поднимать многочисленные тяжёлые пакеты с распределённой по ним длинной скатертью и угощением с праздничного стола Матиарта ещё на один этаж.
Всё. Наш пятый этаж. Наша тринадцатая. Дотащила свой груз наверх! Куда я дела ключи?
Никого из своих дома не обнаружив, наскоро поужинав, я включила стиральную машину – по-моему, единственное устройство, к которому, почему-то, ровно отнеслись наши бывшие квартиранты, потому что не стали его красть. Она начала бег на месте, подпрыгивая и расплёскивая воду, стирая в своём барабане праздничную белую скатерть со следами радужной палетки теней (которыми конкретно я случайно её запачкала). Я несколько раз вытаскивала её, чтобы увидеть: есть ли эффект. Наконец, результат меня устроил, и я перевалила тяжёлую, огромную, впитавшую в себя всю возможную воду скатерть в умывальник. Почему-то, она прополоскалась, но не отжалась. Тут пришла мама от своих старых знакомых, тоже с какими-то гостинцами (вкусными подарками). И мы вместе смогли отыскать прищепки и верёвки, чтобы вывесить мой предмет тщательной стирки сушиться на балкон. Где-то посредине этого полностью захватившего меня занятия, я услышала разговор где-то с правой стороны от нас – Тивентии и её мамы. Тивентия говорила о Матиарте. Не знаю почему, но я стала слушать чужой разговор. Меня на самом деле взволновал мой заботливый учитель – художник и архитектор, инженер и инноватор.
– Матиарт Рифович! Он самый милый, мне кажется…. (она повременила) фактически я влюбилась!
– Ты считаешь, что это просто на раз-два. Тебе надо быть уверенной: он сложный и неоднозначный, талантливый и занятой, буквально фонтанирующий идеями: ему нужен соратник по жизни. Сильный. Ты сможешь стать таким? Особенно после того, что ты учинила: тебе самой нужен присмотр. И, кстати, а как же Лирний?
– Знаешь, Лирний – где-то далеко, я больше не чувствую, что он хоть секунду в день думает обо мне и не думаю, что он помнит моё имя. Хотя нет: думаю, помнит. У его новой девушки имя, похожее на моё. И только. Он не оставил в сердце ничего, кроме сожалений и несбывшихся надежд. Мне нравились его музыка, песни как DJ. Сейчас, кажется, мне не важно его пренебрежение моими чувствами. Как будто, я проехала остановку на автобусе. Нужную ли? Общих интересов у нас нет совершенно, я такая замкнутая: в десятилетнем возрасте больше полугода не разговаривала совсем – просто не хотела. Ты же помнишь, сначала все думали, что это аутизм. Потом решили, что это стресс из-за обстановки в доме: из-за двух тяжело больных лежащих с пролежнями родных людей. И мне сложно это забыть, как она ходила туда-сюда в ночной рубашке, и она часто перебирала фасоль перед тем, как её приготовить, и у неё был гель-крем для рук (до сих пор его помню) «Элегия», назывался.
А бабушка Тивентия – прабабушкина дочь и мамина мама, да? Мам, зачем ты назвала меня в честь неё, я же её полная тёзка: Тивентия Закревская.
Я понимаю, время было само по себе трудное, и каждый карабкался, как мог. Ещё, мам, я часто думаю о том, что наши бабушки забрали у тебя много жизненного времени. На тебя легла основная забота о них. Тогда не было по этому поводу совсем никакой социальной поддержки? Тогда как…. Тебе же предлагали выйти замуж, сначала один, а потом второй хороший коллега по работе….
– Знаешь…. (ответила её мама после длительного молчания). Вряд ли кто-нибудь выдержал такую обстановку в доме, да ещё длящуюся на протяжении десятилетий. Плюс ещё ты: маленькая и дёрганная, навязалась на мою жизнь. Насчёт устройства личной жизни: вот скажи, кому нужен нервный человек, как я: оперированный, с кожными псориазными проблемами? Да ещё и с такими «довесками»: ты и мама, и бабушка? Хочу хоть немножко в себя прийти после этого голодного времени и многолетней безысходности. Мне только недавно кошмарные сны по поводу этого всего сниться перестали. И тебе сейчас надо деньги зарабатывать, вот что. На ремонт. На отдых. На жизнь. Все условия есть. А то что-то расклеилась-рассопливилась.
– Мам, я так хотела уехать из этого дома…. Сразу после школы. Стать актрисой, например. Но ведь бабушка Клаудна сказала, что если я уеду, то должна забыть сюда дорогу, и она бы отдала мой родной дом – тем отдалённым. А моё здоровье…. Обмороки, припадки. Как я могла уехать? У меня бы не хватило здоровья выдержать бег столичной жизни.
– Что ж сейчас говорить обо всём в сослагательном наклонении? А бабушка Тивентия всегда говорила: «живите живую жизнь»; а сама была постоянно в переездах, с твоим дедом: он строил карьеру после Войны, был заместителем министра сельского хозяйства одной из республик Союза. В молодости твоя бабушка хорошо пела и обладала абсолютным слухом. Она пошла на прослушивание в «Новокампский хор», и её взяли. Она возвращалась домой, видно, абсолютно счастливая, и возле архитектурной достопримечательности, кажется, «Дом под часами»? Она встретила своего будущего мужа – твоего будущего дедушку, и они сразу как-то осознали взаимное предназначение. И бабушка Тивентия пожертвовала ради «своего Васи» будущей карьерой в «Новокампском хоре», и после свадьбы, они уехали по линии его работы.
Твоя прабабушка Янгна осталась жить здесь со своей младшей дочерью, Клаудной. У них был маленький домик с палисадником в том месте, где сейчас стоит Новокампский театр «Глобус». Бабушка Клаудна, как ты знаешь, отличалась мужским характером, довольно придирчивым, строила научную карьеру, и ей удалось создать собственную измерительную лабораторию в Академгородке, и получить научную степень. Она путешествовала в отпуск каждый раз в новую страну, дружественную в те времена Советскому Союзу. И по итогам этих дальних странствий, каждый раз, бабушка Клаудна устраивала настоящие Пиры, на которые приглашалась вся отдалённая родня, которую только можно было бы себе представить. И во главе стола величественно восседала Клаудна Семёновна, и повествовала о традициях разных народов своим разнообразным четвероюродным тётушкам и сёстрам, которые, в сущности, приходили сюда исключительно для того, чтобы отобедать. Ну и выразить восторги её рассказу об очередном путешествии. Это были 1960-е, 1970-е, 1980-е годы.
– Да, мам, а в конце обрушенных 1990-х годов, в моём детстве, я помню, благодаря Клаудне была выстроена научная лаборатория, которую она возглавила, и отладила идеальное функционирование во всех нюансах. Она вышла на пенсию в год начала Перестройки 90-х годов, и после этого дежурила ночным сторожем в кинотеатре «Академново»: у меня, благодаря этому, сохранилось большое воспоминание о первом увиденном фильме на большом экране, это был зрелищный остросюжетный фильм, очень модный тогда: мы, дети тогда, собирали наклейки в журнал и постеры, посвящённые его тематике. Двоюродная бабушка Клаудна оставила меня в просмотровом зале тогда, и сама ушла (она очень беспокоилась за своё здоровье, и поэтому «экономила» его ресурсы).
И я подумала тогда, что моя родная бабушка осталась бы смотреть фильм вместе со мной, даже если ей было ничего не понятно и не интересно, она бы просто осталась смотреть его вместе со мной – для того, чтобы потом вместе поговорить со мной о нём – из одной только любви ко мне.
Но зато Клаудна серьёзно помогала нам – деньгами и физически: по уходу за больными (её матерью и сестрой), но всё попрекала, что мы свалились на её бедную голову, и недостаточно ей благодарны. А потом? Она же выставила нас с тобой на съёмную квартиру, на время моей учёбы…. И в нашей комнате поселились отдалённые родственники в качестве квартирантов (они платили, она копила). Насколько я запомнила, это были внуки первой жены третьего мужа прабабушки Янгны, и они хотели «полностью завладеть пространством» – это я слышала из телефонного разговора кого-то из них. А ей, видимо, нужны были свита и фанфары, а не здравый смысл. Знаешь, как раз перед этим «изгнанием» нас на четыре года на съёмную квартиру, я услышала телефонный разговор: бабушка Клаудна открывала душу своей давней доверенной подруге; и говорила, что «не вынесет того обстоятельства, что я вырасту, и превращусь в «молодёжь» у неё перед глазами». Может быть, она сказала это потому, что у неё самой не было детей, и она внешне была очень похожа на знаменитую актрису? И ей всегда об этом (как восхваление) напоминали дальние родственники перед каждой новой вечеринкой, после каждого нового путешествия в экзотическую страну. Ведь, правда? И она болезненно относилась к своей приближающейся старости, и ещё более ревностно – к окружающей молодости, в любых проявлениях.
А потом, примерно десятилетие спустя, бабушка Клаудна позвала нас обратно, жить с ней, и, перед своим уходом, просила у меня прощения.
Я так думаю, что когда прошли эти десять патовых лет обездвиженной парализующей болезни бабушки Тивентии, и её не стало, и двоюродная бабушка Клаудна стала часто меня звать к себе в гости из-за того, что меня зовут также, как её старшую сестру, и я похожа на неё. И двоюродная бабушка Клаудна опять чувствовала себя молодой, моложе, чем я.
Думаю, самым важным для неё в жизни, кроме научной лаборатории, было какое-то внутреннее ощущение вечности и самочувствия молодости, поэтому она очень сильно следила за собственным здоровьем, любила боярышник, шиповник, пижму. Лечебный сбор, заваренный горячей водой, предварительно пропущенной через специальную шунгитовую воронку, которую она очень любила, – вот что её волновало. По-моему, двоюродная бабушка Клаудна вообще была прохладным, самолюбивым человеком, которого судьба, изредка, заставляла совершать хорошие благовидные поступки. Но, кажется, они её тяготили, и, как бы сказать…. Они самоуничтожались её бездушием, чёрствостью и гипперэгоцентризмом. Она любила насмехаться. Например, над взрослением (и всем, что с этим связано, например, она шутила: «а сиси то растут» – больно тыкнула и от своей собственной шутки она истерически закатилась, продолжая смеяться, на диван (они, кстати, не особенно выросли), а взрослеющему, особенно многим обделённому ребёнку, это может быть очень обидно и травматично для психики). – Двоюродная бабушка Клаудна предпочитала возмещать психологические травмы деньгами, как будто, покупала себе индульгенцию; на отпор её грубостям она отвечала: «если не устраивает – тогда зачем вы здесь живёте?». Но она была очень хорошим надёжным руководителем научной лаборатории в Институте Приборостроения с 1960-х годов и до Перестройки… Ведь моя бабушка была старшей сестрой, старше Клаудны на четыре года? Когда бабушки Тивентии не стало, и Клаудна перешагнула собственное восьмидесятилетие, она начала смотреть на меня каким-то особенным взглядом, как будто я – это её сестра в молодости, и, вероятно, таким образом, она чувствовала себя опять моложе своей сестры. Иногда, в такие сентиментальные моменты, она даже прислушивалась к тому, что я говорю, к моему мнению, а этого она никогда себе не позволяла никогда и никому. В итоге, она просила у каждого из членов нашей семьи: «только не сердитесь, только не проклинайте», и каждому приходилось заверять её в том, что «не будет»; но когда она ушла, и пришло осознание, что больше её не увидеть – это ничем не отозвалось в душе. Она много помогла нам, в частности, «быть наплаву», но никого не любила так, как саму себя.
Мне запомнилось, как она любила рассказывать, особенно в свой последний, восемьдесят четвёртый год жизни, – о музее Эрнеста Хемингуэя, в котором ей удалось побывать в одно из путешествий, в частности, она любила повторять, что музейный работник рассказывал о том, что в последние годы писатель стремительно худел и часто взвешивался перед своим уходом из земной жизни (наверное, ей этот факт был интересен потому, что она возглавляла научную лабораторию измерительных систем и приборов).
Ещё она повторяла: «Не отталкивай любовь, если она тебе встретиться». А я, наверное, оттолкнула.
– Да ну, Тивентия, думаю, тебе рано подводить такие уж кардинальные итоги и извлекать из жизни логарифмические корни.
– Думаешь? А бабушка Тивентия, как бы ей больно не было, всё равно пела, и я помню, как часто включала ей плеер с диском народной музыки, и бабушка Тивентия подпевала записям.
– И она говорила в свои последние дни – самые важные для неё слова, вывод из её сложной многострадальной жизни – из переездов вслед за дедом, куда бы его ни направили по линии работы. Который каждый раз, как механический повтор, таких перемещений в разные точки Союза было шесть. Их сопровождала сброшенная на бабушкины плечи нагрузка: обустройство деревенского дома, складывание печки в доме, терпение его измен, встреча дедушкиных коллег и готовка для них кулинарных шедевров буквально из ничего, уход за коровами и огородом, ежеденное ношение полных вёдер воды из колодца на коромысле, рождение четверых детей. Но итог: последние десять лет её жизни, обездвиженные; она нечасто что-то говорила, но часто пела; часто повторяла, смеясь в редкие моменты, когда боль временно отступала: «я такое вижу, такое вижу, вы даже себе представить не можете!», а на вопрос «что именно?» не хотела пояснять; она сверх меры израсходовала жизненные силы (дедушка, по-моему, недостаточно её берёг, у неё не было ни выходных, ни отпуска, потому что «дом и хозяйство не на кого было оставить», а сам один он ездил в санатории). Она говорила мне свой основной, выделенный и подчёркнутый за всю её такую долгую, насыщенную, мудрую житейской мудростью жизнь, вывод: что она считает необходимым для меня: «Думай только о себе. Думай только о себе». Получается, они, бабушка и двоюродная бабушка, две родные сестры, сделали в конце своих долгих жизней противоположные выводы?
– Тивентия, я думаю, как бы то ни было, твоя родная бабушка – единственная в нашей семье, у кого в жизни была настоящая любовь и семья. А ещё, помнишь, мы заходим с улицы домой, а она, идёт по коридору, из кухни в комнату, с кружкой воды, шаркает ногами. А на спине у неё стоит, и, таким образом, «едет» наш кот. И она идёт осторожно, чтобы он не спрыгнул, и радуется. Как же она любила животных! Вокруг неё всегда была жизнь: богатый урожай и здоровые домашние животные. Она ведь слегла окончательно, когда услышала весть о смерти дедушки, и повторяла самой себе, чтобы окончательно поверить: «он живой, просто ушёл к другой женщине, зачем я ему такая больная нужна?». Дедушка, ведь, умер в деревне, в одиночестве, от четвёртого инфаркта в семьдесят семь лет: он сильно болел, и не мог за ней ухаживать, и их пришлось разлучить. Бабушка Тивентия пережила своего мужа ровно на десять лет (ты же помнишь, я поддерживала в ней жизнь всеми силами), и она ушла, вслед за ним, в тот же самый день: двадцать третьего августа. – Она ничего не говорила, только пела – наверное, чтобы поддерживать остатки жизненных сил, я очень ясно это запомнила, чтобы помнить всегда.
– Как бы то ни было, в очень раннем возрасте я поняла, что нервная, очень быстро устаю и отличаюсь от окружающих меня девочек. И моя семья сильно отличается, сильнее всего это ощущалось среди ровесников, в нашей престижной школе с погружением в изучение иностранных языков. Тогда это могло послужить поводом для насмешек: в семье бабушек не понятно откуда «вывелась» девочка. Потом, в атмосферу опять нахлынула волна лояльности. Я даже часто наведывалась тогда в гости в две самые богатые семьи города, к подружкам, с которыми неожиданно обнаружилось взаимопонимание: меня там угощали йогуртами, а они начинали лучше кушать, когда я составляла им в этом компанию. Обычно, девочки из богатых семей тогда плохо ели, чаще всего из-за того, что мечтали похудеть, чтобы стать моделями. Новелле это действительно удалось! Но, ты же помнишь? Те подружки показывали мне очередную подаренную им дорогую игрушку, искренне удивляясь, что у меня нет ничего похожего, чтобы продолжить играть. Эти две мои подружки из детских лет и богатых семей, мягко говоря, не любили друг друга, и каждая из них говорила, чтобы я не общалась с другой, если я общаюсь с ней. И даже, по-моему, в ход шли небольшие подарки, вроде маленького радужного плюшевого чуда из игрового автомата в супермаркете, для того, чтобы «подкупить» моё решение. Но я тогда хотела общаться со всеми, в равной степени, не выделяя кого-то одного. И в итоге, как это часто бывает, мои друзья того времени становились всё больше занятыми собой, своими делами, кружкАми (музыкальные инструменты, клуб юных техников, студия юных натуралистов, танцы). Меня водить в кружкИ было некому, и бабушка Клаудна тогда сказала, что «это лишние расходы». И я просто довольно одиноко слонялась по нашему дворику…. «А я думала, что вы переехали», – увидев меня, однажды, после нашего прекращённого общения из-за требования её родителей, заявила одна из этих десятилетних девочек.
После этого, у меня произошло ещё несколько болевых расставаний с подругами моего детства – уехала за границу семья Наташи, моей подруги детства из учёной семьи, её обстоятельная бабушка-профессор математики впервые угостила меня «мармеладными мультяшками», и раньше я не знала, что такое угощение есть в природе. И помнишь, даже ты мне не верила, что есть «мармеладные мультяшки», и спрашивала: «это что-то, диетическое? Или для диабетиков?». Наташина бабушка любила подчёркивать свою роль перед гостями: «какая она хорошая хозяйка», «и какой всё-таки заботой окружены её внуки»: «Тивентия, а тебе твои бабушки польские косички заплетают?», «Тивентия, а какую сдобу тебе выпекают?», «Почему у тебя брюки неглаженные, с «волдырями» на коленках?». – Я была уверена, что она прекрасно знала, что все мои бабушки получили инвалидности, и хорошо бы, чтобы с самими собой справлялись (чтобы не было бы этого ужасного дивана, пропахшего мазями и болезнями, дивана, который тогда нельзя было заменить другим, потому что, в 90-е годы в Новокамп – не было на это ни средств, ни пособий по старости и инвалидности, не было и детских денег, я помню, что тогда люди часто иронизировали: «кто-то на невыплаченные в 90-е годы детские пособия себе яхту купил»). Я прекрасно помню, как моя родная бабушка Тивентия ещё возила меня (тогда совсем маленькую) на санках своими трясущимися руками (наработавшимися за жизнь от непосильных для женской выносливости работ).
Помню, о том, когда ты, мам, уезжала на работу, как бабушка Тивентия купала меня, пятилетнюю-шестилетнюю, и после этого, заворачивала в полотенце, и переносила меня (когда я была совсем маленькой, и она могла это делать) из ванны в комнату, чтобы я не простудилась. То, что она стала тяжёлой больной, это произошло как-то в одночасье. Сначала, наша соседка, заметила, что бабушка «как-то странно ходит», а потом, бабушка слегла, как оказалось, на больше, чем десять лет жизни. Так что, я думаю, об этом сложно было бы не знать, скорее всего, окружающие тогда предпочитали об этом не знать. Может быть, я слишком остро чувствовала эту подчёркнутость отличницы Наташиной бабушки в её снисходительных вопросах ко мне?