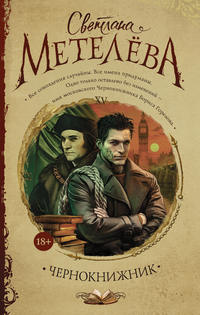Полная версия
Чернокнижник
…Ожил на Таткиной тахте – колотило меня на все девять баллов; лицо заливал пот, скрюченные пальцы шарили по груди; зубы громко стучали. Окончательно смог прийти в себя только через полчаса; за окном светало, часы показывали пять с четвертью. С помощью Апрельской восстановил хронологию: по ее словам, я вышел из квартиры вечером, часов в одиннадцать; что было потом – она не в курсе; под утро услышала внизу стоны, – я сидел возле скамейки у подъезда, изо всех сил давил кулаками на глаза. Дальнейшее понятно: пожалела, добрая душа, притащила к себе. Рассказал ей свой глюк; она ненадолго задумалась, потом покачала медленно головой:
– Честно, Борь, я о таком еще ни разу не слышала. То, что ты рассказал, обычно не на приходе бывает, а на отходняке. А че хоть за слова-то были? Запомнил?
Слов я не запомнил.
Пора было возвращаться на Вильгельма Пика. Меня ждала новая работа.
Глава 2. Загадка
Сентябрь 1994 года
Должность называлась громко: директор дирекции Илионского фонда поддержки русской культуры. Вот так я теперь представлялся и уже подумывал о визитных карточках. Работа же при этом была… да, откровенно говоря – не было никакой почти работы. Я приходил утром, то есть, «приходил» – это уже потом, когда снял, наконец, квартиру; в первый же месяц – поднимался со второго этажа на третий; пил чай, читал газеты, беседовал с Константином Сергеичем – он много знал и хорошо рассказывал. Было ощущение, что в мутном, все сметающем потоке я удачно зацепился за валун, и теперь наблюдаю и греюсь на солнышке.
Почему русскую культуру должен был поддерживать именно Илионский фонд, я так и не понял, но источник доходов просек довольно быстро. Над головой была прочная крыша в лице чиновника, ответственного за оформление российского гражданства; почта Фонда была завалена просьбами о «содействии». Это содействие, с легкостью оказываемое Киприадисом, и приносило деньги – в виде «добровольных пожертвований». Плюс – была недвижимость. Фонду принадлежали чуть ли не все помещения бывшего института. Как случайно обмолвился Киприадис, здесь не обошлось без помощи патриарха. Что президент имел в виду, я понял смутно – кажется, речь шла о том, что православному батюшке удалось склонить «некоторых людей в Кремле» (так говорил Киприадис) на сторону Фонда. Словом, так или иначе, ясно было одно: Фонд платил копейки за аренду здания целиком, а сдавал покабинетно и по рыночной цене.
Схема ничуть меня не удивила – она тогда была везде, была всем, самоутверждалась как альфа и омега жизни по-новому. Укради или достань: по знакомству, на халяву, дешево, бесплатно; потом продай – баснословно дорого, с наваром в двести процентов – меньше не имеет смысла; бери чужое, называй – «мое». И – будет твоим, станет собственностью, прирастет к тебе, как кожа, и уже никто не усомнится в твоем праве. И бывшие парторги и передовики производства, отгородившись от пугливого стадного «нельзя» с его прокисшей моралью, брали, доставали, тащили, крали – кто-то легко и азартно, кто-то – нагло, нахраписто, скотски, чуть что выхватывая «ствол» и смакуя сладкое слово «разборки».
Аутсайдеры, задыхаясь от желчи, гордились непричастностью, вспоминали золотое социалистическое время и Сталина, каждый вечер смотрели и читали непременно все новости, чтобы за ужином, догрызая курицу, злобно подытожить: ворье!
Я пытался определить свое место. Вынесло на берег, прибило – и плыть дальше вроде не хочется. Был поленом, стал мальчишкой, обзавелся умной книжкой…
Вдруг потянуло на другое. Читать, разговаривать, чувствовать себя в теме. Такой вот… отпуск за свой счет. А, может, просто повелся на красивое, гордое, звучное – ре-фе-рент! Помощник президента фонда!
Все люди ведутся на слова. Только не все это понимают. А я понимал: еще бы, после трех-то ходок! Любой нормальный зэк знает, чем может обернуться безответственное отношение к языку: фильтровать базар на зоне – вопрос не филологии, а выживания.
На воле – которая пока оставалась не до конца понятой и освоенной – мне нравилось слушать. Люди говорили много: в телевизоре, в очередях, в метро – говорили по-разному; смачно выплевывали ругательства, лихо сочиняли новояз, оголтело мстили словам за свои несбывшиеся ожидания и скукожившиеся надежды. За три года, что меня здесь не было, демократия превратилась в дерьмократию. А выборы прочно сцементировали с вышедшим из подполья на свет божий словом «пидоры»… Вот кто, скажите, пойдет голосовать после этого? В нашей стране у свободного волеизъявления – главного рычага либеральных ценностей – просто не было шансов. Я специально поинтересовался у Киприадиса – он знал английский – как рифмуется это понятие там, в Америке. Он немного удивился, но ответил – мол, «элекшн» – выборы, рифмуется с «эрекшн»: американцев, англичан и прочих англоговорящих выборы возбуждают.
Я несколько раз пытался поделиться своими наблюдениями – но друзья отмахивались, а то и смеялись. Зря. Я представлял себе картину – я ее, откровенно говоря, почти нарисовал – «Уполномоченный дилер беседует о мерчандайзинге с эксклюзивным дистрибьютером». Картина мне не понравилась – не выражала она той философской напряженности, что я в нее вкладывал. Но название осталось: один мой приятель выучил наизусть и во время глюков над ним думал.
Итак, два с лишним месяца трудился я на благо Илионского фонда. Несколько раз Константин Сергеич давал мне серьезные поручения – собрать гуманитарный груз для наших соотечественников в Абхазии или в Грузии – точно не помню, да и не важно. Я обошел знакомых – и пять грузовиков с едой и одеждой отправились по назначению. Про себя отметил: Киприадис ни разу не спросил, что за люди эти знакомые? На что живут? Откуда у них бабки? Что-то мне подсказывало: мудрый президент просто не желал догадываться. С другой стороны, если у наших соотечественников в Абхазии и правда дела плохи, то им должно быть совершенно фиолетово, кто помогает и из каких средств.
Киприадис частенько захаживал в мой кабинет: говорил со мной ласково и внимательно, давал читать книги. Помню, в одной рассказывалось о мифическом месте, где люди забыли названия вещей и стали крепить к предметам бумажки с напоминанием; потом забывали, что означают напоминания, – и записи приходилось увеличивать. Меня поразила эта история, но не сюжетом, не так уж и редко люди перестают называть вещи своими именами, а наркотическим происхождением. Только и исключительно под кайфом можно было написать такое, и, судя по всему, приход – в той или иной степени – был знаком всем великим писателям. Многие из них и дни свои закончили, как нам, творцам другой реальности, и положено – самоубийством или сумасшествием… Представил себя – вдруг – в Ленинке: в огромном зале – работаю над диссертацией… Тема… Ну, типа так: «Сортовой каннабис и мировая литература»…
Размышления прервал Киприадис. Как всегда, ухожен, хорошая обувь, одеколоном разит избыточно – но в целом приятно. Усмехнулся:
– Ну-ну, Борис Николаевич… Опять – не при делах? Стыдно – с таким-то именем…
– Константин Сергеич, это вы зря, – отозвался я, не вставая – уже виделись сегодня. – С Ельциным мы только зовемся одинаково. А разница между нами – серьезная: он пьет, а я колюсь…
Но он уже отвлекся от проблемы занятости сотрудников – и пошел рассуждать о творческих псевдонимах, о том, как они меняют судьбу. Загнул что-то насчет «влияния имени на личность»…
Я возразил:
– Вряд ли, Константин Сергеич… Вы, к примеру, можете назвать меня не Борей, а Мишей – что изменится? По сути – ничего…
– Это, Боря, Шекспир в свое время уже сказал: «Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет»…
– Ну, для этого Шекспиром быть не надо. На зоне я по-другому слышал: Иван останется Иваном, хоть долбани его диваном.
Киприадис мелко рассмеялся. Потом добавил, посерьезнев:
– И все-таки, ты знаешь, я склоняюсь к мысли, что все не так просто. Господь не зря потратил целый день только на то, чтобы дать сотворенным существам имена. В первобытных культурах имя считалось священным – где-то свое имя скрывали, чтобы труднее было навести порчу…
– Константин Сергеич, и вы верите во всю эту муть?
Он вздохнул коротко:
– Боря, ну почему сразу «муть»? Вот ты, я знаю, Библию не читал – а ведь на протяжении всей Священной книги Господь ни разу не открывает людям своего имени. И когда Моисей задает прямой вопрос: мол, как к тебе, Боже, обращаться? – то получает странный, как минимум, ответ: я есмь сущий. Что в буквальном переводе звучит так: «я – это я»…
– Свифт, – заметил я.
Киприадис удивился:
– При чем тут Свифт?
– Это он в старости, боясь сойти с ума, повторял все время: «Я – это я». Вроде как напоминал самому себе. Так что, может, и у Бога были те же мотивы? А может, Господа на самом деле звали Джонатан Свифт?
– Богохульник, – погрозил пальцем президент. – На эту тему, между прочим, высказывались многие великие умы. Самое интересное предположение звучало так: слово «Я» может быть произнесено только Богом… Ладно. Если тебя Библия не убеждает, возьмем Тору. Там все имена делятся на три вида: «пустые», «священные» и «запретные». Тоже не просто так…
– Зашибись, – согласился я. – Ну а в Коране – что есть на эту тему?
Киприадис посмотрел на меня сочувственно, но в то же время заинтересованно.
– С логикой, Боря, у тебя все в порядке, – похвалил он. – А вот в знаниях – пробелы. В Коране перечислены девяносто девять имен Аллаха – все не помню, разумеется, но вот некоторые: Милостивый, Милосердный, Отзывающийся, Знающий, Достославный… ну и так далее…
– О-па! Так получается, Константин Сергеич, что мусульманский Бог круче еврейского. Еврейский ни одного своего имени не знает – а мусульманский знает целых девяносто девять. Что, кстати, тоже странно: если Господь Милостивый, он же должен быть и Беспощадным, если – как вы сказали – Отзывающийся? – значит, должен быть и Глухим. Иначе половинчатый какой-то Аллах получается, незавершенный.
– Ох, Боря, что же за голова у тебя… – недовольно протянул Киприадис. Я пожал плечами:
– Голова как голова. Хотите напоследок анекдот в тему расскажу?
– Давай, рассказывай, – обреченно согласился президент.
– Привозят в дурку пациента. Врач спрашивает: Ты у нас кто? Тот ему: Наполеон. Врач говорит: прекрасно, пойдешь в палату к Суворову и Кутузову. Больной в ответ: Нет, доктор, что вы! Мне к ним никак нельзя! Врач: это еще почему? Ну, как же! Они – генералы, а я – торт…
Смеялся он долго…
…Про Свифта я вычитал в одной из местных книжек. Книги здесь были везде – почти во всех кабинетах фонда – в шкафах, стеллажах, а то и на полу. На мой вопрос – откуда? – Киприадис небрежно пожимал плечами: бывшая библиотека института марксизма-ленинизма.
Среди книг, между тем, попадались старые, в кожаных переплетах, со вставками тонкой папиросной бумаги; мелькнула мысль: вырвать и отвезти Татке, она наверняка обрадуется. Не смог. Все-таки детство мое пришлось на социалистическую эпоху, когда за порванную книгу могли исключить из октябрят-пионеров, а уж страшнее этого ничего в жизни не было.
Подозрения относительно Киприадиса, его ко мне интереса и моей работы постепенно развеялись: все шло ровно, зарплату (немаленькую) платили вовремя; иногда, само собой, скучал и подумывал замутить что-нибудь интересное – но быстро успокаивался. Да и обстановка не располагала; исторические реалии всего месяц назад пополнились арестом Мавроди. Офис его – красивый, на Варшавке, – штурмовал ОМОН. Как раз в середине августа я наткнулся – в самом центре, у Белого дома, – на разъяренную толпу вкладчиков «МММ»; в новостях потом сообщили, что было их около четырех тысяч. Старые знакомые, с которыми я, хоть и нечасто, но виделся, рассказали: семнадцать КАМАЗов для вывоза налички Мавроди, на самом-то деле, выделили в Кремле…
…Однажды в начале сентября я заглянул в кабинет президента – и наткнулся на посетителя. Видимо, это был не случайный человек – к Киприадису он обращался на «ты», тоном фамильярным и слегка начальственным. Как только я приоткрыл дверь, президент замолчал – резко, словно давая понять собеседнику, что при мне продолжать не стоит. И я присмотрелся к новому человеку внимательнее. Был он невысокого роста, с лысиной; хитро блестел свинячьими глазками, щерился ухмылкой. Внешность добродушного колобка опровергалась, однако, начальственной жесткостью взгляда. На меня он глянул мимоходом, обронил полупрезрительно:
– А-а-а… Директор дирекции…
Я вскинулся было ответить, но Киприадис остановил меня:
– Борис, извини, ты не мог бы зайти попозже? Я сейчас очень занят.
Я кивнул, вышел. Почему-то тон лысого господина, то, как выговорил он название моей должности, чрезвычайно меня задел. Как будто знал он обо мне нечто такое, что позволяло складывать губы в такую вот ухмылку, тянуть это «а-а-а», смотреть, точно снимая мерку. «Директор дирекции», – крутилось в голове; потом откуда-то вылезло и добавилось: «администратор администрации», «руководитель руководства». Работа вдруг потеряла всякий смысл, хоть я и понимал, что глупо так реагировать на случайные слова какого-то мудака. Как говаривал Ильич, жить с Киприадисами и быть свободными от них нельзя…
Президент заглянул ко мне спустя полчаса. Показалось мне – или впрямь в неадеквате? Уж не понизили ли его до охранника? Видно было – старается вести себя, как обычно, но – руки трясутся, глазки бегают, пальцы дрожат, галстук зачем-то поправляет… Боится – кого?
– Э-э-э… Борис… Ты не мог бы сделать для меня большое одолжение? Нужно срочно отвезти вот это, – он извлек откуда-то из-за спины серый сверток, – одному человеку. Сможешь?
Проглотив фразу: конечно, отвезу, я ведь курьер, – кивнул молча головой. Киприадис бережно положил сверток мне на стол, написал адрес – Дом художника на Крымском валу, букинистическая лавка, Владимир Мингьярович (удивился, перечитал: вот так отчество. Монгол?). Суетясь и беспокоясь, излишне подробно рассказал, как найти в ЦДХ эту самую лавку; еще тридцать три раза повторил, что сверток надо беречь – кстати, надо найти сумку – я найду – нет, уж лучше я сам – после чего выбежал и через несколько минут вбежал обратно с черным пакетом в руках. И я поехал на Крымский вал.
Москву захватывала осень. Чахлые пасынки большого города укоризненно желтели листьями; если погода была ветреной, жаловались шорохом ветвей; все же остальное время молчали, прятались за домами. Роли деревьев и птиц брали на себя дома и машины. Все чаще темнели крышами каменные громады; автомобили по утрам просыпались с другим, не летним звуком – заводились не сразу, а после долгого прокашливания, словно старик, поперхнувшийся «Беломором». Мягче ходили по асфальту дворницкие метлы, натыкаясь на упавшие листья. Вообще в Москве обычно не замечаешь ни времени года, ни природных явлений – такой уж он, мой город; вдруг очнешься, оглянешься – ба! Да ведь уже зима на подходе! Укутаешься потеплей и летишь дальше.
Интересное это место, садик около Дома художника. Много слышал, но бывать до сих пор не приходилось. Справа стояли свезенные сюда ненужные памятники – бесчисленные Ленины и один Дзержинский. Я заглянул ненадолго – поразился стремлению человечества увековечить свои блуждания непременно в камне – и пошел прочь от свалки использованных образов и устаревших понятий.
Нужный магазин я нашел быстро; «лавка букиниста» было написано косо и почему-то сбоку. Слишком много книг: старинных, больших и маленьких, брошюр, атласов; даже игральные карты здесь были, но не обычные, а с какими-то рисунками – мне бросился в глаза шут, повешенный за ногу. Пахло странно – маслом? Специями? Цветами? Продавца я не увидел, зато услышал обрывок беседы из крохотной комнаты-подсобки:
… – Вам надо книги писать, – с ласковым превосходством прозвучал густой, самоуверенный голос.
– Нет, писать – это ваше, – ответил совсем другой, негромкий и чуть дребезжащий. – А я не автор…
– А кто же, если не секрет?
– Я, – тут голос сделал паузу, словно подбирая нужное, – я – Комментатор.
На этой интересной точке собеседники выдвинулись из своего укрытия и увидели меня. Первым вышел самоуверенный тип в дорогом кожаном пальто, красном шарфе с кричащим лейблом – холеный, седоватый, глаза… Посмотрел я ему в глаза. И тут же всем своим нутром понял: а ведь он сидел. И – не пятнадцать суток за хулиганку, а основательно гостил у хозяина. Он мельком на меня глянул и – тоже признал; а я стоял, как дурак, с нелепым кульком в руках; он усмехнулся, едва заметно кивнул, повернулся к продавцу:
– Ладно, Владимир Мингьярович, я пойду, пожалуй, из редакции вам позвоню.
– Хорошо-хорошо, – улыбаясь, ответил тот, – удачи вам.
Тип в шарфике вышел, и Владимир Мингьярович, продавец антикварной лавки повернулся ко мне.
Полностью выбритый череп, какая-то потертая блуза (художник?), правой рукой перебирает деревянные четки (я видел почти такие же, только мельче, у чеченцев). Ростом он был невысок – чуть не на голову ниже меня. Возраст – под пятьдесят? Меньше? Непонятно. Глаза узкие – киргиз? Казах? Возле правого уха шрам. Вот с кем на дело идти нельзя категорически – не человек, а сплошь особые приметы. Внезапно дошло, что не только сам неприлично пристально разглядываю киргиза (или все-таки казаха?), но и он смотрит на меня в упор, и выражение лица у него…
Странное, как минимум, для первой встречи. В глубине зрачков изумление – потрясение даже; внимание, недоверие – то, что обозначается обычно словами «не может быть!» – и тут же – готовность признать это невероятное и согласиться с ним. Узнал меня? Вряд ли – мы никогда не встречались. Или..? Да нет, точно – не встречались, я бы запомнил. Но – на всякий случай осторожно уточнил:
– Мы с вами где-то виделись?
Он улыбнулся; на секунду прикрыл глаза – будто смигнул необъяснимое, спокойно ответил:
– Да, возможно. Я, по-моему, видел вас в офисе у Константина Киприадиса? Нет?
– Ну, вообще да, я там работаю. Вы – Владимир Мингьярович?
– Угадали, – он протянул руку. – А вас как зовут?
– Горелов Борис Николаевич, – в тон ему назвался и я. – Директор… дирекции…
Я замолчал, вновь вспомнив ублюдка из кабинета Киприадиса.
Мингьярович посмотрел внимательнее, сказал вдруг:
– У основателя одной из самых известных в мире семей – Козимо Медичи – был официальный титул «отец Отечества». Тоже странновато звучит, согласны?
Мне понравилось это вопросительное «согласны?» – он точно подставлял следующую ступеньку к разговору, протягивал крючок, чтобы надеть на него рыбку-ответ.
– Да, наверное, – осторожно сказал я, надевая рыбку. И вдруг спросил – очень уж хотелось проверить свою догадку: – Владимир Мингьярович, а кто этот человек, с которым вы говорили?
– О, это известный человек, – ответил продавец-Комментатор. Мне показалось – или все же в его тоне мелькнуло пренебрежение? – Обозреватель одной радиостанции.
– Он ведь сидел?
Вопрос, разумеется, был наглым – но он ответил.
– Да. А почему вы спрашиваете?
– Хотел проверить, – сказал я. – Выходит, угадал.
– Да, – он кивнул головой. – Угадали. Но, видите ли, в нашей стране, согласно статистике, отсидели почти семьдесят процентов населения. И – поверьте – среди зэков было немало умнейших людей…
Я слышал об этом. Еще в первую мою отсидку – в Краслаге – рассказывали о «режиссере Сереже»: его посадили за «изнасилование члена КПСС»; о поэтах, писателях; один из них так достал лагерное начальство постоянными письменными жалобами на «нарушения социалистической законности», что его отправили за границу. Тюрьма любит легенды. «На стене тюремной сердце и стрела, горькая легенда до меня дошла»… Лично я заинтересовался только одной. Рассказывали, будто бы, скрываясь под чужими именами, бедовала в лагере до самой смерти Фанни Каплан, погубленная пролетарской бдительностью…
Некоторое время Комментатор молча смотрел на меня. Потом – словно задернув шторку фотоаппарата – чуть прикрыл глаза, улыбнулся:
– Заболтались мы с вами, Борис Николаевич!
– Можно просто Борис, – поспешно перебил я.
– Хорошо, Борис, – легко согласился он. – Вы мне кое-что привезли как будто…
– Да, конечно, – я протянул ему пакет, он взял его – бережно. Еще раз взглянул на меня – с пристальным, пронзительным вниманием. Не выпуская из рук сверток, спросил:
– Борис, а вы перед тем, как в Фонд устроиться, где работали? Если не секрет, конечно…
– Не секрет. Лыжи вострил.
Он поднял бровь:
– Извините?
Я объяснил:
– Сидел я, Владимир Мингьярович. В лагере был. Работал на тамошнем производстве – лыжи мы делали.
– Вот оно что, – с каким-то странным пониманием протянул Комментатор.
– А вы почему интересуетесь?
– Да так, знаете, что-то в вашем лице показалось мне…
– Уголовное?
– Нет, напротив. Я бы сказал – драматическое. Что-то есть в ваших чертах… На литературного героя похожи…
– Это запросто, – отозвался я. – Даже знаю, на какого. Бармалей Чуковского.
Комментатор рассмеялся:
– Почему Бармалей?
– А я в детстве жил на Бармалеевой улице – это в Харькове…
– Да вы что! Там есть такая улица?
– Есть. Говорят, раньше там жил англичанин – Бромлей какой-то.
– Англичанин… И – тяжелые лондонские туманы? И – мосты над Темзой?
– Это вы о чем? – не понял я.
– Да так, – улыбнулся он. – Ассоциации. Англичанин… Лондон… Туман… Темза…
– А-а-а, – протянул я. – У меня они другие. Чуковский, стихи, детство, как я рад, что поеду в Ленинград – а потом драка в школе и родителей к директору.
– Ух ты, какая цепочка, – удивился Комментатор. – До Ленинграда – все понятно, а – потом?
– А я, знаете, был настолько уверен, что Бармалей – это реальный персонаж, который жил на нашей улице, в моем доме с решетками, а потом уехал в Ленинград, что доказывал это до хрипоты. Во дворе пацаны верили. А в школе начали смеяться. Пришлось… защищать свою точку зрения…
Владимир Мингьярович искренне расхохотался:
– Борис, если нам еще доведется встретиться, обязательно подарю вам старое издание Чуковского. С первыми рисунками. Чтобы вы наконец познакомились с вашим Бармалеем поближе.
Он замолчал. Я попросил разрешения посмотреть книги.
И правда хотел глянуть – но была и еще одна мысль. Мне почему-то приспичило узнать – что же такое я привез этому Комментатору от Киприадиса? Что могло быть внутри? Может, он все же откроет сверток – надо просто чуть подождать?
Но он убрал его, не распаковав, куда-то в прилавок.
Книги стояли на полках, как попало – иногда тесно прижавшись одна к другой, иногда развалившись привольно, чуть приоткрыв страницы, заманивая. Я аккуратно перебирал толстые и тонкие томики, разглядывал корешки и обрезы – встречались золотые и серебряные – читал, где мог, названия. Из всего, что увидел, заинтересовал меня только старый, 1903 года издания «Граф Монте-Кристо» на русском языке – и то исключительно с точки зрения внешней красоты: темно-синяя кожа на обложке, удивительные иллюстрации. Книгу я читал; ее все зэки читают – и все на первом сроке.
Потом мы пили чай. Чай у него был странный – светло-желтый, без сахара, вкусом больше напоминавший какую-то траву, вроде смородиновых листьев или чабреца – но вкусный. Он рассказывал о себе, но немного. Оказалось, не киргиз и не казах, а китаец, но в Москве живет с детства, поэтому по-русски говорит хорошо, без всякого акцента.
Я вспоминал тоже – почему-то все время Харьков; мой дом – двадцать первый по Бармалеевой, с решетками на балконах и маскаронами в виде львиных морд. Вспоминал пересечение Рымарской и Бурлацкого спуска, где берет начало Университетская улица…
Комментатор слушал внимательно, с интересом, переспрашивал, уточнял; очень понравилось ему происхождение еще одного названия – района Москалевка: не от «москалей» вовсе, как считали некоторые, а – от двух еврейских имен – Моська и Левка. Район был воровским; пока отцу – главному инженеру фабрики «Красный водник» – не выделили квартиру, мы жили там; сосед дядя Паша был маминым любимцем – культурный, сразу видно, – говорила она до того самого дня, как бабка-горбунья из второго дома не объяснила, кто он такой и чем занимается. После этого мать, потрясенная до глубины души, запретила мне ходить к дяде Паше в гости, а сама здоровалась с ним сквозь зубы. Я-то, конечно, быстро наплевал на ее наказы и поучения – и почти каждый день после школы бежал первым делом к нему: там был телевизор, всегда полно вкусной еды; там я научился играть в карты…
Так и сидели – почти по-семейному; посетителей не было – и тут я снова услышал это…
Опять – ту же самую уродливую музыку без мелодии; странно, что я ее узнал. Но ведь узнал, это точно была она, доносилась из соседнего отсека. Наверное, я вздрогнул, потому что Комментатор оборвал свою фразу на середине, взглянул на меня внимательно, сказал:
– Что, пробирает?