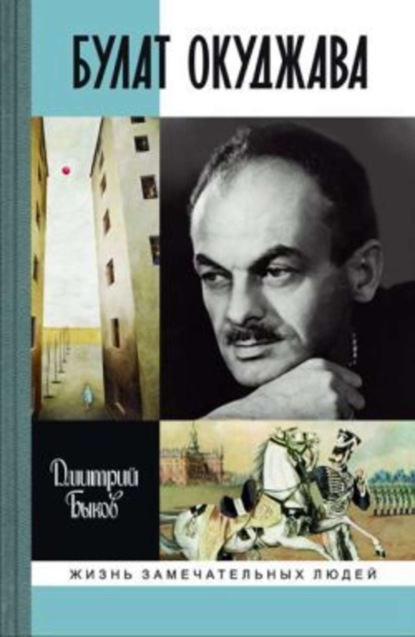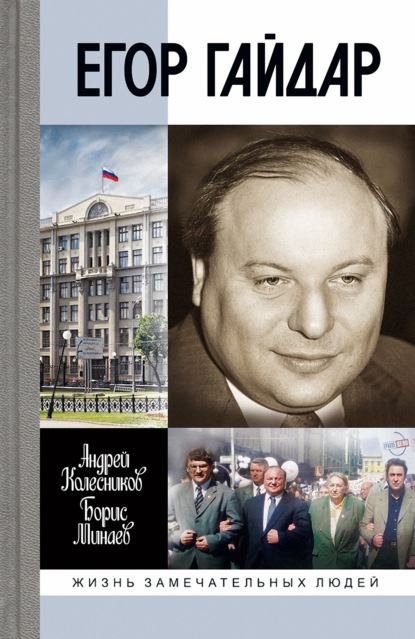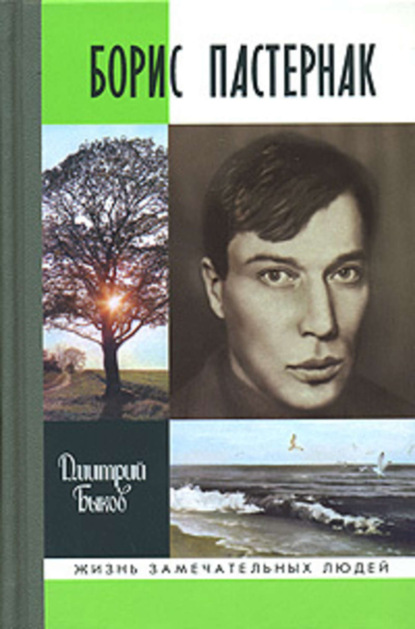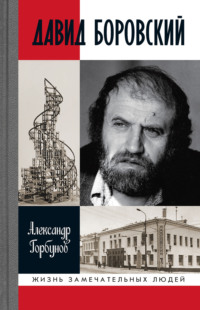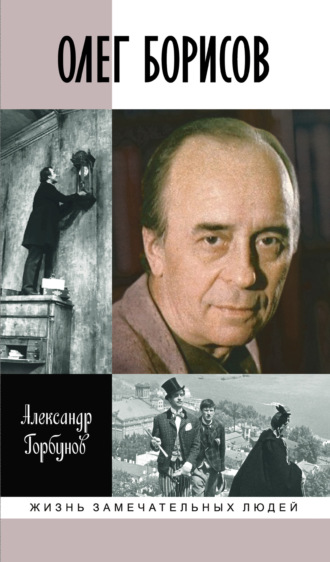
Полная версия
Олег Борисов
Тема родителей и еще кого-то третьего взволновала Олега не меньше, но педагог поспешил его успокоить: «Ты еще не родился! Сейчас начнется менуэт, это будут твои первые шаги. Радость земных родителей: ты сходил на горшок!.. Но эта идиллия улетучивается, когда начинается громкая турецкая музыка. Самая настоящая порка… слышишь, как оркестр хлещет по струнам? А следом открываются тараканьи бега, и открываются они для тебя! Вот ты уже несешься по этой вертушке…»
Когда рядом крушили церкви, разговоры об ангелах, по словам Олега Ивановича, выглядели непривычно. Сомнения развеивали музыка и его бабушка, которая благословила на занятия скрипкой. Довольно быстро он разобрал начало первой части, но потом попросил у Льва Ферапонтовича… Концерт Мендельсона. Моцарт ему быстро наскучил. Педагог страшно ворчал, однако уступил. «Вскоре, – вспоминал Борисов в дневнике, – я коряво играл главные партии в пяти сочинениях, однако дальше этого не шло – не хватало терпения. Мальчишки звали на огороды, в семье не было денег – надо было начинать трудовую жизнь. И я пришел к нему объявить о своем решении бросить скрипку.
Он выслушал молча, покусывая ногти. Его высокий, “скрипичный” голос заметно подсел. “То, что ты сделал глупость, бросив скрипку, поймешь когда-нибудь… Но в данном случае вопрос не о тебе…” – и он резко сорвал кепи, под которым зияла плешь от бровей до затылка. Наклонил ее ко мне. Я разглядел след от давно нанесенного удара. Рана зарубцевалась, была еще небольшая шишечка – на самом темени. “Это сделал отец… скрипкой… Прошло уже тридцать лет, а рана до конца не проходит… Мама думала, что он убил меня. Но тогда, от того удара, мне передалось чувство, что я – неудачник. И точно, неудачи как будто посыпались на меня. Даже когда я играть бросил, и с учениками… У меня никто до конца ни одного сочинения не доучил… Вот и ты…”».
Олег помнил, что после этих слов он заплакал и пообещал, что скрипку не бросит. Несколько раз затем приходил ко Льву Ферапонтовичу, но потом… начал обходить его дом десятой дорогой. «Мне, – вспоминал, – до сих пор стыдно, когда слышу чью-нибудь скрипичную трель…»
Уже после войны, когда Борисовы переехали под Москву, из окон Дома культуры Олег услышал звуки квартета. Поинтересовался, что они играют. Ответили ему так: «Диссонантный квартет Моцарта». «И только тут, – вспоминал Олег, – я заметил, что один стул у них свободный – не пришел скрипач. Он вчера умер от голода. Завтра – похороны, а сегодня они переделывают этот квартет в трио. Искали скрипача и не смогли найти. Я смотрел на пустой стул и почему-то думал: зря я тогда не послушал своего Льва Ферапонтовича!»
Сын Олега Борисова Юра узнал о том, что отец в детстве какое-то время учился игре на скрипке, когда они приступили к совместной работе над спектаклем «Человек в футляре». Юра спросил: «А ты можешь вспомнить?» – «Прошло пятьдесят лет вообще-то говоря…» Не было под рукой ни скрипки, ни смычка. Для Олега купили альт немецкого образца. Друг Юры виолончелист Олег Ведерников, тоже выходивший в спектакле на сцену, дал Олегу Ивановичу десять уроков, и Борисов-старший заиграл: это осталось на пленке, вошло в историю.
Восьмой класс Олег заканчивал в Красных Ткачах. В девятом и десятом учился уже в Москве, вернее – в поселке фабрики «Победа труда»[1] вблизи села Братцево, куда переехали, потому что маму-агронома, хорошего специалиста, перевели – она стала работать на ВДНХ в павильоне «Корма» и подрабатывала шитьем. Перешила Олегу его школьный костюмчик. Жили вчетвером – бабушка, мама и Олег с Левой, – ютились в комнатенке деревенского домика, которую снимали.
1946 год. Чудовищное время. Только-только закончилась страшная война. Голод. Перебивались картошкой и хлебом по карточкам. Надежда Андреевна три часа добиралась на работу до выставки – электричек не было, только паровички, а по Москве муниципальным транспортом – и три часа с работы домой. Каждый день. «Учись открывать книжный шкаф», – говорила иносказательно бабушка. В наличии такового не было. «Какой там шкаф… стола даже не было, – вспоминал Олег. – Спать было негде, на полу спали…» С ребятами в школе после переезда сошелся быстро. По-волжски «окал», новые друзья заставляли переучиваться.
Глава вторая
Школа-студия МХАТа
Борисов не собирался поступать в мхатовскую школу-студию. Он и понятия не имел о ее существовании. Театр представлял себе смутно. Обрывки воспоминаний из детства о выступлении в школьной самодеятельности, рассказанные на страницах дневника: «На сцене дружно маршировали, я переодевался в бандита и нападал на своего одноклассника. Его гримировали “под Кирова”. Киров был ранен, но оставался жить, а меня в упор расстреливал ЧК (по замыслу учительницы пения, которая ставила эту сцену, все должно было быть не так, как в жизни, а со счастливым концом). Я скатывался со сцены, издавая душераздирающие крики, бился в конвульсиях. Учительница пения делала отмашку, когда нужно было заканчивать с конвульсиями и умирать под музыку».
Это была не первая роль Олега в школьной самодеятельности – он записался в этот кружок ради того, чтобы почаще быть рядом с девочкой – Ниной Орденовой, – которая ему очень нравилась. Борисову, учившемуся тогда в четвертом классе, доверили роль Ведущего в «Сказке о золотой рыбке».
Иван Степанович Борисов отправился как-то по делам в Ярославль и взял с собой пятилетнего сына. Сводил его в Театр драмы им. Федора Волкова – старейший драматический театр России, основанный в 1750 году. Смотрели «Даму-невидимку» по пьесе испанского драматурга Педро Кальдерона. Ничего, понятно, из того, что имело в комедии отношение к любовной линии, проявлениям рыцарской чести и хитросплетенным интригам, маленький Олег не запомнил. Лишь калейдоскопом менявшиеся, передвигавшиеся по кругу декорации. Глаз от них не отводил. Спустя годы узнал название спектакля – первого в своей жизни.
В 1980-е годы Олег Иванович побывал в Плесе, в Доме-музее Левитана, и оказалось, что экскурсовод Алла Павловна Вавилова хорошо помнит его родителей. Она рассказала, что Иван Степанович интересовался режиссурой, ставил в Плесском сельскохозяйственном техникуме любительские спектакли. В частности «Грозу» Островского. Надежда Андреевна, студентка этого техникума, играла Катерину. Они еще не были женаты, и все знали о симпатии Ивана к Надежде, ради которой он, в общем-то, спектакли и ставил. В наши времена, к слову, в Приволжске ежегодно в ноябре проводится фестиваль памяти Олега Борисова «Запомните меня таким…».
Никаких регулярных посещений театра маленьким Олегом с родителями, будто бы возникшей именно тогда страсти мальчика к сцене не было, как не было и совместных поездок Ивана Степановича и Надежды Андреевны в Ярославль. Даже тогда, когда Борисовы какое-то время жили в Ярославле, в театр они ходили лишь изредка. Олег не воспитывался в театральной атмосфере, не бывал за кулисами, как многие дети из театральных семей, впоследствии ставшие актерами. Он не мечтал о сцене, о профессии актера, о героях, которых страстно хотелось бы сыграть, и никаких особых впечатлений, связанных с театром, кроме ходивших по кругу декораций в «Даме-невидимке», не было и в помине.
Роль бандита, покушавшегося на Кирова, позволила, к слову, Олегу сдать на «удовлетворительно» выпускной экзамен по математике. От реально грозившей «двойки» его спас учитель математики. Впечатленный игрой Борисова на сцене, он предрек Олегу будущее хорошего комика («Уже тогда было заметно!» – не без иронии вспоминал Борисов) и, попросив ученика внимательно его выслушать, сказал, чтобы он непременно первым пришел на экзамен, где получит «знакомый» билет, который заранее надлежит выучить, ответит на «тройку» и в тот же вечер сожжет все учебники по математике и поклянется, что никогда в жизни не прикоснется к точным наукам. И добавил: «Будешь пересчитывать зарплату – на это твоих знаний хватит».
После того как Надежду Андреевну Борисову перевели из Карабихи в подмосковный поселок фабрики «Победа труда», у Олега появилась возможность регулярно бывать в Москве. По меньшей мере, раз в неделю он ездил в столицу, но в театрах не бывал. «А театры вас интересовали?» – спросил в январе 1988 года у Борисова Андрей Караулов. – «Потом уже? Конечно». – «Нет, до Школы-студии…» – «Если честно, то я что-то не очень помню…»
О Школе-студии Олег узнал, можно сказать, случайно. Существуют две версии того, как это произошло. Одна не исключает существования другой. И обе подтверждают элемент случайности. Согласно одной версии, группа выпускников-десятиклассников (с Олегом в их числе) решила поступать в один институт, чтобы не расставаться и продолжать учебу вместе. Выбрали Московский институт востоковедения (МИВ). «Только что, – записано в дневнике Борисова, – окончил школу и уже успел поступить на японское отделение». «У тебя, – сообщили Олегу в приемной комиссии, – есть способности. Мы тебя берем с тем условием, что ты научишься излагать мысли тихо. Японцы не любят, когда разговаривают агрессивно».
Только и оставалось – отдыхать остававшиеся до 1 сентября летние недели. Но кто-то из будущих «японистов» (Олег Иванович говорил, что – не он, хотя и не исключал того, что – он: просто запамятовал) сказал, что узнавал: учиться здесь – скука смертная. Ежедневная зубрежка языка – только и всего. Журналист Михаил Захарчук, правда, написал (причем не где-нибудь, а на страницах информационно-аналитического издания фонда исторической перспективы «Столетие»), что Олег не только поступил, но и учился, а «на втором курсе случайно набрел на книгу Станиславского» и из вуза ушел. Доводилось читать и о том, будто «год жизни Борисов подарил японистике».
Изучение иностранного языка в МИВе, в котором Олег Борисов не учился ни одного дня, было, разумеется, делом приоритетным, но, стоит заметить, институт в 1954 году закрыли по причине… слабого знания выпускниками изучаемых языков. Зная природную въедливость Борисова, его трудолюбие и приверженность к дисциплине, можно предположить, что уж он-то в изучении японского языка преуспел бы и стал бы не менее известным выпускником Института востоковедения, чем Евгений Примаков (будущий премьер-министр России поступал на год позже Олега и его приятелей), Игорь Латышев (японист, к слову; многолетний корреспондент «Правды» в Японии) или Лев Делюсин (один из самых известных советских китаистов). Но только, понятно, – предположить, потому что документы из МИВа Олег и один его одноклассник забрали и из Ростокинского проезда отправились в проезд Художественного театра (ныне – Камергерский переулок) поступать в Школу-студию МХАТа.
Неподалеку от братцевского деревенского домика, в котором жили Борисовы, на территории усадьбы Братцево находился дом отдыха. В свое время он принадлежал Главсевморпути, отдыхать туда приезжали папанинцы, а потом в Братцеве расположился дом отдыха работников сцены.
Олег с друзьями приходил туда играть в волейбол или футбол. Команда «местных» на команду «отдыхающих». Иногда к играющим присоединялся отдыхавший там Николай Озеров. Он уже – после окончания учебы в ГИТИСе – работал во МХАТе, но еще не стал спортивным комментатором. Озеров приносил мяч с собой. Когда уходил, мяча не оставлял – забирал с собой. Если не оказывалось запасного, оставшиеся игроки гоняли консервную банку.
В команде «отдыхающих» выделялся один молодой человек («Он, – вспоминал Борисов, – очень лихо с нами расправлялся: и в футбол играл здорово, и в волейбол, и в теннис – спортивный такой парень…»). Олег и сам играл неплохо. В нападении. Но еще лучше – младший брат Лева, на воротах. Олег говорил, что Левке «надо было становиться футболистом – потрясающим вратарем бы стал».
Звали молодого человека Алексей Покровский. Однажды Олег увидел на скамеечке возле площадки книжку. Прочитал название – «Беседы К. С. Станиславского». Это было второе издание бесед великого режиссера, записанных заслуженной артисткой РСФСР Конкордией Евгеньевной Антаровой в студии Большого театра в 1918–1922 годах. Борисов думал, что книжку принес Озеров, но оказалось – Покровский.
О Станиславском, рассказывал Олег Иванович, он к тому времени слышал. И о МХАТе слышал – не раз листал богато иллюстрированный альбом из солидной отцовской библиотеки «“Царь Федор Иоаннович” на сцене МХАТ». «Царя Федора, – вспоминал иллюстрации из альбома Борисов, – играл тогда Москвин, Ирину – Книппер-Чехова. Мог ли я предположить, что спустя годы Ольга Леонардовна Книппер-Чехова вручит мне диплом об окончании Школы-студии при МХАТе?..» И фото Ольги Леонардовны – с дарственной надписью («Олегу Борисову на добрую память») – сохранилось на всю жизнь.
Олег попросил нового знакомца дать ему книжку почитать. Прочел за два дня. Когда возвращал, сказал, что ему было очень интересно. Покровский, уже два года служивший к тому времени в труппе МХАТа, предложил: а поступай-ка к нам, у нас Школа-студия при театре есть.
Покровский заронил в душу Борисова зерно. Прорастало оно недолго. Именно тогда, скорее всего, – после прочитанной книги и совета Алексея, – Олег и сказал одноклассникам о театральной Школе-студии. Она, надо сказать, только начинала свое существование: к моменту поступления Олега она – на правах Высшего учебного заведения функционировала всего четыре года.
К поступлению Олег готовился в спешном порядке. Покровский, которого Борисов спустя годы назвал ведущему телевизионной передачи «Кинопанорама» Виктору Мережко своим театральным «крестным отцом» (они могли, к слову, вместе служить во МХАТе, но за шесть лет до прихода туда Борисова Покровский театр покинул – из-за разногласий с Олегом Ефремовым), подсказал, чтó нужно делать в первую очередь. Любопытно, к слову, что Олег Николаевич Ефремов, учившийся в Школе-студии МХАТа, во МХАТ, о котором мечтал, не попал из-за… Покровского. Увидев в одном спектакле Ефремова и Покровского, тогдашний директор МХАТа Алла Константиновна Тарасова сказала: «Ну, зачем нам два одинаковых актера. Пусть останется Покровский, окончивший Школу-студию раньше». Ефремов, рассказывают, узнав об этом, сказал: «А я все равно приду во МХАТ главным режиссером…»
В «Беседах…» на Борисова сильное впечатление произвело упражнение, когда немому нужно объясниться в любви к женщине, как при этом вместо чарующего голоса должен был появиться отвратительный скрип. «Я этот скрип, – рассказывал спустя годы Олег Иванович, – хорошо натренировал и стал с ним ко всем приставать. Додумался еще забраться в колодец и читать оттуда “Сказку о Золотом петушке”, да так, чтобы слышали в доме. Ложился между грядок и клал на грудь кирпичи – учился постановке голоса». Звук, как известно, держит диафрагма. Как у певцов. И Олег диафрагму, как ему советовали, постоянно укреплял. Делал дыхательные упражнения, включая дыхание при давлении на грудь кирпича или булыжника.
Перед очередной волейбольной баталией на территории дома отдыха Олег взобрался на огромный пень, стоявший на краю поляны, и стал читать Покровскому монолог Бориса Годунова. Алексей не выдержал – захихикал: «Зачем тебе это? Ты читай какую-нибудь пушкинскую сказку, о Золотом петушке, например…»
Хотел было Олег подготовить к вступительным экзаменам поэму А. С. Пушкина «Домик в Коломне», но его вовремя отговорили; поэма чрезвычайно трудна для чтения:
Фигурно иль буквально: всей семьей,От ямщика до первого поэта,Мы все поем уныло. Грустный войПеснь русская. Известная примета!«Домик в Коломне» Борисов читал в феврале 1989 года в Концертном зале им. П. И. Чайковского на талантливо придуманном сыном Юрой вечере, посвященном 190-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
Алексею Олег, признаться, не поверил и завел перед приемной комиссией годуновское «Достиг я высшей власти…»… Но Михаил Михайлович Тарханов, комиссию возглавлявший, правоту Покровского подтвердил. Почему, кстати, Борисов к вступительным экзаменам в Школу-студию решил подготовить монолог Бориса Годунова? «Решение, – рассказывал он, – было принято под впечатлением рассказа моего отца Ивана Степановича о том, что наш род происходит от знатного воеводы периода Ливонской войны Ивана Бутурлина. Значит, из знати. Этот окольничий был брошен Годуновым на борьбу с повстанцами. Бутурлин погиб со словами: “Бояре Борисовы от смерти заговорены!” Я это рассказал М. М. Тарханову, который, увидев меня перед комиссией, спросил: “Молодой человек, зачем вам этот монолог? Басенку… Такое впечатление, что вы давно не видели себя в зеркале”.
Я и вправду был соломинкой, в деревне меня называли “шкилей”. Только что “затяпал зверка” (на нашем жаргоне это значило: украл курицу), и вот я уже перед комиссией, и из моих уст полилось: “…Достиг я высшей власти; Шестой уж год я царствую спокойно…”
И до конца. У Тарханова появилась ухмылочка, правда, доброжелательная. Я еще захотел как-то оправдаться: “Понимаете, Михаил Михайлович, вот чую, что сыграю когда-нибудь царя или монарха…” И в грудь кулаком. “Это хорошо, что есть такая уверенность, но сначала – если примем – челом бить учиться будете, кланяться до земли, за полу хвататься”. Тарханов как в воду глядел. Только на сороковом году жизни монарха сыграл, да и то – английского».
Борисова в Школу-студию приняли сразу (при тогдашнем конкурсе около двухсот человек на место). Приятеля – нет. Доводилось читать совсем уж смехотворную версию истории поступления Олега в Школу-студию. Будто бы он решил остаться на японском отделении Института востоковедения, но товарищ его (тот самый, которого не приняли) сдавал экзамены в Школу-студию и попросил Олега «подыграть (?) в нескольких сценках»…
Педагогов своих Борисов называл «прекрасными». Часто вспоминал Александра Михайловича Карева, Георгия Авдеевича Герасимова, Сергея Капитоновича Блинникова, Бориса Ильича Вершилова (знаменитого режиссера, работавшего еще со Станиславским), Марию Степановну Воронько…
Авнера Яковлевича Зися, преподававшего диамат, Борисов называл «замечательным человеком». «Замечателен, – рассказывал, – он тем, что, рассказывая о какой-нибудь работе Сталина, быстро от нее отвлекался и уходил в дебри высокой философии. У многих, кто вызывал у него опасения, и у меня в том числе, он спрашивал перед экзаменом: “Знаешь? Если нет, ставлю тебе тройку и можешь не приходить…” Видя наше кислое, недовольное лицо, тут же предлагал четверку… однако с тем условием, что мы в этой жизни будем иногда сомневаться… не станем самоуверенными баранами… Если говорят: “черное”, нас хоть на секунду посетит сомнение… Авнер Яковлевич дружил с нами и после того, как мы окончили Студию. К нам пятерым, распределенным в Киев, он приезжал на один день. Без чемоданчика, просто пообщаться. Приглашал в ресторан, заказывал котлеты по-киевски и сам расплачивался. Что-то искал в наших глазах…»
Олег Иванович рассказывал, как выучил в Школе-студии рассказ А. П. Чехова «В Москве», начинающийся:
«Я московский Гамлет. Да. Я в Москве хожу по домам, по театрам, ресторанам и редакциям и всюду говорю одно и то же:
– Боже, какая скука! Какая гнетущая скука!
И мне сочувственно отвечают:
– Да, действительно, ужасно скучно».
Этот Гамлет казался Олегу фельетонным, и он обратился к Вершилову, преподававшему актерское мастерство, с просьбой послушать его чтение.
Он остановил принявшегося читать Борисова почти сразу и попросил читать так, как будто он, Вершилов, и есть «московский Гамлет». Олег запротестовал: «Тут совсем не так, Борис Ильич. Разве вы “легко миритесь с низкими потолками, и с тараканами, и с пьяными приятелями, которые ложатся на вашу постель прямо с грязными сапогами?”» Вершилов отвечал не задумываясь: «Легко мирюсь, молодой человек, представьте себе, приходится. И что каждую минуту Америку открываю – тоже правда. Тут все про меня. (Он открыл томик Чехова и стал приводить другие примеры из текста.) Например, “когда говорят мне, что Москве нужна канализация или что клюква растет не на дворе, то я с изумлением спрашиваю: ‘Неужели?’ ” За всем этим, мой милый Олег, не я один, а все поколение отстрелянной интеллигенции. Зачем же так немилосердно его бичевать? Посочувствуйте. А этот монолог просто до слез трогает: “С самого рождения живу в Москве, но, ей-богу, не знаю, какой город богаче: Москва или Лондон. Если Лондон богаче, то почему?”». Он как-то трогательно пожал плечами, и в один момент Борисову показалось, что он действительно заплачет. «Трагедия! Как для гоголевского Гаврюшки, который не мог решить, какой из городов партикулярней – Рязань или Казань?»
«И тут же, улучив момент, начинаю, – рассказывал Борисов в дневнике, – задавать Вершилову глупые вопросы: например, как сегодня играть Гамлета? “А что, тебе уже предложили? – тут же переспросил Вершилов. – Знаешь такое латинское выражение ‘Буриданов осел между двумя лужайками’? Жил когда-то умный философ Буридан, он и поведал миру эту притчу: осел находится между двумя стогами сена, одинаково от него удаленными, долго колеблется в выборе, начинает между ними метаться и, в конце концов, умирает с голоду… Трагедия! То же и с нами, только вопрос не в том, ‘быть или не быть?’, а вопрос: ‘с кем быть?’ Понимаешь – с кем? Я вот и у Михаила Чехова побывал, и у Вахтангова. Ты что-нибудь слышал о моей постановке ‘Разбойников’?.. Ко мне ведь во МХАТе отношение настороженное, прохладное, даже со стороны студентов…” – и он, погладив меня по голове, зашагал по коридору. Я на всю жизнь запомнил эту удаляющуюся тень». И на всю жизнь запомнил урок Вершилова: «После тебя никому не должно захотеться произносить твой текст. Пусть это даже роль Гамлета. Вложи в нее свой уникальный смысл и сумей им воздействовать – вот и все!»
Борис Ильич Вершилов, стоит заметить, был инициатором того, чтобы в студенческой работе на втором курсе – гоголевской «Женитьбе» – Олег играл не очевидного для его натуры Кочкарева (роль Ильи Фомича Кочкарева Олег Иванович, к слову, блестяще сыграл в 1977 году в фильме Виталия Мельникова «Женитьба»), персонажа всегда почти взвинченного, хлопочущего «черт знает для чего», а – Ивана Кузьмича Подколесина (в фильме его играл Алексей Петренко – еще одно точное режиссерское «попадание в актера»), человека в некотором роде заторможенного, с характером, ничего общего с характером молодого Борисова не имеющего.
«Заставив Борисова работать над ролью Подколесина, – считал театровед Сергей Цимбал, – учителя, можно сказать, заведомо толкнули его на полемику с собственными актерскими задатками. Плодотворность подобной полемики подтверждается не скоро, но считается, что она в любом случае расширяет внутренний диапазон актера… Тому факту, что Борисову было, как говорится, на роду написано влезать в характеры, далекие от прожитого и пережитого им самим, удивляться не приходится. Примененный учителями Борисова педагогический прием не так уж, вероятно, хитер и нов, и, может статься, не надо было о нем упоминать, если бы он не сработал в актерской жизни Борисова по-новому. Уже в зрелые годы актер прибегал к этому приему, стараясь в иных случаях уйти от пренебрежительно резкой манеры держать себя, от своей холодноватой актерской лапидарности. Он-то догадывался, что ими никак не исчерпывается его актерская натура, что резкость движений и пластическая сдержанность только разные проявления его в главном неделимой, напряженной и пытливой внутренней жизни».
В одной из сцен того студенческого спектакля Олег, которому в работе над этой ролью приходилось наступать «на горло собственной песне» – подвижности, искрометности и, конечно же, несовместимой с образом Подколесина вспыльчивости, – лежал на диване и разглядывал седой волос, а сзади подкрадывался Миша Давыдов – Кочкарев: «Ну, ничего, пошутил…» По словам Борисова, Давыдов играл Кочкарева лучше, чем он – Подколесина. Когда появлялся Миша, Олег злился, что он играет его роль – ведь сам Борисов получил Подколесина «на сопротивление». Герасимов говорил: «У тебя шило в одном месте, надо бы его вынуть…»
В середине 1980-х Давыдов заходил к Олегу в мхатовскую грим-уборную, и они вспоминали студийное время. «Знаешь, почему ты стал таким артистом? – задавал Миша вопрос Олегу и сам же на него отвечал: – Тебе удавалось анализировать себя с разных сторон, просчитывать все невозможные варианты, я же останавливался на одном – что лежало на поверхности. А помнишь, как педагоги говорили про нас “Хороший курс… а способнее всех Давыдов”?» 14 мая 1987 года Михаила Давыдова похоронили на Ваганьковском кладбище. «Пришло много людей, – записал Борисов в дневнике, – но говорить особенно не хотелось: и так понятно, к чему все идет… Миша четвертый с нашего курса».
В школьном танцевальном кружке, занятия в котором Олег некоторое время с удовольствием посещал (по той же самой причине, какая привела его в кружок художественной самодеятельности), ему говорили, что у него – ни много ни мало! – есть, вспоминал Борисов, «наклонности к героическому мужскому танцу». Маленькому ему говорили в школьном кружке: надо идти учиться танцам, но какое там хореографическое училище – в селе. Олег же был прыгучий, танцевал действительно неплохо. В одном из первых своих спектаклей в Киеве – «Учителе танцев», – когда его ввели на роль слуги Белардо (ввели после всего лишь трех полноценных репетиций), 22-летний Борисов танцевал так, что все диву давались. А уж когда играл Кохту – главного героя в комедии «Стрекоза» Марии Бараташвили, – то в классических кавказских ичигах такие па на носочках выделывал – профессиональным грузинским танцорам на зависть. Невесомость, подвижность, которую не всегда мог уловить глаз, легкость сродни с балетной – Борисов был неподражаем.