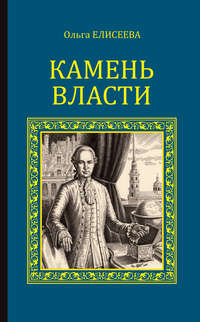Полная версия
Лев любит Екатерину
Злодейской ватагой верховодил, как оказалось, не сам государь, а один из его любимцев – атаман Овчинников. Мужик с крупной птичьей головой и кривыми, как ветки здешних берез-маломерок, пальцами. Он повез всех башкир в Берду, которая оказалась маленькой деревянной крепостью на носу у Оренбурга. Должно бы ей, Берде, защищать город, хранить от неприятеля, а она, словно легкая на согласие девка, поддалась после первого же приступа. Раскинула ноги и лежала теперь на спине, кося в небо татарскими глазами и чая радости от насильника.
Подъехали уже в сумерках. Усталые, голодные. Гости ли, пленники ли – неясно. Ни одна собака не брехала, и это наполнило души новым страхом. Вроде не мертвая слобода. Где же псы?
Еще издали Салаватка заметил под деревянным тыном широкую черную полосу, опоясывавшую стены. Она копошилась, двигалась, взлетала, как лохмотья вдовьего платка под ветром. Над ней царил неугомонный вороний грай. Одна из птиц взмыла в воздух и отлетела прочь, держа в клюве кус добычи. На нем что-то поблескивало. Овчинников мигом приложился из ружья. Ворона дернулась и камнем рухнула вниз. Упала под копыта лошади. Казак спешился, отшвырнул птицу, поднял с земли находку. Оказалось, человеческая рука, погрызенная уже собаками. На распухшем пальце кольцо. Атаман подергал – туго идет. Облизнул мертвечину, стянул, бросил руку на снег и сунул трофей за пазуху.
Салавата чуть не вырвало. Всадники уже ехали по вросшему в снег мосту. Недоверчиво зыркали по сторонам. У ворот их встретили три виселицы, чуть поодаль – еще пара. Ветер трепал на покойниках синие офицерские плащи. А дальше дома с тусклыми огоньками за слюдяными оконцами. Голоса. Смех. Бражные песни. Ругань. Хлопанье дверей. Казаки всегда живут шумно, особенно за чужой счет. А в Берде они жили на государевом довольстве – сыто, пьяно, грозно и весело.
Проезжая широкой улицей, Салават успел заметить кибитки, крытые где дерюгой, где коврами. Они теснились табором. Возле горели костры, слонялись женщины самой оборванной и жалкой наружности. Все они были русскими, и, приглядевшись, молодой бий увидел, что платья у них не крестьянского покроя. Это были жены и дочери убитых офицеров, завезенные победителями в свой вертеп и брошенные посреди Берды для всеобщего удовольствия. У них случалось много гостей. Казаки тянули несчастных за руки в телеги или просто к ближайшим домам. Те не сопротивлялись, получая за услуги где краюху хлеба, где подзатыльник.
Салават с тоской воззрился на большую, ярко освещенную избу, в которую их вели. Возле нее был палисад, затоптанный сотнями ног. У коновязи не меньше десятка лошадей. Окна со стеклами. Сразу видно, богатый человек жил. Может, сам комендант Берды? Старшину Элви и Салавата пустили внутрь, остальным велели ждать. Понурые всадники спешились. На площади перед домом им не хватало места, и они заводили коней в улицы, холстами стелившиеся от центра слободы. Лошади боялись здесь стоять. С непривычки ржали. Из всех углов несло мертвечиной.
Старшина Элви, как вошел в избу, сразу повалился на пол и ткнулся головой в порог. Салаватка вперед осмотрелся. Роскошно. Весь пол устлан коврами. На стенах кошмы. Вместо лавок – стулья. Стол с пузатыми, как вазы, ногами. Самозванец сидел под пустым киотом. Не слишком взрачный, с рябым лицом, с волосами, по-казацки постриженными в кружок. Без рубахи и без креста. Две девки в красных сарафанах мяли ему плечи. С первого взгляда было ясно – этот человек ест с ножа и не боится обрезаться.
Хозяин ласково указал башкирам на стол и кликнул какого-то деда принести чаю. Пил вприкуску, дробя здоровыми, как у лошади, зубами плотные куски сахара. А потом молвил так:
– Рад я, детушки, что вы привели с собой до тысячи всадников. Нам помощь нужна. Которые пойдут мне служить, тех пожалую. А которые станут отпираться – повешу. Здесь, в Берде, на всех пустых перекладин хватит, – и протянул гостям через стол руку.
Элви снова повалился в ноги и целовал смазной сапог царя. А Салаватка уставился на руку. Небольшая, в мелких рыжих веснушках, над запястьем курчавятся волоски.
– Целуй, – подсказала одна из девок, решившая, что дикий башкир не знаком со здешним обхождением. – Ни то удавят.
Салават ткнулся лицом вниз и вдруг почувствовал резкую боль. Самозванец схватил его пальцами за короткий нос. Под хохот вошедших в избу казаков он выволок сына старшины за порог и осведомился:
– Будешь служить?
Салаватка боялся двинуть головой и лишь часто-часто моргал, изображая согласие.
– То-то же, басурманская харя. Иди к своим. Я сегодня милостив.
Молодой бий вышел за палисад, махнул рукой, подзывая к себе конников Адналина. Выбора у них не было. Да и хотели ли они выбирать? Их миловали, принимали на службу. Чего же еще?
На следующий день к новоприбывшим соплеменникам приходил мулла Кинзей Арсланов. Благообразный, немолодой, с белой бородкой, росшей пучком, как у козла, не покрывая скул. Вместо шапки, он носил чалму и говорил степенно, то закладывая руки за кушак, то шевеля четками. Кинзей знавал Адналина и к его сыну отнесся дружелюбно.
– Это хорошо, что ты здесь, – сказал он. – Государь обещал все заводы сжечь, а земли отдать нам. Хозяев же Твердышева, Мясникова, Демидова повесить.
– А людей своих он куда денет? – не поверил Салават. – Тоже повесит? Их здесь почитай тысяч до десяти, а то и больше.
– Наше ли это дело? – покачал головой Кинзей. – На все воля Аллаха. Государь своих не любит – они его предали. А нас пожалует.
– Если он своих не любит, почему будет любить нас?
Сын старшины пребывал в сомнениях. Земли из-под Симского завода ему хотелось еще больше, чем офицерского чина. Но жизнь в Берде Салавату не нравилась. Душегубства много, а толку чуть. Оренбург как стоял, так и стоит. Что проку в казачьих разъездах под стенами? Или в том, что Самозванец каждое утро отправляется проверять посты? Однажды он поскакал пьяный, потерял стремя, чуть не рухнул с седла. Из крепости по нему начали полить, подкатили пушку.
– Берегись, государь! – крикнул один старый казак, подбирая повод Емелькиной лошади.
– Уймись, дед! – отвечал Самозванец. – Нечто пушки на царей льют?
И правда, двух подскакавших казаков убило. А сам Злодей даже хмеля по дороге не расплескал. Вернулся домой и завалился спать, потребовав пару баб, чтобы грели бока, и еще одну чесать пятки.
Когда новоприбывшим башкирам читали манифест: «Жалую вас верою и законом вашим, пропитанием, рубахами, портами, и будете, как звери степные», – Салават все косил глаза на сторону, все прикидывал, как утечь из проклятой слободы.
Ночью решился. На лошади через заставы не уйти. При въезде часовые. Вздумал пешком через ров, заметил, что в одном месте стена не так высока. Кубарем скатился в снег. Оскользнулся, вступил в ров и, закрыв лицо шапкой, шел среди смерзшихся человеческих тел, наступая на холодные руки и лица. Смертельно боялся ворон – вдруг станут клевать глаза? А следовало собак. Встретила его целая стая псов до пяти, крупные, наели бока. Молодой бий обнажил саблю, зарубил пару подступившихся к нему тварей. Остальные разбежались.
Пошел через поле. Потом лесом. До города недалеко. Там верные войска подберут Адналинова сына. Да только не дотянул с версту. Под утро уже прозяб, выбрел на дорогу. А тут, как на грех, разъезд из яицких казаков. Сцапали перебежчика, завалили в снег, петлей захлестнули руки, погнали назад. По пути кололи пиками, проткнули левую щеку в двух местах, ранили руку, спину спасла кольчуга.
Пленный спотыкался, падал, после ночи блужданий не мог шибко бежать за лошадьми. Это сердило казаков, и они решили покончить с ним возню у ближайшего оврага. Но, к счастью, на них наехал башкирский отряд старшины Элви, следовавший стрелять по Оренбургу. Соплеменники умолили казаков отдать сына Юлая, и те, наскучив, перебросили им веревку. Со своими Салават все-таки попал к городу, но раненый, усталый и совершенно не соображая, где его место.
Глава 3
Леди невозмутимость
Декабрь 1773 года. Санкт-Петербург
Статс-секретарь императрицы Иван Перфильевич Елагин застыл на пороге кабинета с почтой в руках. Дверь неслышно распахнулась. На посетителя пахнуло ароматом утреннего кофе, свежих французских булочек и яблочного варенья. Ее Величество, как обычно, намеревалась позавтракать во время работы. На турецком ковре перед камином дремала белая левретка. Тишина и умиротворение царили вокруг.
Когда-то британский посол лорд Бакингем назвал императрицу «Леди Невозмутимость». Прозвище прижилось. Глядя, как Екатерина, склонившись над конторкой, чиркает пером по бумаге, Елагин оценил справедливость слов дипломата. Спокойствие было написано на ее полном белом лице, точно умытом сливками. Государыня повернула голову и улыбнулась секретарю.
– А, Перфилич, здорово. Как почивал?
Отношения их были теплы. В домашней жизни императрица не терпела этикета. Елагина она знала около двадцати лет. Когда-то он служил канцлеру Бестужеву и, по приказу своего патрона, много общался с великой княгиней. Именно Елагин в день ареста канцлера успел сжечь бумаги, изобличавшие участие Като в заговоре. Тогда Ивану Перфиьевичу досталось. Он прошел по следствию, посидел для порядка месячишко в крепости, был сослан, но ни словом не обмолвился о делах своих покровителей. Когда через четыре года Екатерина вступила на престол, она вспомнила о нем и пожелала иметь при себе. Молчание – золото.
– Погоди маленько, – плавным жестом государыня указала на кресло у камина. – Я сейчас закончу.
От Елагина не укрылось, как поспешно она сунула в кожаную папку вчетверо сложенную страничку письма.
– Полистай, вон из Парижа прислали. Новые комедии.
Иван Перфильевич потянул с круглого малахитового столика толстенный конверт. Там были и ноты, и вырезки из газет, и крошечные, величиной с ладонь, уличные памфлеты для черни, осуждавшие королевскую власть – Екатерина все хотела знать о делах своих главных противников – и, наконец, пьесы, игравшиеся на Масленичном карнавале. Одна из них – «Севильский цирюльник» – наделала много шуму.
Елагин с крайним предубеждением воззрился на синеватые листы дешевой бумаги. Как Като не противно брать их в руки? О содержании он был наслышан. Автор камня на камне не оставлял от аристократии, церкви, брака…
– Господин Бомарше – большой шутник, – осторожно начал статс-секретарь. – В иной стране он лишился бы языка.
– Что-то ты, Перфилич, больно свиреп, – подтрунила над ним императрица. – Нынче в Европе костров из книг не складывают.
– А жаль, – Елагин почувствовал, что начинает злиться. – Зато у нас на Яике Самозванец не одну крепостицу запалил, пока мы с вами французские сатирки почитывали. Ничего, дайте срок. И в Париже полыхнет. Хоть бы черни такую писанину не подсовывали!
– Все имеют равные права на смех, – отчеканила Екатерина.
Елагин вспыхнул.
– До сих пор с господином Вольтером смеялись только партер и ложи. Но, поверьте, когда засмеется раек, королю станет не до смеха.
Екатерина всплеснула руками.
– Разве у нас беда стряслась оттого, что вы переводили Вольтера, а я правила ваши сочинения?
Иван Перфильевич потерял терпение.
– А от чего же?
– Оттого, что и совесть иметь надо! – вспыхнула императрица. – Наши дворяне никого, кроме себя, за людей не считают. В редком доме нет цепей, плетей и ошейников для наказания холопов.
– Как же, люди они! – Елагин перестал сдерживаться. – Поглядите, что эти люди выделывают! Я донесения принес. Офицеров живьем в землю закапывают. Девок насилуют, пускают по кругу. Имения сжигают вместе с помещиками и челядью! Вы с лорнеткою у нас третье сословие ищите, дворянство ругаете. А как Емелька нагрянул, где оно, третье сословие? Только дворяне еще и верны.
«Страх это, а не верность», – подумала императрица, но вслух сказала:
– Полно, Перфилич. Извини меня, я погорячилась.
Елагин чувствовал, что погорячился-то именно он. Но государыня имела обыкновение всегда мириться первой, и окружающие с удовольствием этим пользовались.
– Да и вы тоже хороши, – продолжала она примирительным тоном. – Кричите на меня, будто я горничная. К делу. Что там натворил этот недотепа Кар?
Секретарь раскрыл папку.
– Войска, которые Ваше Императорское Величество соизволили вверить генерал-майору Кару, разбиты. Сам он бежал в Москву, явился в Благородное собрание, откуда был изгнан негодующим дворянством.
– Русский бы этого не сделал, – болезненно поморщилась Екатерина. – Откуда узнали о случившемся?
– Ночью прибыл курьер из Первопрестольной. От генерал-губернатора князя Волконского. Сразу не решились будить.
– Напрасно, – императрица кивнула. – В другой раз не робейте. Я хочу говорить с ним. Он здесь?
– Дожидается за дверью, – секретарь поклонился. – Но осмелюсь доложить, целесообразно ли? Курьер сам на месте не был. Что любопытного он может рассказать?
– Ошибаетесь, – усмехнулась Като. – Какая мне нужда выведывать подробности разгрома Кара? Главное мы знаем: войско рассеяно, командир бежал. Нужно новое войско и новый командир. А вот Москва – другое дело. Полезно расспросить о тамошних настроениях.
Елагин пожал плечами и отправился к двери. В кабинет неловко протиснулся рыжий детина лет тридцати, курносый и конопатый до неприличия. Форма штаб-ротмистра Кирасирского полка сидела на нем, как детский кафтанчик. Ручищи торчали из рукавов, не по уставу обнажившись выше запястья. Фалды едва прикрывали зад. Впрочем, тяжелую кавалерию отправили в Москву не на парад. Императрица усилила кирасирами гарнизон старой столицы.
Увидев перед собой государыню, штаб-ротмистр так смешался, что рухнул на колени и не мог слова из себя выжать.
– Что вы, что вы, – испуганно воскликнула женщина, отпрыгнув назад. – Встаньте немедленно. Вы не себя, вы меня позорите.
Кирасир еще больше смутился, вскочил и вытянулся в струну. Государыня протянула ему руку.
– Целуй, дубина, – толкнул его в спину Елагин.
Курьер сочно, как кузине на именинах, чмокнул душистую царственную длань.
– Скажите, сударь, – обратилась к нему императрица. – Как в Москве приняли известие о бегстве Кара?
– С негодованием, Ваше Императорское Величество!!! – гаркнул штаб-ротмистр. Хрустальные подвески на люстре жалобно звякнули.
– Не ори, – снова ткнул курьера секретарь.
– Говорите спокойнее, – ласково улыбнулась Екатерина. – Так что же думают в Москве о Самозванце? Боятся ли?
Курьер глотнул и, переведя дух, сообщил вымученно ровным голосом:
– Все с негодованием приемлют вести, до Самозванца относящиеся, – это была единственная фраза, которую он сумел построить красиво. А дальше полезли какие-то обрывки: – Однако есть иные, которые и ждут. Из холопов. Гулящие люди. Бог весть, откуда их столько вдруг взялось. Чуваши, мордва, татары. Не знаю, как и набежали в Москву. Кабаки бы позакрывать.
Курьер испугался своей наглости. Кому вздумал советовать!
– Здраво, – ободрила его императрица. – Отчего же князь Волконский медлит?
Штаб-ротмистр на секунду расслабился и всей пятерней поскреб в затылке.
– Заколотишь двери в кружала, голытьба пойдет по улицам собираться. Что из того последует, вестимо. Два года как Москва отбунтовалась. У многих еще свербит.
Екатерина кивнула. Ей сегодня попался на удивление полезный собеседник.
– А купечество?
– Богатые купцы, слышно, хотят деньгами пособить. Смекают так, что от Оренбурга злодею путь на Казань, а оттуда уж и до Москвы не далече.
– А полки, расквартированные в Первопрестольной? Рвутся ли в бой? – последние слова императрица произнесла с легкой усмешкой, позволившей собеседнику не принимать их всерьез.
– Мало нас, – признался он. – Разговор такой, что, ежели не перебросят войска с юга, то нам здесь и помереть. Больно много с собой Самозванец народу волочет. А против него кто? Инвалидные команды?
Екатерина помрачнела. Здраво, здраво судил курьер. Да не его это слова. Общее мнение, которое лишь озвучено на сотни разных голосов, а, в сущности, повторяет одно и то же. Как их снять-то с юга, войска, когда война не окончена?
– Ну, хорошо, а что говорят о правительстве? – молвила императрица.
Штаб-ротмистр побелел и умоляюще уставился на Елагина. Но тот смотрел в окно.
– Говорят ли, что я, начав войну на границах, допустила мятеж внутрь державы?
Кирасир не знал, куда деваться от смущения.
– Что проспала Россию? Что бабе страны не удержать? Что правлю по рецептам французских безбожных философов? – голос у императрицы был вкрадчивый. Она все ближе подходила к собеседнику, и он чувствовал, как ему не хватает воздуха. – Что есть близ меня законный государь. Обиженный. Что подрос и пора бы…
Кирасир схватил посиневшими губами пустоту и готовился грянуться в обморок.
– Ну что вы так испугались? – рассмеялась Като, отступая от него. – Или сами в полку не болтаете? Не бойтесь. Вам ничего не будет, – ее, кажется, очень развлекал вид несчастного курьера.
Елагин, наконец, соизволил отлепиться от окна и кивнул штаб-ротмистру: можешь идти. Тот не чувствовал ног, когда выходил из дверей, не слышал ободряющего голоса секретаря:
– Чего вы, батенька? Жалки, немы. Ее Величество этого не любит.
Бедняга не помнил, как добрался до стула, и, стянув с себя парик, обхватил руками совершенно мокрую голову. «Теперь крепость», – думал он.
– Прикажите подробнее допросить? – бесцветным голосом спросил Иван Перфильевич, затворяя двери в кабинет. – Кто говорит? Как?
– Зачем? – пожала плечами Екатерина. – На каждый роток не накинешь платок. Важно, что шепот перешел в голос. А курьер пускай едет. Не трогайте его.
Через пару дней штаб-ротмистр рассказывал товарищам в полку:
– Держится она просто и ласково. Все, что про нее врут, знает. И хочется упасть на колени, крикнуть: «Не верьте, Ваше Величество!» – целовать руку и так умереть.
А служивые пожимали плечами и посмеивались:
– Хитрая стерва.
Январь 1774 года. Лагерь русских войск на Дунае
Рождество в лагере под Силистрией прошло весело. Пушки на сутки перестали лупить по городу, фейерверкеры заряжали их хитро придуманными снарядами и салютовали ввысь, горстями разбрасывая цветные искры по черному небу. Солдаты зажигали костры из фашин. Между неглубокими траншеями минеров крутились шутихи. Из-за огненного веселья была опасность запалить палатки. Но, слава богу, обошлось.
Офицеры не раз поднимали штофы в честь памятного рейда Потемкина за провиантом. Только благодаря кавалеристам Грица, праздник отмечали честь по чести: с пуншем, жареной на сломанных шпагах дичью, венскими колбасками и портером из Туманного Альбиона.
Повидавшие виды ветераны голодной осаду тоже не называли. «Прямо жируем, братцы!» – говорили они, запихивая в земляные печки собственноручно замешанные ржаные калачи. Поднимали ядра с деревянных крышек и отведывали из кадок кислой капусты: «Еще чуть-чуть и будет в самый раз». Для солдат выкатили бочки венгерского. Только часовым ничего не досталось. Но товарищи в нарушение устава носили им чарки опохмелиться.
«Бери нас теперь голыми руками», – думал Гриц, с неодобрением разглядывая хмельной лагерь. Но Румянцев знал, когда позволить армии пить-гулять. На много верст вокруг степь была расчищена от неприятеля. Турки ушли на юг за Дунай. Осажденные не решались делать вылазки, поскольку видели: враг вокруг города залег, как медведь в берлогу, и собирается зимовать сыто-пьяно.
Все господа старшие офицеры получили подарки от жены фельдмаршала графини Екатерины Михайловны Румянцевой, приславшей из Петербурга целый обоз. Тот-то хохота было в расписном шатре командующего, то-то шуршали бумагой и рвали ленточки. Как дети в Сочельник.
Даже любовнице мужа госпоже Черкасской, явившейся в лагерь перед самым праздником, графиня отправила презент и ласковое письмо. Увидев это, Петр Александрович прослезился, предложил за столом троекратно пить здоровье своей супруги и все повторял:
– Что за женщина! Знал бы, кто любовник, обязательно поздравил бы!
Но в том-то и дело, что Екатерина Михайловна была дама выше всяких похвал. Терпела неверность и шумные выходки своего барбоса, нарожала ему детей и всеми силами старалась выжать из нынешнего, высокого положения мужа пользу для семьи – подгрести именьица на Украине, определить сыновей к чинам повыше… Удивительного терпения, такта и снисходительности матрона! А если и были у нее свои грехи, про это история умалчивает. Жена Цезаря вне подозрений.
Утром прискакал давешний башкир на лошади Каплан-Гирея. На голове мохнатая шапка, золотая сабля в руке. Полы его синего парчового халата волочились по земле. Высоким был турецкий паша, а степняк – маленький, кривоногий. Но лучник не унывал.
– Домой поеду, свататься буду. У нас один мала мала богатый есть. Дочка не отдает. Скажу: смотри, какой халат! Какая сабля! Зачем такой важный? Давай сюда девка.
Гриц принял у него повод, поблагодарил башкира рублем за меткий выстрел и побрел на крутой берег реки посмотреть крепость – тоже ведь развлечение.
Силистрия сдаваться не собиралась. Ее склады ломились от хлеба, гороха, кукурузы и сушеного мяса. Мало ли что русские обрезали округу по самые стены. Как пришли, так и уйдут. Не впервые крепости принимать незваных гостей. Не впервые султану посылать ей помощь, не впервые месить под стенами снег с кровью. Только вот зима. Только вот холод. И ветер в степи. Не дойти сейчас подкреплению ни из Бухареста, ни из самого Константинополя. Но ведь и гяурам деваться некуда.
Видел Газы-паша, комендант Силистрии, сон на Рождество. Праздник неверных и сны на него неверные. Явилась ему сквозь морок бурана Жена, закутанная в Солнце и попирающая ногами Луну. Стояла она на узком серпе полумесяца, как на лодке, и плыла к крепости над серыми не замерзшими волнами Дуная. «Отдай, – сказала, – город». И голос ее был ласков, точно говорила с ребенком. Хоть и неразумное дитя, а свое. «Не жалко тебе, разве, вдов и сирот? Сдашься, русские их пощадят. Не откроешь ворота – пеняй на себя». И разломила руками золотой полумесяц. Поплыли, дробясь на воде, его осколки.
Газы-паша проснулся. Затеплил лампу. Пошел молиться. Велик Аллах! Не прорвутся гяуры. Пришлет Стамбул помощь. А не пришлет, так он, комендант, больше боится шелкового шнура с султанским благословением, чем Жены, закутанной в Солнце.
На следующее утро наладили русские штурм. Не самого города. Он стоял крепко. Но на подступах к нему, посередине реки, лежал островок, заметенный снегом. Турки не раз пытались переправиться туда, чтобы делать диверсии против осаждающих. В свою очередь, засевший напротив одноглазый командир – его Газы-паша высмотрел в подзорную трубу – установил батареи прямо на взгорье и сметал огнем всякого, кто пытался высадиться. Знал паша, чем приглянулся русским этот безымянный клочок земли. Они хотели навести понтоны, перетащить пушки и уже с него жарить по стенам. Но то-то и оно, что кукиш посреди реки простреливался и с турецкой стороны. Из укреплений в местечке Гуробалы.
И вот старый толстый командир двинул свои войска в лоб. А шустрый одноглазый ушел с кавалеристами вверх по реке. Зачем бы это? Что за блажь? Ведь пушки Гуробал не молчат. Бьют и взрывают землю островка, как быки копытами. Или эти несчастные думают, что можно верхом форсировать Дунай? Река, даром, что льдом не покрылась, струи ее холоднее булата. Только крылатые кони перенесут гяуров на турецкий берег.
Сивки-бурки фыркали и не хотели вступать в воду. Поартачились, но пошли. Потемкин поздравил себя с тем, что приказал кавалеристам пересесть на степных казачьих кляч. Породистые кони были бы погублены в эту переправу. Может, и переплыли бы, но потом все равно околели. А запорожским ничего, только отряхнулись и не шибко потрусили вперед на взгорье. Низенькие, коротконогие, лохматые, так что не сразу разберешь, где кончается шерсть и начинается грива. Их дразнили Коньками-горбунками. Вот на горбунках-то и форсировал корпус Грица зимний Дунай и ударил по Гуробалам. С ходу влетели на земляные волы, с которых били турецкие пушки. Опрокинули нечастые изгороди, мешки с песком, подожгли деревянные башенки игрушечной фортеции. Османы не ожидали увидеть русских так близко, не успели сбежать под защиту силистрийских стен. Думали, что такая пакость может приключиться только весной. А до нее еще ой как далеко. Обманулись.
Переправлявшиеся в лоб войска под началом самого Румянцева сразу поняли, что Гуробалы взяты. Потому что, тявкнув, захлебнулась последняя батарея, и наши вступали на островок уже без боязни. Затащили по понтонам мортиры, начали окапываться. Благо земля вокруг вся разворочена снарядами. Спасибо туркам, не надо долбить мерзлый грунт.
Кавалеристы в лагерь вернулись уже по наведенным мостам. Их бы приветствовали, как героев, но уж больно потешно они смотрелись с поджатыми под лошадиное брюхо ногами. Потемкин немедленно перелез на белопенного своего скакуна, поехал красоваться.